Дама Тулуза Хаецкая Елена
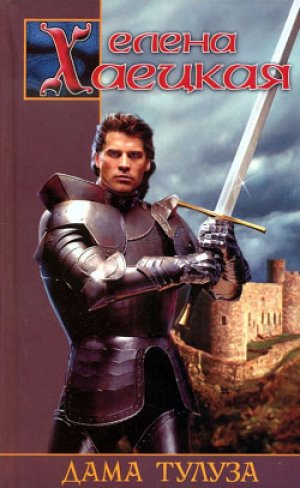
Симон кашлянул и плюнул, попав вигуэру на колено.
– Что – значит, просрал я Тулузу? Так вы ему писали? Звали его?..
– Мессен, – повторил вигуэр, – на самом деле…
У Симона вдруг сделалось горько во рту.
– Вы никогда меня не любили, – сказал он тихо. – Вы одного только своего Раймона любите…
Его брат, услыхав эти ревнивые слова, прикусил губу.
Симон поднял руку и торжественно проговорил:
– Клянусь Честным Крестом – я войду в Тулузу и возьму там все, что мне потребуется. Иисус мне свидетель, не сниму кольчуги и не положу меча, покуда не наберу от города заложников.
Вигуэр попятился. Оглянулся. Его спутники, лучшие люди Тулузы, стояли такие же бледные, растерянные. А огромный всадник над ним все грозил, грозил громким, хриплым голосом.
Заложники. Много. И не сброд, а самых знатных. Самых знатных.
– Эй! Хватайте их!
Два голоса, почти одновременно, почти слово в слово:
– Мессир, остановитесь!
– Мессир, не делайте этого!
Яростный взгляд – влево, вправо. Гюи де Монфор и рыцарь Ален де Руси. Та-ак.
Третий голос – снизу:
– Не совершайте ошибок. Сын мой, любимое мое дитя, вы будете потом горестно сожалеть…
Епископ Фалькон, пеший, без кольчуги, в одном только пыльном дублете. Стоит, запрокинув к Симону светлое, спокойное лицо. Разговаривает с графом бережно, будто с больным.
– Подождите несколько часов, сын мой. Совсем недолго. Подождите.
Симон тихо стонет сквозь стиснутые зубы.
– Прошу вас, – говорит епископ. – Я решу дело миром.
Симон молчит.
Фалькону подводят коня. Ловкий, как юноша, Фалькон садится в седло. Последний взгляд на Монфора – тот будто в странном сне.
Епископ гонит коня в сторону города. Десяток солдат мчится за ним – свита.
Симон долго смотрит им вслед. Переводит взгляд на вигуэра. Вигуэр лежит лицом вниз, пачкая одежду из превосходной дорогой ткани, а на спине у него сидит солдат и сноровисто вяжет ему руки. Еще несколько лучших людей Тулузы валяются снопами в таком же положении. Остальные стоят на коленях, белые как мел.
У Симона проясняется, наконец, в глазах.
– В замок их! – кричит он. – В подземелье! На цепь!
– Брат! – Гюи хватает Симона за плечо. – Брат! Остановитесь!
Симон стряхивает руку Гюи и обкладывает своего брата последними словами.
* * *
Осадив коня у Саленских ворот, Фалькон кричит, чтобы посторонились и дали дорогу. Человек двадцать горожан, вооруженных чем попало, толкутся, преграждая путь. Толкутся бестолково, как овцы. Но вот среди них трое, одетых похуже, а вооруженных получше… И еще один – в кольчуге, и осанка у него что надо, и меч на бедре ладный, и глядит спесиво и с вызовом.
Конные за спиной у епископа сердятся, шумят.
Тот, со спесивой рожей, хватает лошадь епископа под уздцы.
– Назовитесь, – требует он. – Сперва назовитесь, мессен.
Фалькон произносит свое имя. Тотчас же один из горожан – кому и раньше красивое, скучноватое лицо всадника показалось знакомым – выскакивает вперед:
– Это же наш епископ!
– Какой же он «наш»? – Спесивец отворачивается от Фалькона. – «Наш»? В армии Монфора?
– А разве Монфор – не наш граф? – спрашивает простодушный горожанин.
Фалькон повышает голос:
– Скорей, пока не случилось беды!
Лошадь мотает головой. Спесивец выпускает поводья, отступает в сторону. Фалькон теснит горожан.
– Расступитесь! Дорогу! Дайте дорогу!
Он врывается в город. Десяток мчится за ним. Спесивец орет им вослед от Саленских ворот:
– Какая еще беда?..
Улицы наполнены громом копыт. Отряд растянулся. Более двух в ряд даже на самых широких улицах не помещается. Сворачивая в переулок, Фалькон едва не сшиб женщину с угольной корзиной на голове. Корзина обрушивается на мостовую. По камням рассыпается уголь. Прижавшись к стене и пропуская мимо епископа со свитой, женщина плачет и бранится. На волосах у нее сбилось покрывало, грубого полотна, в черных пятнах.
* * *
Симон, не глядя, бросает на руки своего сына Гюи плащ и пояс с мечом, так что Гюи совсем погребен под этой грудой и делается как бы невидим.
Навстречу отцу выходят Амори – старший сын, наследник – и сенешаль Жервэ. Симон здоровается с сенешалем, дружески обнимает старшего сына, прижимает к широкой твердой груди. Спрашивает на ходу – как мать, как другие дети, здоровы ли.
– Не озорничали? – спрашивает Симон, оглядываясь во дворе. – Донжон не уронили?
Хохочет.
Не по-доброму смеется отец, исполнен гнева и тревоги. Амори совсем не весело, когда он видит это, однако и Амори улыбается тоже. Попробуй не улыбнись, если граф Симон шутку изрыгнул…
В раскрытые ворота на веревке, будто полон, тянут лучших граждан Тулузы. Всех – числом сорок один, во главе с вигуэром. Обернувшись, Симон все с той же недоброй ухмылкой глядит.
И Амори глядит. Радость от встречи с отцом сменяется на его лице заботой.
Симон говорит своему сыну Амори:
– Это заложники.
Амори молчит. И Жервэ молчит.
Симон повторяет (а ухмылка все шире, и беловатая корка в углу рта – засохшая слюна – трескается):
– Я взял от Тулузы заложников.
Амори молчит.
– Я хочу, чтобы вы разместили их в казематах, какие посуше.
– Хорошо, – говорит Жервэ.
Заложников загоняют во двор. Ворота с грохотом отхлопывают их от равнины, от Гаронны, от милой Тулузы. Солдаты – у многих сохранилась неизгладимая печать палестинского солнца – опускают полон на колени. Пусть ждут, что уготовил им граф. Они пленные, у них времени навалом. Пленным торопиться некуда.
Амори разглядывает их издалека. Забота все глубже бороздит его молодые черты. Кое у кого из заложников лица уже расцвечены побоями.
– Как их много! – говорит Амори отцу.
– Будет еще больше!
Симон отвечает громче, чем нужно. Пусть слышат. Пусть все слышат, даже те, кто с радостью отвратил бы слух от него, от Симона – Симона де Монфора, графа Тулузского.
– Господь с вами, мессир! – вырывается у сенешаля Жервэ. – Не слишком ли сурово вы поступаете с этими людьми?
А Симон – на весь двор – р-ряв:
– А коли и впрямь вздумает Тулуза бунтовать – повешу их на стенах. Одного за другим. Одного, – тык пальцем в сторону полона, – за другим – за другим – за другим… – Вытянув вперед темные, навсегда сожженные солнцем крепкие руки в белых шрамах: – Своими руками! – И, к Амори, без всякого перехода: – Где ваша мать?
– Ждет вас, мессир. – Амори показывает, где.
Все дальнейшие хлопоты о заложниках Симон переваливает на сенешаля, а сам широким шагом направляется к башне – туда, где ждет его дама Алиса.
Гюи, брат Симона, всё еще остается за стенами замка. Он возвратился к арьергарду и теперь следит за тем, чтобы все сеньоры с их отрядами разместились на равнине, не чиня излишних беспокойств друг другу.
* * *
Тулуза тревожится.
Тулуза знает за собою грех и потому страшится.
* * *
Фалькон влетает на площадь, распугивая беспечных кур, резко осаживает коня перед самым собором Сен-Сернен. Тотчас же двое из его свиты подбегают, чтобы помочь епископу оставить седло. Фалькон задыхается. Однако едва лишь его ноги касаются земли, как он отталкивает поддерживающие руки и опрометью бросается в собор.
Споткнувшись о нищего, всполошив двух унылых богомольных старух, врывается в ризницу.
– Где аббат?
Находят и приводят аббата. Тем временем Фалькон уже пробудил от сонного полузабытья ленивого дьякона. Дьякон устрашился и в одночасье сделался усерден.
А Фалькон отдавал приказы – будто пожар тушить прибежал.
Велел звонить.
Велел созывать народ.
Распорядился послать за консулами, за нотаблями и членами большого совета. Вынь да положь Фалькону нотаблей. Хоть из-под земли!..
Сомлев в страхе и неизвестности, Тулуза, едва только заслышала колокола, встрепенулась: вот оно!.. Сейчас все расскажут, все разъяснят!.. Что – как там Симон? Очень ли гневается? Будет наказывать или нет? И если повесит, то кого?
Сейчас!.. Сейчас!..
Площадь и базилика быстро заполняются людьми. Конники Монфора, отряженные в епископскую свиту, вздымаются над толпой. То и дело расталкивают людей, чтобы освободили путь для городской знати: тем место не на площади, а в соборе.
На ступенях, среди нищих (те-то уж рады-радешеньки приключению), утвердился Кричала – передавать толпе на площади слова, говорящиеся в соборе. Одним ухом Кричала в базилике, другим – вовне, на площади.
Вышел Фалькон – как был, в запыленной одежде, без надлежащего облачения, с одним только посохом в руке.
– Кто это? – понесся шепот.
Фалькон заговорил.
– Возлюбленные дети! Что вы натворили? Зачем подвергли себя смертельной опасности?
Этот голос – высокий, ломкий – многие узнали, ибо нередко слышали его прежде.
– Вроде, епископ это, Фалькон, – зашелестели голоса в паузу, пока Кричала надрывался на ступенях: «Зачем, говорит, опасности себя подвергаете? Смертельной!»
– Фалькон, Фалькон. Епископ. И посох у него.
– Мало ли что посох! Если б в ризах – тогда да, конечно. В ризах – тогда был бы Фалькон, а то…
– Дурные вести доходят до графа Симона, вашего доброго господина. Будто бы за его спиной Тулуза задумала предаться в руки еретиков.
– «За спиной у Симона, значит, Тулуза предалась еретикам! – вот что подумал Монфор», – драл глотку Кричала, а в толпе внимали, ужасаясь. – «Симон о том возьми да проведай! Вот что случилось!»
Тихий, от сострадания трепещущий, голос старого епископа:
– Я знаю, что это неправда. Господь знает, что это неправда. Этого не могло быть. Тулуза клялась Симону в верности. Не могла солгать Тулуза.
И столько спокойной убежденности в словах Фалькона, что слушатели его в то же самое мгновение проясняются лицами, просветляются взорами и невольно кивают головами, доселе клонившимися под тягостью дум. Ну конечно же, не может лгать Тулуза!.. Тулуза никогда не лжет. Вот и Господь это знает.
– Симон, граф Тулузский, в сильном гневе.
– «Гневается Симон. Зол ужасно!» – самозабвенно орет Кричала.
– Я знаю, каков в гневе Симон де Монфор. Вам же лучше не знать этого, ибо гневается он на вас.
В соборе – молчание. Кричала выплевывает на площадь:
– «Симон, говорит, на нас в страшной злобе. Того и гляди в клочья порвет»!
И дает петуха.
Кто-то, захлебываясь, кашляет под самой кафедрой. Консулы растревоженно смотрят снизу вверх – на Фалькона.
Епископ продолжает:
– Возлюбленные дети! Я научу вас. Вы не должны бояться Симона, хотя бы он и сердился на вас. Ведь вы не ведаете за собою никакой вины.
Кричала молчит. Задумался. В толпе начинают наседать:
– Что он говорит? Что епископ сказал?
– Говорит, будто нет на нас никакой вины! – сипло орет Кричала. Те, кто подобрались слишком близко к нему, шарахаются, будто их криком отбросило, – так неожиданно он завопил.
Фалькон в соборе уговаривает – негромко, проникновенно:
– Забудьте страх. Тулузу и Монфора связывают узы, наподобие брачных. Смело идите к нему. Покажите ему, что вы покорны его власти, а он не прав в своих подозрениях. Граф Симон глубоко верует в Господа. Он устыдится.
Кричала надсаживается:
– К Монфору идти советует! К ногам этого франка пасть! Покорность показать! Говорит – тогда, мол, простит…
Собор еще почтительно внимает епископу, а площадь уже волнуется.
– Монфор – франк! Что еще ему на ум взбредет?
– Знаем мы, как повинную голову меч не сечет! Очень даже сечет! Сам сек…
Из-под кафедры спрашивает епископа один из консулов:
– Боязно нам отдаваться в руки Монфора. Кто его знает, Симона? Он – франк…
– Я его знаю. Его знает Церковь. Граф Симон гневлив, но отходчив. Доверьтесь мне. Я сумею вас защитить. Вы же сейчас смело ступайте к Монфору и защищайте Тулузу. – Фалькон тяжко переводит дыхание. – Договоритесь с ним по-хорошему. Пока еще можно… Я удержу его руку.
Время уходит – неудержимо утекает, и с каждой песчинкой в часах его становится все меньше.
Толпа на площади шумит, да так громко, что уши начинают болеть. Откричавший свое Кричала сидит на ступеньках среди нищих. Те делятся с ним водой и дружески давят пойманную на Кричале вошь…
Еще чего – к Симону идти! В ноги ему пасть! Ему в ноги падешь, а он тебя как раз этой ногой по морде – только зубы подбирать успевай. Нет уж, лучше к Саленским воротам идти, там, говорят, Спесивец баррикадой улицу загородил.
Другие возражают. Монфор к Нарбоннскому замку целую армию привел. Видали – вон уж и шатры ставят, и костры палят, над кострами что-то жарят. Последнее дело для города с графом ссориться, если он и гневлив, и армию привел. Да и Фалькон обещал за руку Монфора удержать…
Первые – свое:
– Станет Фалькон за нас заступаться! Фалькон – католик; он с Симоном заодно.
– Господь с вами, конечно же Фалькон – католик. Кем еще ему быть, коли епископом в Тулузе поставлен?
Спросили Кричалу. Он-то почти что в самом соборе был. Хоть одним ухом – а епископа самолично слышал. Как, стоит Фалькону верить?
Кричала плечами пожал, сказал сипло:
– По мне так, хоть все они в огне сгори. Жила бы Тулуза.
Все сразу, объединившись, загалдели. Вот ведь от души человек сказал! Сразу видать – из-под самого сердца слова вынул. Да, добрая речь.
И так, согласно кивая, разошлись: одни пошли к Спесивцу баррикаду крепить, а другие – за Саленские ворота, на поклон к Монфору.
* * *
Симон имел обыкновение мыться чуть ли не крутым кипятком, поэтому вода, хоть и остыла немного, но все же оставалась горячей.
Гюи, сын Симона, просидел после отца в деревянной ванне, пока не сомлел. Грязи – что с отца, что с сына – натекло предостаточно. Родственная грязь: потревоженная пыль одних и тех же дорог.
Наконец, Гюи выбрался на волю. Оставляя мокрые следы, прошлепал к лавке, где бросил одежду.
Аньес, заискивающе улыбаясь, подала молодому господину рубаху, помогла натянуть на влажное тело. Ребра, позвонки, ключицы, острые лопатки – всего Гюи обежала пальцами. Мил он ей.
Гюи дал себя одеть, позволил огладить. На лавку плюхнулся, вымолвил со вздохом:
– Ох. Устал…
И вдруг ухватил Аньес поперек живота и, весело визжащую, подмял под себя.
* * *
Знатная баррикада получилась у Спесивца. Воздвиг ее (и многие спешили ему в помощь) напротив Саленских ворот. Только что это за ворота, если стены снесены? Одно воспоминание осталось.
Спесивец не стал дожидаться исхода разговоров Симона с городом. Будто бы и без того не понятно, чем эти разговоры закончатся. Большой кровью они закончатся.
Горожане – и страх им, и вместе с тем праздник – выбрасывали из окон всякий хлам, с превеликой охотой жертвовали баррикаде рухлядь, обломки и даже крепкие вещи, несли старую мебель, мешки с соломой, дрова. От строительства возле собора Сен-Этьен похитили и доставили бревна и кирпичи. Все это наваливалось на пересечении двух улиц и обильно сдабривалось сверху битыми горшками.
Нарбоннский замок хорошо виден отсюда, с баррикадной верхушки, где Спесивец и его друзья-удальцы в ожидании событий подкрепляют силы хлебом и разбавленным вином. Передают из рук в руки флягу, перешучиваются, переругиваются, пересмеиваются. В ставни нависших рядом домов, озорничая, стучат: вдруг оттуда красивая девушка выглянет.
Оружие – заостренные палки, копья, топоры, пращи, два неплохих арбалета и у Спесивца рыцарский меч.
Передний вал баррикады щетинится десятками кольев, направленных на замок, – как бы в оскале.
Нарбоннский замок. Средоточие могущественного монфорова гнева.
Вот видят Спесивец и остальные: по соседней улице движется процессия во главе с нотаблями. Торжественно колышется знамя, красное с золотым крестом. В задних рядах горожане, из тех, кто поплоше, усиленно тянут шею: разглядеть бы, что там, впереди. Нестройно распевают Veni Creator, выкликают: «Монфор!» и «Тулуза!» – сочетание имен невозможное, несбыточное.
А навстречу шествию, рассыпавшись по пустому полю, отделяющему город от замка, мчится другая толпа. Что-то кричат на бегу, только разобрать невозможно за дальностью.
В головах процессии видят, что у Нарбоннского замка творится неладное. Замедляют шаг, а то и вовсе останавливаются. Сзади топчутся, наседают.
У самых ворот один людской поток встречно сливается с другим. Хвост процессии продолжает завывать на все лады Veni Creator, а в воротах уже водоворотом вьется паника. Нотабли пытаются развернуть назад. С поля все прибывает и прибывает испуганного народа.
– Назад!.. – кричат беглецы. – Монфор!..
Сзади напирают:
– Монфор! Монфор! Тулуза!
– Скорее!.. В город!.. Симон взял заложников!
Над головами шевелится красное полотнище, вспыхивает золотой тулузский крест.
– Назад!.. Назад!.. В город!..
Беглецы втискиваются между нотаблями – белые от страха глаза, тяжелое дыхание.
– Симон! Симон велел убивать всех!
Страх прокатывается по толпе, как судорога по умирающей змее.
– Назад! Назад!
Знамя исчезает. Несколько солдат из свиты Фалькона окружены слепой от ужаса толпой. Солдаты испуганы не меньше. В них летят плевки и угрозы, угрозы и плевки – но это только до первого удара. А после уже не остается от них ничего, что можно было бы похоронить по-христиански.
По телам, растоптанным в кашу, оскальзываясь, толпа несется обратно в город.
Спесивец, стоя на верхушке баррикады, размахивает руками – зазывает:
– Сюда! Сюда!
Многие бегут к нему, под защиту баррикады. Другие, будто одержимые жаждой, растекаются по улицам. Возле епископской резиденции остались еще люди Монфора.
Обманом проникли в город! Нарочно проникли! Убивайте всех! Убить их всех!
Франков гонят, как дичь. Франков всего шестеро – но вооружены; но защищены кольчугой и шлемом; но бьются отчаянно, не разбирая, кто попадает под удар – мужчины или женщины, старики или дети.
Франки погибают один за другим, все шестеро. Их тела волокут к баррикаде.
Спесивец велит снять с убитых оружие и все ценное, раздеть и усадить на баррикаде в непристойных позах. Это исполняется с восторгом. Мертвецам связывают руки, заставляя держаться за уд. Все кругом хохочут и радуются, будто только что одержали величайшую победу.
Еще несколько баррикад преграждают доступы к Дораде и Капитолию. Тулуза пьяна собственным мужеством.
Пусть приходит. Пусть только сунется.
* * *
И сунулся – Гюи, брат Симона, его друг, его цепной кобель. С ним сотня всадников – тяжелая рыцарская конница – и десяток лучников. И еще старший сын Симона – Амори.
От всадника до всадника – большое расстояние. Широко рассеялись по всему полю и потому кажется, будто их очень много. Сперва медленно, а затем все быстрее и быстрее – разгоняя лошадей, криком грея в себе ярость – конница накатывает на город.
Тулуза ждет, готовая содрогнуться под первым ударом.
Все ближе, ближе…
Ворвались – сразу в нескольких местах. Загремели, заголосили по улицам, не глядя ни вправо, ни влево. На скаку разрубали и кололи все, что шевелится: человека, свинью, собаку – ни перед кем не удерживали руки.
Из окон, с крыш на конников вдруг дождем посыпались камни, обломки черепицы, палки, горшки – что ни попадется. Лошади пугались, шарахались.
Вылетев за поворот, Гюи резко натянул поводья. Первая баррикада едва не насадила его на колья. Обернувшись, Гюи закричал тем, кто шел следом:
– Назад! Бароны, назад!..
С трудом развернулся на узкой улице. Конь упрямился, тряс головой и вдруг заржал, оседая на задние ноги. В его бок, пронзив простую белую попону, вонзилось длинное копье. Гюи успел выдернуть ноги из стремян. Падая, конь придавил его. Гюи страшно закричал. Один из франков, спешенный, уже бежал к нему.
Гюи с трудом высвободил из-под конской туши руку. Солдат выволок симонова брата, и оба они тотчас пали на мостовую, хоронясь от стрел и камней. Не поднимая головы, пятясь, отползли назад и скрылись за углом. Конь, истыканный стрелами, остался громоздиться перед баррикадой.
– Зажгите баррикады! – крикнул Гюи, вскакивая на ноги.
К нему подлетел Амори – светлые волосы, широкое лицо.
– Дядя! У Дорады и дальше, за Капитолием, – там улицы перегорожены.
– Наденьте шлем, – сказал ему Гюи.
Лучники уже срывают с плеча колчаны, вынимают стрелы, загодя обмотанные соломой и тряпками, – все быстро, молча, привычно. Один за другим выскакивают из-за угла, посылают в баррикаду горящие стрелы – и снова скрываются.
Вскоре вся улица затянута дымом. В огне скрываются и туша коня, и мертвые франки, насмешки ради выставленные перед баррикадой, и острые зубы-колья.
Спесивец и его сотоварищи бегут сломя голову прочь и с ними вместе спасаются и жители соседних домов. Пламя, весело треща, растет, поднимается выше, зализывает ставни домов, нависающих справа и слева…
Сопровождаемый пожаром, Гюи отступает на север от Саленских ворот, к собору Сен-Этьен.
– Тулуза! – кричат со всех сторон. Из окон, с крыш. И вместе с этим кличем изливаются на людей Монфора нечистоты, мусор, битые горшки, камни.
– Бокер! Тулуза! Тулуза!
Перед конными бегут, припадая к стенам, лучники. Нависающие над первыми этажами более широкие вторые спасают пеших от града камней, которым горожане осыпают конников.
– Быстрее, бароны! – кричит Гюи де Монфор. – К Сен-Этьену! К Сен-Этьену!
Стремительно повернувшись, Гюи ищет взглядом Амори. Старший сын Симона цел. Вот он наклоняется, подхватывает на коня лучника – у того разбита голова. Слепой от крови, лучник обвисает в седле, тяжко наваливается на Амори.
Сжимая зубы, Амори скалится. Амори очень похож на Симона.
Гюи кричит:
– Племянник! Наденьте шлем!
В следующее мгновение мир для Гюи меркнет. Голова – благодарение Создателю, защищенная шлемом – наполняется гулом, сквозь забрало течет что-то липкое, вонючее. Гюи хватается за шлем, срывает его. Из шлема выливается зловонная желтоватая жидкость. Гюи кашляет, плюется. Повсюду сыплются камни и палки. Ругаясь, Гюи вновь надевает шлем.
Последний поворот.
Вырвавшись из теснины улиц, как из западни, на площадь перед собором Сен-Этьен, Гюи оглядывается. Епископская резиденция спокойна – островок невозмутимости.
За спиной у Гюи, возле Саленских ворот, дымится, готовясь запылать, город.






