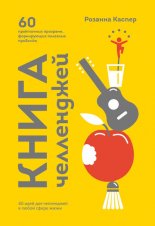По велению Чингисхана Лугинов Николай

Ни от Сюбетея, ни от Джэбэ пока нет ни единого вестника.
Где они? Не сложили ли свои неокрепшие крылья под вражьими стрелами и не лакомится ли седой ворон их кровавыми останками? Это их первый дальний поход, и не к кому подскакать за советом и наставлением. А если Кучулук и Тохтоо объединятся и выступят встречь? Они быстро остудят два разгоряченных погоней тумэна.
Значит, нужно отправить сына Соргон-Сура, молодого Чимбая, для осады мэркитской крепости Тайхал, чтоб никто не мог просочиться из крепостных укреплений на помощь своим, чтобы ни гонец, ни почтовый голубь, ни свет тревожного костра не оповестил своих.
И Чимбай осадил крепость Тайхал по велению Чингисхана, взял ее в плотное, как удавка, кольцо. Одно войско сменяло другое день и ночь. И хотя Чимбай приказал не обстреливать укрепления, не метать в крепость китайского огня, не рыть подкопов и не подходить к стенам на расстояние полутора полетов стрелы, а тем более не иметь урона от вражеских копий, нашлись два лихача, кинувшиеся с боевым кличем на ворота Тайхала с востока. Однако оба были заарканены и казнены: их отрубленные головы виновато щерили зубы, лежа у ног палача. Об этом было доложено Тэмучину.
Он крепко держал в руках нити и, как опытный ткач, составлял из них картину бытия, как паук, плел паутину, зная, где и кто из врагов пребывает.
Но ничего не знал о Джамухе кроме того, что, отделившись от найманов, он бежал в сторону Алтайских гор с остатками войска. Джамуха – великий воин, он может грянуть как удар грома, что возвещает ливень с ясного неба. Алтайские горы простираются далеко и причудливо, в каждую лощину и темную пещеру не заглянешь глазами даже выносливых лазутчиков. Джамуха и его люди превратились, похоже, в камни и деревья.
Приближенные хана ненавидят Джамуху с пылкостью собак, лающих вслед бегущему верблюду. У них есть на это право, поскольку ни один из могущественных врагов Тэмучина не действовал так, по их мнению, вероломно, а хан все равно поминает Джамуху теплыми словами. Уж не околдован ли?
Но не приязнь ли Джамухи к Тэмучину и не верность ли андаю заставили его остаться хладнокровным в пылу минувшей битвы, забыть о своем крутом норове и покинуть боевые порядки найманов, тем самым поломав их окончательно?.. И это не трусость, не предательство – надо знать андая с его отчаянной храбростью и презрением к смерти, с его умом, которому нет равных, и вспыльчивостью, следствием которой всегда является глубокое раскаяние. Тогда он бывает беспощаден к себе, но никто не знает, чем обернется это раскаяние для его нукеров: не новым ли походом ради самого похода?
А каким шутником был он в ранней юности! Только успевай слезы от смеха со щек смахивать. Но как бы он нынче не пошутил, напав на Тэмучина, – тут уж будет не до смеха.
И Тэмучин отдал приказание войскам, которые расположены вблизи ставки, днем и ночью находиться при оружии.
Конюхами ведали младший брат отца хана Аччыгый-тойон с Бэлгитэем, и рвение их хан находил похвальным. Чтобы поберечь лошадей, без них обходились на зимних облавных охотах: таас уранхаи выстругали и выгнули лыжи, подбили их лосиным мехом и по хорошему снегу щедрой зимы далеко убегали за добычей. Насушили много мяса, наготовили много колбас из вареной крови, кишок и сохранили лошадей – крылья летучего войска.
Таас уранхаи – люди спокойные, простые и неприхотливые. Кроме ездовых лошадей, они держат в достаточной мере коров и оленей, питаются от рек и тайги, а горы знают так же хорошо, как старуха содержимое сундука. Они упорны ровно настолько, чтобы не идти на попятную, если берутся за гуж, легки на ноги, осанисты, широки в плечах и узки в поясе. От степняков-уранхаев они отличаются языком: говорят не на монгольском, а на тюркском. И еще: они накрепко привязаны к сородичам.
Хорошо зная великого кузнеца Джаргытая и считая его родней, как и сыновей старика Сюбетея и Джэлмэ, уранхаи приняли власть Тэмучина без сомнений, рассуждая примерно так: «Сюбетей и Джэлмэ – доверенные тойоны Чингисхана. Они – великие сыновья нашего рода. Они торят тропу для наших потомков. Будем служить и мы: одна кровь – одна судьба».
Вот так, к вящему удовольствию и радости Чингисхана, кроме выдающихся бойцов – урутов и мангутов, в его стане обнаружились добрые и неподневольные сторонники, выносливые добытчики, привычные к зною и холоду, к лишениям. Они найдут дичь в любом лесу, рыбу – в любой луже, благодарность – в каждом сердце.
– Подведите мне лучшего коня, – будучи у табунщиков, попросил Тэмучин, не сходя со своего пегого.
Заарканили, подвели огненно косящего, норовистого.
– А теперь – худшего!
Но и худшего надо было еще суметь заарканить.
А ведь степь еще и не зазеленела.
Большая забота свалилась с плеч Тэмучина под ноги отзимовавших лошадей, под ноги табунщиков.
Забота упала под ноги сытых коней – тревога родилась под ногами боевой конницы: ну, покорил ты, Тэмучин, Великую степь со множеством племен, но стал ли могучим ханом? Как пойманные рыбины выплясывают на песке путь к реке, из которой их вынул рыбак, так и непокоренные народы стремятся к привычному. Что делает рыбак? Крупной рыбе ломает хребет, мелкую до поры швыряет в сосуд с водой, и она успокаивается в иллюзии свободы, плавники ее шевелятся, жабры дышат… Но это рыба, не человек! Что является той рекой, в которую стремится человек? Его род. Что есть река для рода? Его племя. Что есть река для племени? Язык и обычаи предков. Почему же мы не можем стать большими и однородными, как Байхал, куда впадает множество речушек и рек? Все дело в вожаках, в их гордыне и жажде самоуправства: стоит Тэмучину ослабеть численностью воинов или показаться малым перед надвигающейся на него силой противника, как тут же следует ждать мятежа, бегства, удара в спину.
Какими путями, хан, идти к их сердцам, к общей правде бытия?
Можно идти к ним путем длительных переговоров, убеждать. Но где взять досуг? Где весы, где тот безмен, на котором можно взвесить значительность ханских слов?
Второй путь – вступление в родственные связи, путь накатанный, испытанный поколениями предков. Но применителен ли он к тебе, хан? Разве у тебя нет сердца, которое бьется в грудной клетке каждого из твоих челядинцев и тойонов? Разве твоя птица не из той же стаи? Ты не волен, когда приводят к твоему ложу незнакомую и молвят: «Вот твоя жена, хан!» И это – паутина власти, сотканная пауком времени и обычаев. Ты отличаешься от глупой осенней мухи лишь тем, что влетаешь в эту паутину, сознавая волю Бога: ведь ты, хан, будучи повелителем земных людей, как никто из них остро осознаешь себя Божьим невольником, рабом. В этом твоя избранность – в осуществлении воли Божьей, хан. Так что не унывай, женись!
Разве плохую жену выбрал тебе Джэсэгэй-батыр? Разве хотун Борте не любовь и опора твоя? Затем пришла Есуй, а привела ее Ожулун. Вместе с дочерью татарского хана пришли в твой стан и мореподобные татарские орды. Есуй оказалась не только красива и ласкова, но и умна: едва переступив порог твоей юрты, она упросила новую родню найти свою старшую сестру и взять ее третьей женой. И это после двадцати лет твоего единобрачия, а плох ли конечный счет? Да кончен ли он: одна Ыбаха перетянет все светлое во мрак, она одна, как ветер над полем одуванчиков, оголит стебель души, и душа покажется себе одинокой. Вот Ыбаха так Ыбаха! Вот уж кэрэитское семя!
…Некогда они, кэрэиты, кочевали по бывшим уйгурским землям Халхи, а шли от племени бикин, что сродни найманам, которое кануло в бездну времени бесславно. Первый государь кэрэитов Мэргуз Буюрук-хан был замучен цзиньцами-джирдженами, которым отдали его, полоненного, татары. Престол перешел к старшему сыну Худжатуру, а уж потом к ван-хану Тогрулу. Тогрул сделал вид, что забыл, кто замучил его деда, когда принимал от цзиньского императора титул «ван», но и великий батыр Джэсэгэй, и его сын Тэмучин помогали ему удерживать престол в битвах против гур хана и младшего брата Эрке, что был в союзе с теми же найманами. Да, они помогали, но не сами кэрэиты: они постоянно бузили как против своего хана, так и против Тэмучина, будучи вроде бы в союзе с ним. И тогда, не желая крови и распрей, Тэмучин взял в жены дочь единокровного брата ван-хана Джаха-Хамбая, и имя ей было – Ыбаха. Ну, Ыбаха так Ыбаха, ан нет же, обернулась упрямой, своенравной, ревнивой и злокозненной! Как и ее сородичи, не единожды битые и прощенные Тэмучином, которых он считал не врагами, а всего лишь военным противником, не хотели быть равными среди многих, так и она, одна из жен хана, все считала себя ущербной, ущемленной, обиженной своим положением! Поговаривали, что она смущает мирный дух и той части кэрэитов, которая готова длить свои дни в согласии с волей Тэмучина. Что ж, теперь еще и со своенравными мэркитами идти к миру той же тропой?.. Мало того, что Угэдэя женили на дочке старшего сына Тохтоо-Бэки и мэркиты все равно не признают за хотун девятилетнюю Дергене, так его самого, о ком уже кочуют легенды по всей Поднебесной, мать хочет женить на мэркитке!
И весь он, как горящее от удара молнии дерево, был охвачен огнем раздражения, когда ему передали, чтоб зашел к матери на ужин. Ума его хватало, чтоб понять: ешь ужин и думай, кому сужен.
Однако пошел, бренча неслышимо бренчащими бубенчиками ханской свободы. Надо идти. Мать есть мать. Против ее воли и хан бессилен.
– Какая нужда? – спросил Тэмучин, входя в сурт матери, как во владения рыси.
Но Ожулун по-кошачьи неслышно двинулась к нему, обняла и он почувствовал на своем горячем лбу прикосновение прохладного носа матери: она гладила его по голове и обнюхивала, как в давнем детстве.
– Ох-хо-хо, – размягчаясь, только и вздохнул сын.
Ожулун налила кумысу в золотую чашу и позвала его:
– Садись со мной рядом, Тэмучин… Не сверкай глазами – здесь врагов не отыщешь, как ни старайся… Разве Мухулай тебе враг? Войди, Мухулай!
Явился из тьмы Мухулай, встал и потупился.
Явился и Джэлмэ и стал озирать стены сурта, будто видел их впервые.
Тэмучин, выигрывая время, медленно выцедил кумыс, утерся рукавом халата.
– Хороший кумыс! – сказал он. – Помнишь, Мухулай, как тебя лягнула кобылица около третьего часа дня?
Давно это было… Все правильно сделал Мухулай-подросток: натянул меж двух кольев веревку и привязал к ней жеребят тех кобылиц, которых надо подоить. Одна, вороная и горячая, все не давалась, пряталась за других, а в конце концов приложилась копытом к худому плечу Мухулая так, что он кувыркнулся через голову и расплескал уже надоенное молоко.
– Помню-помню! – с готовностью отозвался Мухулай, и колени его перестали трястись. – Надо было, чтоб жеребенок ее пососал… Она б тогда не того, она б меня не тронула…
– А ты помнишь, как ты за ней с копьем по степи гонялся, убить хотел? – продолжал Тэмучин.
– Хе-хе! – засмеялся Джэлмэ. – Хэ-хэ-хэ! Хорошо, что не по голове!
– Вот я и говорю! – повысил голос Тэмучин. – Вот я и сомневаюсь: а не по голове ли она его тогда приласкала?!
– Нет, нет! – замотал головой Мухулай. – По плечу, по плечу, хан: ты же сам видел!
И Джэлмэ поспешил поддержать:
– Если бы по голове – укатилась бы в степь голова!
– Хорошо… Значит, он в своем уме, – облегченно вздохнул Тэмучин. – А ты, Джэлмэ? Тебя бешеная лисица не искусала часом?.. Опять меня сватать пришли?
Вмешалась Ожулун:
– Ты зачем это так яришься? К чему на слуг своих верных без причины страх нагоняешь? Погляди: у них все поджилки ходуном! Один нищий харачай делает, что хочет: у него воли хоть отбавляй, да кроме воли нет ничего! – она говорила, словно железо чеканила. – Никто не собирается встревать в твои военные тайны и дела! А вот на ком жениться – это не только твое дело, это обычай предков, это жребий хана!
Тэмучин глянул на Борте – плечи ее тряслись.
– Не плачь, Борте! – повысил голос Тэмучин.
– А я не плачу! – повернула лицо к огню старшая жена, она смеялась.
– Тогда не смейся! – клокотала ярость в его груди. – Иди отсюда!
Но Ожулун рубанула ребром ладони теплый воздух сурта, как бы пресекая уход Борте, и та, уже вскочившая, изготовившаяся к бегству, опустила глаза и сама опустилась на войлок.
– Где это видано, чтоб родовитый хан выбирал себе жену, как боевую лошадь? Твоя судьба определена Всевышним Богом-отцом, затем Господом Джылга-ханом… И они, я думаю, не испрашивали у тебя совета, где тебе родиться: среди джирдженов или среди монголов. Так?
– Да уж, – он поглядел на донышко пустой чаши.
Ожулун взяла из его рук чашу, наполнила ее кумысом и вернула, говоря на ходу:
– Мы – это я, твоя мать, Борте – твоя старшая жена-хотун и два поверенных – Джэлмэ и Мухулай решили взять Гурбесу-хотун к себе в ставку. Прежнее ее положение, ее высокий чин обязывают нас лишь воздать ей должное. А тебе ее никто навязывать не собирается.
– Пхе! – недоумевая, Тэмучин хотел скрыть это. Он плеснул глоток кумыса в огонь, отпил из чаши и засмеялся так, что кончики усов западали в широко раскрытый рот, а на снеговой белизне зубов забликовало пламя очага.
Соратники тоже хохотали, и головы их отбрасывали тени, которые метались по стенам сурта, как колотушки для сбивания кумыса.
– Довольно веселиться! – успокоила их Ожулун. – Вы воины, а не весенние девицы! Замолчите!
И когда смех выдуло из сурта словно сквозняком, продолжала:
– Теперь, хан, мы сильны как никогда и нам нет нужды в кэрэитах – они готовы растерзать своих, как стая стервятников своего слабого! Пусть знают место – мы отдадим Ыбаху-хотун заслуженному воину Джаргытаю! Она коротка умом для своего нынешнего положения, для того, чтобы зваться хотун. Это будет осаживать и других своенравцев, их немало. Согласен?
Хан слышал, что со времен предков водился обычай дарить своих молодых жен отличившимся военачальникам, и относился к этому, как ребенок к сказке, а вот когда коснулось самого, то он стал раздваиваться. Так раздваивается человек между сном и явью.
«Уруты – люди суровые, – думал он. – Они зажмут кэрэитов, как лисица – мышь, и не дадут им разлохмачивать языки в бунтовских заговорах…»
– Что ты смотришь на меня, как ребенок, выклянчивающий вкусного сыру? Согласен, говори?
– А почему нет? Вы же без меня меня женить любите. Решили так решили…
– Ну вот! – светло улыбнулась Ожулун и оглядела своих любимцев. – Ты что-то хотела сказать, Борте?
Борте поняла ее:
– Ты забыла про Хулан!
Заговорили и Мухулай с Джэлмэ:
– Хулан забыла… Как же так? Хулан… Хулан…
Ожулун сокрушенно качала головой, обхватив ее руками:
– Да-да-да… Как же я так? Уж слушай все сразу, Тэмучин… Лучше все сразу сделать для благополучия своего народа… Не напрасно же Белый Всевышний Тэнгри поставил тебя ханом над этими бесчисленными родами… Ты подчинил себе мэркитов, а они многоноги и неразумны в гордыне. Привязать их накрепко можно только одной крепью.
– Опять жениться? – прищурился Тэмучин. – Может, уж на главе рода хаас мэркитов, на самом Дайыр-Усуне?
– Его дочери Хулан скоро семнадцать.
– Молодцы-ы-ы! – Тэмучин от бессилия смеялся сокрушенно, как бы поощряя неразумных, ну-ну, давайте-давайте. – То на старухе, то на внучке… Очнитесь!
Ожулун тоже смеялась, видя, что сопротивление Тэмучина – это всего лишь понятное желание сохранить лицо. Она гордилась умом и выдержкой сына.
– Хулан вырастет… Созреет, как бутончик.
Ей вторили тойоны:
– Войдет в пору… Красивая мэркитка… Звонкая, как струнка, мэркитка… мэркитка…
«…Кто они, эти мэркиты? Китайцы числят их среди монгольских племен, хотя они тюрки. В давние времена они прикочевали смежно с ойратами откуда-то издалека, от восточных морей – так гласит предание. Иначе кто научил бы их строить деревянные срубы, крытые берестой, и города-крепости, откуда их тюркское наречие и умение разводить лошадей?..» – размышлял Тэмучин, не замечая, как девушка-служанка внесла в сурт два серебряных подноса с жареными потрохами и мясом, которое снято лентами с только что убитого барана. Глядя на огонь, он не замечал и того, что Ожулун, засучив рукава, уже сдабривает мясо пряностями, но их запах дразнил обоняние. И от мыслей об огромности мира и человеческих тропах в нем Тэмучин погрузился в мысли о давнем голоде, сглатывая обильную слюну: «Мы избегали встреч с двуногими и забивались в норы, подобно барсукам и тарбаганам… Это мать не дала нам околеть от голода, зверенышам-детенышам. Она, бессонная и неугомонная, забывшая дневной свет, в зубах носила нам пищу, а в пригоршнях воду. А старая Хайахсын? Разве не она, дряхлая волчица, твердила нам, что хану достойно делать, а что – позор? Это она, Хайахсын, хранительница силы духа и посланница великих Айыы, разгибала их ханские спины. Она и им говорила сказки об Ичэ-кэчике, маленьком мальчике с большим умом…»
Тэмучин не забыл ни одной, а самую таинственную сказку помнил дословно:
«Один раз Ичэ спросил: «Мать, скажи, где мои родители, где мои люди?» Мать говорит: «Нет, сынок, нет». «Как нет? Я не один должен быть, есть. Еще должны быть. Мать, я сожгу тебя!» Мать говорит: «Вот раньше были у тебя: сродный брат, сестра, дядя… И пришел дьявол ли, кто ли, их сгубил». – «Ладно, пойду». Сел на коня, поехал. Ну, долгое время не возвращался. Она боялась: «Куда девался сынок? Что сделалось с сынком?» Потом смотрит – сын скачет: «Мать, приготовь еды». – «Ой, сынок, ты опять, сынок, сдурел?» – «Мама, готовь. Дядя и братишка едут». – «Ты что, сынок, давно их в живых нету». – «Едут, едут». Сын схватил волчьи шкуры и стал выстилать путь к сурту. А сам прыгает, радуется. Мать вышла – верно. Слыхать: копыта цок-цок… цок-цок… Мать смотрит – и правда, они едут. Ичэ прыгал, прыгал, упал и помер. Спешились брат и дядя. «Что, – говорят, – для того ты нас звал, племянничек? Мы пришли, а ты помер?» Ичэ захохотал, вскочил, пошли домой…»
– Проснись, проснись, Тэмучин! – трясла его Борте. – Еда поспела
Пал Тайхал.
Гонец, на кончике языка доставивший эту веселую весть, сам оказался в осаде из плотного кольца детей, нукеров, женщин, которые сопровождали его к сурту Тэмучина. Даже собаки в недоумении оглядывали друг друга, словно испрашивая дозволения лаять или не лаять на суматоху.
Но едва эта радостная весть достигла слуха Тэмучина и еще не высохла кровь непокорных мэркитов Тайхала, как восстали мэркиты, добром вошедшие в Тэмучиново войско и жившие в опасной близости от ставки. Не затем ли человек имеет два уха, чтоб в одно влетала добрая весть, а в другое – плохая? Столкнувшись в голове, они высекают искры гнева и непонимания: хан тут же вскочил на коня, устремившись в мятежную ставку, окруженный телохранителями. Он не укрыл тела кожаными латами и мог пасть от любой, даже не изощренной стрелы, но старый глава ставки Усун-Туруун упредил возможную беду. Старика вело провидение, когда он, обосновав северные ставки и без потерь минуя земли жестоких хоро-туматов, вернулся на родину с послушным своей воле и закаленным в походе войском накануне мятежа и жестоко подавил смуту. Мэркитов, кто остался в живых, загнали в глубокую промоину, по дну которой журчал ручеек. Выступивших из уговора тойонов привязали к деревьям на опушке леса.
Когда прискакал взъяренный Тэмучин, то увидел на опушке следы жестокой схватки, пронзенные стрелами тела нукеров и ивовые щиты, обезображенные сабельными метами лица убитых и раненых. Он увидел лошадь, что тщетно пыталась вырвать зубами застрявшую у крестца стрелу и ходила как заколдованная по кругу, и ржание ее было красноречивым, понятным сердцу степняка.
Над поляной уже кружили стервятники, издали чуя свежую кровь.
«Лучшие мои люди!.. – кипел Тэмучин. – Они убиты в спину!»
Осторожно, чтоб не попасть под горячую длань хана, подал голос старый Усун-Туруун.
– Хан, люди взбешены! – сказал он. – Предательство не должно быть безнаказанным. Может, порубить всех мэркитских главарей у них на глазах, хан?
Боорчу подлил масла в огонь, сказав:
– Мы у них даже оружия не отняли, а они ударили в спину! Грех! Если мы их не укоротим на голову, то зараза погубит нас как поветрие, хан!
– Соберите погибших, – не глядя ни на кого, приказал Тэмучин. – Их надо похоронить и побеспокоиться об их ставках в другом мире…
Он замолчал, понурив голову и оглаживая конскую шею жесткой ладонью.
Живые склонялись над мертвыми, собирая оружие, одежду, – ничего из имущества убитого не должно пропасть. Таков обычай, который должно выполнять всем, кто решил жить одной жизнью с борджигинами. Китайцы тем и велики, что живут древними законами, что запечатлены на рисовой бумаге. Джирджены завоевали китайцев, но приняли древние обычаи побежденных и так перемешались с китайцами и растворились в их быту, что поди разбери: кто из них истинный китаец, если не знать презрительную кличку «нуча», которой китайцы удостоили джирдженов. И не напрасно старая Хайахсын учила отпрысков Джэсэгэя устоям и этикету китайского завода. Бедная старуха и занялась-то этим, возможно, от неизбывной тоски по родине, но как пригодился Тэмучину строгий порядок, заведенный раз и навсегда.
«Подстрекателей и давних ненавистников – уничтожить, – решил уже хладнокровно Тэмучин. – Остальных отдать нашим людям как черных челядинцев… Ни оружия, ни коней не давать… Пусть выбирают теперь – что лучше: жить одной семьей или рассеяться рабами по всей степи! Иметь свободу в большом или иметь лишь кусочек черного войлока на случай болезни и бесславной смерти!»
…Небо темнело. Но мысли хана словно бы просветлели. Все шло, как в здоровом теле: рана, нанесенная мятежом, рубцевалась едва ли не на глазах, и во исполнение обычая люди готовили кумыс и мясо для тризны, носили из лесу дрова для очистительных костров – во всем виделся порядок, означающий силу и уверенность.
Кто-то накинул на плечи Тэмучина лисью шубу с шелковым подбором, нежнее которого лишь объятия Борте.
– А-а, это ты, Боорчу, – сказал он, не оборачиваясь: тепло расслабляло.
– Я, хан, – ответил Боорчу. – Кто бы еще посмел?
– Верно, – легко вздохнул Тэмучин и тронул коня.
Глава четвертая
Хотун-хан Ожулун
Надо отдать должное уму и такту хуннов, табгачей и тюрков. Они относились к окрестным народам как к равным, пусть даже непохожим на них. Идеологии периферийного варварства они не создали. И благодаря этому, при неравенстве сил, они устояли в вековой борьбе и победили, утвердив как принцип не истребление соседей, а удержание своей территории – родины – и своей культурно-исторической традиции – отечества. И потому они просуществовали свои 1500 лет и оставили в наследство монголам и русским непокорную Великую степь.
Теперь, когда весь арсенал этнологической науки в наших руках и мы знаем о невидимых нитях симпатий и антипатий между суперэтносами, настало время поставить точки над i в вопросе о «неполноценности» степных народов и опровергнуть предвзятость евроцентризма, согласно которому весь мир – только варварская периферия Европы.
Сама идея «отсталости» или «дикости» может возникнуть только при использовании синхронистической шкалы времени, когда этносы, имеющие на самом деле различные возрасты, сравниваются, как будто они сверстники. Но это столь же бессмысленно, как сопоставлять между собой в один момент профессора, студента и школьника, причем все равно по какому признаку: то ли по степени эрудиции, то ли по физической силе, то ли по количеству волос на голове.
Лев Гумилев. «Черная легенда»
Коня Ожулун звали Серый Хоро.
Каждый его год был втрое против человеческого, но ход старика стал таков, что хоть чаи распивай, сидя на его спине, – влага из сосуда не расплещется. Потому, когда женщины собрались и поехали на гору Хорхонох за целебными травами, то Ожулун не усидела в мягкой арбе и, едва удалившись от ставки, перебралась на спину Серого Хоро.
Он, разумник, дождался своей всадницы, ее скупой ласки и отозвался на легкое поглаживание теплых ладоней по гриве долгим и молодым ржанием: прекрасна степь в весеннем соку разнотравья!
«Не надышаться, не наглядеться…» – радовалась и его хозяйка, рожденная на севере, но давно отвыкшая от высоких кряжистых гор, от лесистых склонов и камнепадов. Как повзрослевший ребенок, что познал в путешествиях и походах манящую необозримость мира, только в случае опасности вспоминает материнские ладони, так и она думала о севере, где много великих гор и потаенных пещер, таежных схронов, в которых могут незаметно жить и плодиться не один десяток племен. Но позволительно ли человеку борджигиновых кровей жить подобно горным зверушкам? Степь опасней… Здесь немалая часть мощи и сил уходит на охрану жизни человека и рода, но можно ли жить вне этой широты и воли, уподобляясь тарбаганам?
На протяжении всего своего длящегося века Ожулун впадала из нужды в нужду, но, как перепелка крыльями, укрывала свое гнездо, как лисица из потревоженной норы, в зубах переносила своих детенышей в укромные непотревоженные убежища. То кэрэиты, то мэркиты грозили огнем и мечом… То найманы силились смешать их род с земным прахом, вынуждая ее с несмышленышами уходить на север и отсылать немногочисленные сюны в такую даль, откуда посланные уже не возвращались, обоснуя тайные ставки. А теперь? Ее сын, потомок того, кто, уходя от Алан-Куо, матери Бодончора, взбегал по лучам небесного светила, словно желтый пес – он победил многих из многих, но тревога и дурные предчувствия живут в сердце Ожулун, как серые мышата в закутках сурта. Кто вновь нападет на Тэмучина? Неисчислимые ли тьмы Алтан-хана джирдженов со стороны восхода? Или тангуты с полуденной стороны? А что мешает кара-китаям и сартелам обрушиться со стороны заходящего солнца? Хоро-туматы с десятками вольных племен, как снежный буран, могут налететь с севера… На кого опереться Тэмучину? Кто равновелик ему и есть ли такие среди сотоварищей?..
«…Тьмы и тьмы муравьев выживают непосильным трудом, выстраивая свои хитроумные сурты, что восходят остриями к небу! – думает хотун, опустив поводья и предоставляя Серому Хоро неспешно плестись в хвосте каравана. – Велик их общий ил, где каждый делает свое дело… Бурундуки же в голодные зимовки убивают себя, вешаясь в рогульках ветвей, – таково мужество розных… Когда же мы станем семьей, большим суртом, восходящим острием к небу?..»
Она думает о Тэмучине и жалеет его: могучим напряжением сил, слиянных с нечеловеческой хитростью и величием души, достигал он побед. И эти победы тут же становились предметом дележа, разъединяющего народы, – всяк считал себя несправедливо обделенным почестями и дарами. Всяк исподтишка скалил клыки, вынуждая Тэмучина к жестокости, а получая ее – копил в душе обиду на судьбу, обиду, которая тупит ум юношей и старцев, забывающих прежние страдания и унижения. Алчность и себялюбие превращают сосуд человеческой жизни в груду битых черепков.
«Коротка… ох, коротка людская память! – сокрушается Хотун-хан и нечто похожее на сухой огонь презрения сквозит в ее взгляде и повороте головы, когда она смотрит на движущиеся арбы со спины своего Серого. – У всех две ноги, две руки, одна голова… Почему же судьбы и помыслы одних устремлены высоко, а другие шкодливо стелются поземкой, прячут глаза, вынюхивают, где пожирнее запахи жареного, словно у них в черепах не мозг, а кишки… Может быть, не все люди – люди?!» – ужасается она и не хочет думать дальше, проникать мыслью туда, где оглушительно хохочут духи, знающие тайну бытия. И Ожулун одергивает себя, вспоминая, что не так давно и их, борджигинов, не считали за людей те, кто вследствие своей заносчивости теперь пресмыкается перед ними, вчерашними изгоями.
«Нет, деточки! Нет!..» – мысленно обращается она к челяди, к молодым невесткам, к Хайахсын, которая уже два дня как собирает с ними целебные травы в горах. Потом Хайахсын станет учить молодых готовить из трав и кореньев снадобья и приправы, примочки и зелья. Два дня пролежала Ожулун с головной болью и потому не ушла со всеми в горы, а встала на ноги, благодаря этим самым старинным лекарствам из трав. Однако уже успела сама обеспокоиться мыслью о безопасности женщин-заготовительниц и обеспокоить бессменного главу ставки, старого полководца Усун-Турууна.
– Кто охраняет гору Хорхонох? Сколько человек? – спросила она, волнуясь и охлаждая еще горящее жаром лицо влажной тряпицей.
– Гора небольшая… – ответствовал старик. – Два сюна хватит с избытком, хотун-хан…
– О каком избытке ты возомнил? Ишь, мудрец китайский, а? – деланно возмутилась Ожулун и укоризненно постучала себя кулаком по лбу. – У тебя что: две головы на плечах, а одна из них лишняя?
Усун-Туруун с достоинством воздел глаза ко лбу, словно считал головы. Посчитал и сказал:
– Голова одна, хотун-хан… – глаза его смеялись.
– Что же решила твоя единственная голова?
– Отправлю на усиление охраны еще два сюна, хотун-хан.
– И все?
Усун-Туруун догадлив:
– Остальное – тайна, ведь на горе никого нет. Кого там охранять?
Ожулун поняла и одобрила:
– Так! Но что ты сказал сюняям? Что они делают на подступах к горе Хорхонох?
– Велел, чтоб никого не подпускали к горе и не дозволяли никаких неожиданных перемещений вблизи ее! Они ничего не знают!
– А кто-нибудь… живой там есть? Обитает?
– Только пастухи двух бараньих отар и пять-шесть коневодов, хотун-хан! Люди мирные, как и их овцы…
– Так слушай же меня в оба уха, несчастный! – повысила голос Ожулун и швырнула тряпицу с благовонной влагой в темень сурта. – И невестки мои с их наперсницами как овцы! А где овцы, там и волки! Поезжай, скачи к тойон-сюняям и скажи им, кого они охраняют: тайна нужна, но она не должна застить глаза доверенным людям! Что, если в лесах укрылся какой-нибудь недобитый враг и ему не надо даже проникать сквозь кольцо сторожевых псов? Что будет тогда с твоими подопечными, а значит, и с тобой, старик?!
– О, достойнейшая мать достойнейшего из сыновей! – рухнул на колени не на шутку взволнованный старый воин. – О-о! Можно скрыть бедность – нельзя скрыть глупости! О, воистину глуп тот, кто считает себя хитрее других!
Ожулун подошла к нему и показала рукой ладонью кверху:
– Встань, бедняга Усун-Туруун! Пока ты будешь каяться в несодеянном и неслучившемся, оно случится и содеется! Пора в путь!
Старик встал, прикрывая левой рукой левое же колено, лицо его являло само смирение.
– Что ты там прячешь под рукой? – заинтересовалась Ожулун.
– Штаны лопнули, – растерянно ответил Усун-Туруун, – прямо на коленке…
– Уж больно ты усерден в ползаньи на коленях! – съязвила Ожулун. – Почему так обносился: скуп или беден?.. Как будто мы тебя обошли почестями и богатством.
– Кому чужды излишества, тому не страшны лишения! – бодрясь, отвечал старик, но ладонь от лоскута на колене не отнимал.
Тогда Ожулун ласково улыбнулась ему, достала из сундука шаровары тонкой козлиной кожи и милостиво протянула Усун-Турууну.
– Держи ханские! В дороге переоденешься – скачи!
– Ты сказала! Я услышал! – старый воин удалился, а хотун-хан словно бы ожила и повеселела: тугодум-то он известный, но каков служака! Побольше бы таких – исполнительных и бессребреных. Она ожила и вот едет по вытканной разноцветьем степи, где еще не потемнел ковыль и не забронзовела полынь, над которой еще высоки и легки барашки облаков в небесной лазури – простор и воля…
Земля Айыы, превращенная в ристалище, – на все ли это времена?
Как укрепить строй жизни степных людей?
Сколько можно жить в постоянном ожидании беды, окружая себя караульными, надежность которых не всегда выдерживает проверку делом? Сколько можно сторожить самим себя?
После разгрома найманов чингизиды видят из тьмы горящие взоры вождей великих соседей – они горят зеленым огнем злобы и зависти: что удержит их от искушения осадить набирающих силу выскочек?
Обо всем этом Ожулун намедни спрашивала сына, а он отвечал ей:
– Надо бить их, пока они не объединились как раз в то время, когда внутренняя наша жизнь с ее неустойчивостью дает им повод рассчитывать на военный успех…
– Значит, опять война? – робея, как девочка-подросток, идущая по ночному лесу, уточнила несомненное и очевидное Ожулун. И великий человек – ее сын и вождь – отвечал ей:
– Опять война… Что делать? На то не наша воля. Нас вынуждают.
Ах, как же хорошо было в старину – Хайахсын поведала ей многое из того, что знала о старине! Разве сравнишь давние войны и нынешние! Те похожи на детские игрища. Мать Хайахсын сказывала ей, что от каждой стороны враждующих выходили на поединок по одному батыру. Поединки шли в присутствии всех воинов или населения осажденного города, которое вываливало на крепостные стены и с криками, воплями, угрозами и оскорблениями супротивных наблюдало за поединком. Сам бой шел по образцу большого сражения: сначала – перестрелка, потом – рукопашная, где в ход идут все подручные средства, а если рукопашная повергала одного из поединщиков в бегство, то начиналось преследование. Хайахсын показывала в лицах, как выезжают на поле боя противники и оскорбляют, ярят один другого: «Эй, бараний курдюк! А покажи-ка нам, какие у тебя стрелы водятся! Ну! Стреляй, кобылья сиська!» «Начинай первый, птицеголовый утенок! А-ха-ха! Вот так стрелы у тебя – из утячьего гузна! Где ж тебе со мной совладать!» – кричал один после неудачных выстрелов другого. Входя в раж, тот отвечал: «Ты что за человек? Ты смердящая куча, навозная лепешка!» – «Молчи, не зунди, комар: посажу тебя на ладонь и прихлопну!..» Хайахсын рассказывала, как спешивались богатыри и лупцевали друг друга лиственничными дубинками: «Бах! Ба-а-ах! Кольчуга – хр-рясь!» – и щекотала маленького Тэмучина, а он, смеясь, уворачивался. «Где кольчуга, где кольчуга?» – щекотала Хайахсын и устремляла один палец к ребрам мальчугана: «Одна стрела летит… две стрелы летят… три-и-и!» – И он, отзываясь звонким смехом, колотил воительницу по смуглым и еще молодым тогда рукам. «Эй, ленивая нерпа!» – кричал он, когда ему удавалось убежать обессиленному смехом…
– Опять война, – эхом повторила Ожулун. – О, горе, горе… А со своими-то соседями посоветовался? Надо бы заручиться их поддержкой.
– А это смотря кого считать своими… – невесело и жестко заметил Тэмучин. – Пока мы в силе, своих больше. Но что будет после первой же серьезной неудачи?
«Где та кольчуга, что защитит его от вероломства и предательства! – думала Ожулун, едучи по весенней степи на спине своего Серого Хоро. «Бедный мой сын… Хоть бы еще дал мне сил Господь! Хоть бы еще несколько лет и зим побыть ему подпоркой – ведь он один во всей Вселенной, как и суждено быть повелителю! О Джэсэгэй, где ты? Молодость моя – весна степная – минула без тебя… Но по колено в поту и крови твой сын все же взял Степь под одну свою руку, сделал то, о чем написал на камне древний тюркский государь… Да, где-то живут люди с глазами на груди, люди с одной ногой, на которой они прыгают выше деревьев, а в песках Хун-Хорохой живут люди с глиняными головами и хан их – Песчаный Удав, но и они покорятся, никчемные, нашему сыну, когда придет время после войн… Наступит ли это время еще при моей жизни в среднем мире?.. Вот я задала сыну самый трудный вопрос:
– Когда ты воспитаешь своих братьев, как воспитывал тебя Джэсэгэй-батыр? Ты, умеющий и в стане врагов находить себе верных сторонников и слуг, не возвысил ни одного своего родственника и брата! Каждый остался у своего бурдюка с кумысом!..
Тэмучин терпеливо отвечал:
– Я сам мучаюсь от этих мыслей. Но не получается. Нельзя сказать, что в службе они нерадивы. Но они не умеют довольствоваться малым и не хотят понять, что это – остов большой судьбы… Они лишь кичатся высокородством своим, прямо-таки чувство особой значительности выпирает изнутри, губы выпячивают: я, я, я… Им бы урвать побольше да поспорить там, где их совета не спрашивают, когда дело уже решено! Понимаешь?
– Не понимаю!
– Тогда вспомни Хасара… В прошлый раз я поставил его главным над основным войском – и что?
– Что, Тэмучин?
– Будто ты не знаешь, что он возомнил одного себя победителем в том бою!..
– Еще до своего рождения Хасар бился в моем чреве, как пойманная в силки птица! Он не давал мне спать тогда, не дает и ныне! Таков уж он есть, и это все знают… Но почему же ты умаляешь значение основного войска в той битве? Почему люди смеют говорить, что все решилось без него?
– Я не пытаюсь принизить Хасара, мама… У каждого войска свое назначение, но на этот раз ударные силы найманов разбились о силы передового отряда Сюбетея и рухнули еще до вмешательства основного войска Хасара! Конечно, если бы волна найманских ратников докатилась до брата, он не дрогнул бы, знаю… Но в том бою основное войско довольствовалось малым – вот Хасар и исходит паром!
Я упрямилась:
– Нет, нет и нет! Что бы ты ни говорил, но ты обязан тянуть братьев к вершинам власти, воспитывать их… Они нынче у тебя как мелкие порученцы!
Он взял мою руку и поднес ее к своему лицу, лег щекой на мою заскорузлую старческую ладонь, говоря:
– Никто вдруг не становится полководцем, родная… Посмотри хоть на Бэлгитэя: в мирное время вместо того, чтобы обучать нукеров на охоте, чтоб осваивать азы строя и маневра, новые чужеземные машины и боевые доспехи, письменность, он только чешет язык о зубы, как шелудивый пес свой бок о колесо кибитки! И при этом ему, как лесной сойке, лишь бы трещать погромче… И не важно, кто перед ним растопыривает уши: высокородные, черные ли челядинцы! Он унижает своих тойонов на виду у нукеров! Он нетерпелив, чванлив, мелочен до злопамятства – и это военачальник? А возьми Аччыгый-тойона – это же лягушка, спешащая к болоту! – он, смеясь, отстранился от моей ладони, и мы встретились глазами: – Прыг-скок! Прыг-скок на лошадку – и спать… спать… спать…
– Уж больно ты умен… – но осуждения в голосе не слышалось. – Аччыгый понимает в лошадях, как никто…
– То-то и хорошо! – согласился Тэмучин – и за свое: – Братья мои… Взять Хачыана – научился лить кумыс в глотку, не двигая кадыком, а?! Хорош бурдюк, да тесьма тонка!..
– Да где же я тебе возьму других братьев, сын! Надо этих обуздывать, как положено старшему по возрасту, и хану к тому же!
– Это уже не ко времени… – вздохнул он. – Моя опора, мои четыре основных столба – Борохул, Сиги-Кутук, Кучу и Хохочу, четыре твоих приемных сына, четыре выкормыша… И знаешь, почему я в них уверен?
– Догадываюсь.
– Скажи сама.
– Да что уж говорить. Они не гнушались никаким трудом сызмальства… Они от войны к войне старались отличиться один перед другим, себя не жалея… Но ты – хаган, ты – хан и ты должен…
Он расправил мощные плечи, говоря:
– Я человек из крови, мяса и костей. Я, как и все, устаю…
– …ты должен тянуть свою кровную родову к вершине!
– А ты помнишь нашу первую радость в войнах – победу над мэркитами? Помнишь ты ее?..
– Как мне ее забыть? Помню, сынок…
– Тогда я сказал родне: я управлял вами, но победили мы вместе и благодаря вам. Я сказал: враг в ваших руках, решайте судьбы поверженных. Хотите – дайте им волю, не хотите – Бог вам судья, смотрите сами! Помнишь? Что тогда утворили Алтан с Хучаром? Они своей кровожадностью вскормили в мэркитах ненависть, и мы, может быть, навеки нажили себе кровного врага из-за одного принятого сгоряча неумного их решения! А как бездумно мои родичи перебили татар, уже беспомощных и безоружных? Они снова завязали узел неизбывной вражды! Так?
– Похоже на правду, – согласилась я: он умел убеждать, он похож на тебя, Джэсэгэй. – Похоже…
– Отчего же «похоже»? Это и есть правда. Если б решали мудрые женщины – сестры Усуйхан и Усуй! Пока им еще удается утишать волны ненависти к нам, но что будет потом – никто из нас не вечен: ни ты, ни я! А ведь даже кэрэитов, вечных наших союзников, мои родичи растаскивают между собой, деля целое ради призрачного личного могущества! Ф-фу! – дунь на это могущество и услышишь запах падали, оттаявшей из-под снега! А кто подстрекатель и зачинщик свар? Наш неугомонный Хасар! Ежики, вообразившие себя единорогами! И все бегут жаловаться к тебе… А ты на меня обижаешься… Конечно. Кто еще мне судья, кроме тебя? Что велишь, то и сделаю… Я хан, но ты – мать. И я подчинюсь…
И я обняла его ноги. До седых волос дожила твоя девчонка, Джэсэгэй, а ума – на пяточку помазать: то-то зачастили ко мне близкие сородичи и сыновья с жалобами на Тэмучина… Он и не отмечает их выдающихся заслуг, он и чинами их обделяет, и должностей для них жалеет… О, нам ли, с птичьими головами, понять суть тигриных мыслей Чингисхана? Нам ли понять черную бездну, заполняющую иногда его лазоревые глаза и вбирающую в себя весь свет и весь мрак Поднебесной?»
Ехали без остановок, пока не стало смеркаться, а встали у излуки реки, на высоком берегу полноводья. Ранее присланные нукеры поставили сурт для хотун, но она не стала входить во чрево жилища и велела постлать себе под открытым небом, как всякая потомственная кочевница.
Когда все отведали ужин, приготовленный нукерами, и уснули, утомленные переходом, она все еще вглядывалась в огоньки звездных кочевий, слушала плеск кормящихся рыб и сигнальные просвисты ночных пичуг, неведомо чем промышляющих во тьме вечного мира тайги.
Лошади хрупали травой согласно с мерными ударами сердца в груди Ожулун, и она едва не заснула, а может быть, и впала в сон, но услышала крики нукеров: «Хой! Хой!», вскочила, выпрямив спину, и увидела воочию лица нукеров, выхваченные из темноты светом факелов – все они устремились к самой кромке леса.
– Медведь! Медве-э-эдь! – верещали женщины в кибитках.
«Медведь… – успокоилась Ожулун: она знала, что медведь любопытен, но неопасен в эти сытные месяцы. Она вспомнила свой север и одного пришлого старика, который ей, маленькой девочке, казался смешным и диковинным. Он говорил, что человек после смерти становится медведем и что убивать медведя можно лишь тогда, когда он «сам пошел» на человека, иначе – грех.
«Вот уж такой он мудреный – медведь», – сказывал тот старик-тунгус, прибившийся однажды зимой к их кочевью. «Он – отец… его бить – нехорошо, девка… Каждый медведь носит в себе душу предка нашего… Я раз убил своего предка Сырка…» – «Зачем?» – спросила старого Ожулун. «А четыре олешка задавил… Я узнал – ум кончился, сердце совсем худой стал… Пошел, убил… Убил, лапу отрезал, стал лапу вверх бросать, чтоб имя-то узнать… – Пульба? – спрашиваю: нет, не Пульба – вниз ладонью лапа легла. Ильча? – спрашиваю: нет, не ильча. Сырка? – спрашиваю. Сырка… Легла лапа ладошкой кверху… Зачем дедушка олешка давил? Вовсе зря…»
Во сне Ожулун радостно смеялась.
А утром ощутила настоящий весенний прилив сил. Поляна высвечивалась лучами восходящего солнца, и звенели мириады комариных крыл, постепенно угасая, – где-то неподалеку было болотце. Бывшая северянка Ожулун, ведомая чутьем, нашла его почти пересохшим и увидела высокий, в рост человека пень, словно отступивший от края болотца. Кора давно уже осыпалась с него и истлела в прах у изножья остролистой травы; древесина, изведавшая и жару и холод, растрескалась и обуглилась дочерна. В верхушке пня Ожулун увидела вырубленный паз, а в пазу – поперечину, опираясь на которую косо стояли два бревна на сломанных жердинах с развилками…
«Амбарчик… – догадалась она. – И здесь жили прежние люди… Вон берестяной туес… В нем ветхие лоскутки ткани… Где они, эти люди?.. Кто их потомки? Пыль… Пыль и прах звездных кочевий. Не это ли ждет всех нас, о, Всевышний Бог-отец! О, великий Тэнгри!»
– Хотун-ха-а-ан! – звали ее спутницы.
Впереди синели горы.
Вечером добрались до своих, до Хайахсын, до невесток, которые уже развесили для сушки целебные травы.
Трав надо много пучков, ведь впереди – война.
Снова война, Хайахсын. Снова война, шустрые и звонкие невестки. Снова война, постаревшая Ожулун, великая хотун-хан.