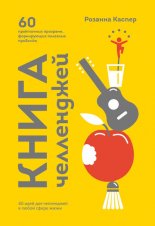По велению Чингисхана Лугинов Николай

Этого не велит делать нам всевышний Тэнгри. Так почему же не объединиться в великий ил вокруг одного закона – справедливого и благородного, основанного на древних, обкатанных временем обычаях, общих для многих народов или близких по духу, и быть послушными ему. Пусть каждый поклоняется своему богу-сыну, но все подчиняются единому порядку. Почему бы не вложить в этот закон все лучшее, что вынесли с собой народы из тьмы веков? В чем-то образцом могут служить и найманы, которые воспринимают даже устное распоряжение своего начальника как неукоснительное. А с тех пор, как Гурбесу-хотун назначена верховной правительницей всех найманов, стало возможным отзывать в ставку любого беглого и скорого на ноги наймана письменным распоряжением. И он придет, где бы ни находился его конь, или бык, или сурт – он привык подчиняться закону без принуждения: кнута или волосяного аркана. Он доверяет закону. Он привык жить по закону, как китаец.
Но как, скажите мне, верные тойоны, вознести новый общий закон на такую высоту? Силой? Уговорами? Объяснениями и разжевываниями? Ведь человек быстро понимает спиной, а головой – долго… Значит, для исполнения закона необходимо устрашение: смертная казнь отступникам?.. Значит, прошить этот закон нужно человеческими сухожилиями, а написать – человеческой кровью во имя того, чтобы она не текла реками в беззаконии?.. И на кого же опереться, умные мои тойоны, чтобы утвердить закон, соединяющий лоскуты племен и родов в крепкий тканый ковер? Где герои и богатыри, отборные скакуны, которые дадут отборное племя?
Да, человек, он и во сне человек…
Он и во сне боится воровства, подлости, вероломства, предательства, боли, страха за родных и близких. Всюду, даже в воровском обществе, среди разбойников в чести верность данному слову, прямота поступка, правдивость и надежность в деле, каким бы незначительным оно ни было. Это так. Значит, есть скрепы для закона. Есть и то, что Христос, Магомет, Будда, Тэнгри-отец – все они завещали своему творению добро, праведность, чистоту помыслов и дел. Значит, есть заповеданный свыше призыв к исполнению закона, джасака.
Все в иле подчинится порядку по доброй воле. Всходит солнце, и заходит солнце, и всякая птица поет в свое время, и поет вместе с другими, и замолкает: кто навечно, уловленный хищной птицей, а кто – до утра, чтобы вскормить птенцов и научить их попранию воздуха крыльями, но разве заметит мир, что кого-то из певчих не стало? Так же всходит и заходит солнце, так же поет природа, где все устроено в строжайшем, а потому и высоком порядке…
Трудная досталась мне доля… Тяжко быть правителем в этом грязном, наполненном подлостями мире. А стать праведным правителем еще труднее.
Можно быть очень простым, одним из многих. Жить спокойно, лишь бы самому было хорошо, да с соседями ладить. Но как стерпеть земную несправедливость, что творится вокруг? Как не возмутиться, не вмешаться, как не попытаться привнести добро и справедливость в мир, в котором господствует произвол, а не Божий суд…
Изначально нечто толкает меня в эту пропасть… Где, я знаю, пропаду когда-то, проклятый… Но это выше моих земных сил… Или… Или провидение толкает меня на вершину мировой славы… исполнителя Божьей воли… воли всех богов-сыновей и их отца».
Когда созывал на совет своих близких, хан не особенно рассчитывал на понимание ими ханских мыслей. Но и те, на кого он рассчитывал в своем видении будущих перемен, отозвались на его зов без промедления.
Командующий левого крыла Мухулай, заплетающий радужную косичку из сыромятных ременных полосок, потряс ею в теплом воздухе, говоря:
– Всевышний Тэнгри-отец всего и всех! Услышьте слова Чингисхана, как мы услышали их! Так и есть: нельзя жить вместе и быть порознь! Теперь у нас в подчинении так много земель и инородных людей, что они способны растворить нас самих, если не будет надо всеми вечного и единого для всех джасака! Над нами всеми – небо, единое небо, орошающее землю для всходов! А на небе – боги!
Тяжело поднялся командующий правого крыла брюхатый Боорчу. Встал сопящей горой, приковывая к себе внимание. Он сказал:
– Великий хан, ты глубоко прав! Людям нашего ила помогут выжить в веках только единые для всех племен и родов уставы. Спросите старика Усун-Турууна, он скажет, что такое управляться с многочисленными, как мошкара, племенами! Все знают, что он, Усун-Туруун, начальствовал над войском ставки, которое и было клубком мошкары!..
– Сколько всего родов было в этом войске, почтенный Усун-Туруун? – спросил Чингисхан, выискивая взглядом во тьме сурта старого полководца.
– Тридцать один, о, мой хан! – отозвался совсем рядом Усун-Туруун и встал чуть слева от ханского очага, теребя одной рукой седую поросль бородки, а вторую засунув за кушак.
– Ух-се! – удивленно воскликнул Хорчу. – Зачем надо было столько разнородного народа согнать в одно стадо, ответь?
– В стадо их согнали пастухи, – старик указал на Джэлмэ, потом на Мухулая. – А я хоть с трудом, но сумел сделать из них если не войско, то стаю хищников!
Мухулай согласно закивал:
– Мы основали секретную запасную орду. Вот и надо было, чтоб там находились представители всех наших родов. Шла война. Мы делали как сподручней… По разнарядке отозвали по два арбана с рода. Да и отправили к Усун-Турууну. На все ушло едва ли не двое суток. А уж как он их сплотил, да еще и провел без потерь в отдаленные места – это спросите у него сами.
Чингисхан увидел на лице старого воина довольную улыбку: кто ж не бывает доволен, когда люди отмечают и отличают его.
– Поучи же нас уму-разуму, почтенный старец!
– Ста-а-а-рец! – загоготали молодые тайоны, особенно любившие аксакала. – Этого старца еще женить да женить!.. – гудели голоса, перемеживаемые острыми шуточками:
– Старик-то старик, да не одну овечку остриг!..
– Не тот стар, кто сед, а у кого пустой кисет!..
– Наш старичок как хороший лучок: что ни девка – то и в цель!..
Хан властно остановил гомон движением руки и спросил Усун-Турууна:
– Почему они так говорят? Ты женолюб?
Старик невозмутимо отмахнулся от смолкшего, но еще висящего в воздухе смеха:
– Они шутят, мой хан… Людям надо пошутить… А о чем и как, зависит от того, что у них больше всего в голове.
Тогда хан поторопил:
– Рассказывай же, почтенный, свои секреты правления!
– Слушаюсь, мой хан. Отвечаю: секрет прост. Он таков: кем бы ты ни был, все равно не сможешь угодить всем тридцати с лишком родам! Будь ты о девяти косичках, а времени на сю-сю-сю и ля-ля-ля не сыщешь! Мне во время похода некогда было ходить в няньках, я распоряжался только исходя из насущных потребностей, только из соображений общей безопасности, хан.
Чингисхан встал, подошел к старику, который вместе с шапкой едва доставал ему до плеча, и попросил, а не приказал:
– Говори еще!
– О, мой хан! Есть в человеке нечто, стоящее выше рассудка. И сколько я ни думал, а решил так: всем не угодишь… Кто, из какого рода впереди, кто слева, кто справа, кто замыкает – не важно. Важно, чтоб их возглавляли, прежде всего, справедливые и только затем достойные тойоны. Такие, кто имеет волю все мелкие распри усечь, придавать им свойства раннего снега, который тает на крупе горячего жеребца… Тот, кто не доводит до слуха вышестоящего начальника сведения о дрязгах, а сам пресекает в зародыше.
– И где же ты нашел таких молодцов? – проявлял нетерпение хан, постукивая рукоятью камчи по левой ладони. – По каким признакам выделил тойонов?
– Всякий, имеющий голову, отличит кобылицу от верблюда, а умелого воина – от бабы, сидящей за выделкой кошмы…
– Справедливость… Сказать легко, но кто определит, где, по какой черте она проходит? Она неуловима… Но нужно вывести русло, вознести высокие берега из законов. Как? Вот это уже другая задача, – взгляд хана остановился на командующем всеми войсками Хубулае. – Как ты понял нашего старца, Хубулай?
В сурте стало тихо, как в дозоре: все онемели, зная сложность и неоднозначность таких вопросов. Но Хубулай считался одним из любимцев хана, и голову его не стягивал обруч страха, а язык не опухал от ворочания угловатых слов неуверенности. Он сказал не торопясь, с расстановкой, как бы приглашая других к размышлению:
– Один и тот же человек преображается в дни мира и в дни войны. Старый полководец Усун-Туруун управлял людьми в тяжелое и краткое время войны, а на войне, как ни странно, понять суть человека проще. В мгновения опасности он открывается и сам для себя, и для пытливого взора товарища. Но и лучший воин во времена мира становится иногда суртом, где живут злые духи, – ты замечал, хан? Значит, чтобы закалить и выковать народ, нужно, чтоб он многие годы подряд, многие десятилетия чувствовал запах опасности, саму опасность! Если ее нет на самом деле, то кто-то должен сеять зерна тревоги в благодатную жизнь! Только бой, хан, только война сделают нас большим, единым народом…
Чингисхан с каким-то новым интересом оглядел Хубулая, и камча в его руках успокоилась. Зато народ загалдел вразнобой.
– Боорчу! – повысил голос хан и нахмурился, восстановив тишину.
Боорчу встал, опершись на плечо сидящего перед ним Чимбая. Он улыбнулся, отдавая тем самым дань остроумию Хубулая:
– Хубулай хорошо сказал: во время войны, когда гремят барабаны подобно грому, а стрелы хлещут подобно ливню, – все делаются дружными и понятливыми, кроме самых бестолковых… Но и те вроде бы подтягиваются! А как только приходит мир, подобно полуденной истоме, человек словно засыпает, а просыпаются в нем жадность, злоба, зависть! Так это, хан!
Чингисхан снова обвел взглядом своих советников, и этот острый взгляд, как стрела, сбил наземь взметнувшиеся было из уст людей возгласы одобрения.
– Да… Это так, – сказал словно бы самому себе. – С сытой собакой не охотятся… И что же ты посоветуешь, Боорчу?
– Я тоже рассуждаю, что ни к чему брать в расчет эти различия… Нужны новые и одни для всех джасаки, хан… Мы с Джэлмэ вчера вечером долго толковали. Спроси его – он поязыкастей меня!
– Говори, Джэлмэ, – кивнул Чингисхан, садясь на кошму и показывая, что готов к длинной речи.
Однако Джэлмэ произнес всего лишь несколько слов, да и те были округлыми и считаными, как козий горох:
– Родов много – все их прадедовские погремушки во время ссор гремят, как боевые барабаны, и рассудок глохнет. Джасак же должен быть прост и понятен каждому, велик и нерукотворен, как смена времен года. Иначе как потребуешь от человека выполнить то, чего его рассудок, желудок его ума, не способен переварить? И для начала мы должны четко обозначить понятия добра и зла, а на них основать джасак. Так я думаю, хан!
Гул одобрительных возгласов, казалось, выплеснулся из-под сводов сурта:
– Отделить дурное от хорошего!
– Так! Верно-о-о!
– Где порок, а где достоинство-о-о!
На этот раз Чингисхан дал волю духоподъемной волне людских чувствований и сидел, потупясь взором, словно отсутствуя.
– Все? – спросил хан. – Загалдели, как вороний выводок… Что же, по-вашему, нужно утверждать и множить? Скажи, Джэлмэ!
– Бесстрашие, верность слову, простоту, правдивость… – сказал Джэлмэ, загибая пальцы, и стоило лишь ему призадуматься, как разгоряченные видением великой цели тойоны вступили в разговор, бросая в него слова, как в общий котел:
– Выносливость!
– Доброту! Спокойствие!
– Умение не терять рассудка в рискованном деле!
– Щедрость! Честность! Правдивость!
– Скромность! Взаимовыручка!
Уже перешли к обличению пороков, шумно, пылко, с воздеванием рук к хану и к небу, а хан, уверовав в своих людей и подкрепив их горячим участием свои замыслы, смотрел на белый войлок, которым был выстлан сурт, и видел строки великого Джасака, словно писанные по нему кровавой киноварью…
– Мы должны поставить дело так, чтобы люди сами приняли и одобрили джасак, который прежде всего стал бы гарантом справедливости, но без чрезмерных принуждений, и был бы не противен человеческой природе, – решил Чингисхан, давая указание Джэлмэ и Мухулаю собрать на совет ханских родственников. – Вы оба придите тоже, но держитесь в тени: вы знаете, как заносчивы некоторые из моих кровных… Будут коситься на вас, сердиться на меня, это будет мутить их мысли… А что я без вас? Бык на гладкой наледи…
И когда собрались родственники, то Чингисхан едва отыскал в тени сурта лица Джэлмэ и Мухулая, хотя и обладал острым по-соколиному зрением. Он заметил решимость на лице брата Хасара и его нетерпеливое поерзывание на кошме, увидел бледного от волнения Хачыана, покусывающего крепкими зубами хвост косицы; увидел и невозмутимую, но огненноглазую Ожулун-хотун, которая способна понять и большое, и малое в человеке. Он начал говорить, словно бы оттолкнувшись взглядом от родного лица матери – так журавль перед тем, как взлететь, отталкивается ногами от пустынной степи:
– Вы, наверное, уже слышали от наших болтунишек о новой ханской затее, но что это за затея – пустомели не объяснят. Скажу вам коротко, уважаемые родственники: чтобы выжить в веках, нужно в корне изменить нашу жизнь и ее неписаные обычаи и нравы на писаные, то есть незыблемые, единые для всех джасаки, законы. Моя цель – сделать единым народом союз племен, но пока ближняя цель – все подчинить военной организации: войска – передний край, все остальное – тыл. Все должны подчиниться единому закону, как бы ни назывался их род, их племя, их народ… А над законами будем думать вместе. Я сказал!
Гибко вскочил Хасар, и Чингисхан подумал: «Вот изжога!»
Озирая званых лихорадочно блестящим взглядом, Хасар начал говорить, обращаясь к ним:
– Я поддерживаю попытку брата изменить степную жизнь и укрепить ее единением… И как не понять, что нельзя жить по-старому! Мы, твои родственники, Чингисхан, были с тобой еще тогда, – он наконец-то сцепился взглядом с ханом, – когда не имели другой плети, кроме собственных хвостов, и не имели других нукеров, кроме собственных теней!.. Мы бедовали и побеждали вместе с тобой, мы не щадили ни тела, ни души, ни коня, ни жены, ни времени жизни, и по сей день мы верно служим тебе! И какая же нам за это награда, наш хан?! – Послышался ропот, в котором трудно было разобрать: осуждают ли, поощряют ли Хасара многочисленные родичи хана. Но хан молчал, и младшой продолжил:
– Ты прославился, тебя знает всякий в Великой Степи и за ее зримыми очертаниями! Вокруг тебя мухота – степные разбойники и безродные бродяги, осыпанные чинами и почестями! Даже те нищие пастухи-голодранцы, кому их бывшие господа, знавшие всю их подноготную, не доверяли даже овечью отару, стали у тебя ходить в мэгэней-тойонах! Видано ли такое? Это добром не кончится. Но пусть и так, пусть! Такова твоя воля! Но что имеем мы, твои кровные родичи? У нас нет ничего, кроме должностей, которые мы заслужили своим черным потом, крепостью сухожилий, остротой зубов и сабель! Справедливо ли это, Чингисхан, брат мой? И ты прав: пора жить по-иному! Пусть будет пастуху – пастушье, господину – господское! Я сказал!
И, еще раз оглядев знакомые лица, но не желая встречаться взглядом с глазами матери, Хасар сел с видом человека, свершившего дело всей своей жизни. Ропот возник снова, но встал младший брат хана, обычно бессловесный и исполнительный, и все удивленно замолчали: глядите-ка, у него, у Аччыгыя, тоже есть язык!
– Я ничего не скажу! – сказал он и сел, поправив на голове шапку так, словно проверял, на месте ли сама голова.
– Пусть скажет Хачыан! – крикнул Хасар.
И Хачыан поднялся, оправляя дорогой халат на широких плечах.
– Скажу коротко: я, Хачыан, понимаю, что небо не дало мне особых талантов и душевных сил… Я обычный человек! Но в моих жилах течет та же кровь, что и в синих жилах Чингисхана, – так великий Тэнгри разлил ее по нашей родове! Но я родной брат великого Чингисхана! Почему же тогда я не чувствую этого в отношении ко мне приблудных степняков, а?! Поэтому я согласен с Хасаром: в новом джасаке нужно определить лучшие места для близких. Для дальних, для очень дальних – установить, кто из них кто. И чего стоит ханская родня, если она перебивается, как нынче, едва-едва… – тут Хачыан понял, что перетянул тетиву и она может лопнуть на смех окружающим. Он вдруг смялся, глянул на мать и, усмотрев в ее глазах неодобрение, завершил свой наскок: – Ну, а что я еще могу сказать? Все…
И заговорили все разом, словно степная пыль взметнулась, и каждый боялся, что, принимая новые джасаки, обойдут его полной чашей. Слова их бились, как мухи в паутине, как рыбы в котле, опутанные корыстолюбием и тревогой.
– …мы, как верблюды – едим мало, а тяжести переносим большие!
– …и вымрем, и много будет валяться наших костей, чтоб их собирали в кучи и указывали путникам дорогу во время больших снегов!
– …и ноги опухнут, и зобы на шее вырастут! – мешанина выкриков и воплей, возгласов скорби и хихиканья, как нечто живое, шевелилось в мешке сурта. Один Сиги-Кутук, человек, знающий грамоту и пути звезд на небесах, пытался сказать, что задуманный Чингисханом джасак – это тропа в будущее, это сила, которая сотворит из глиняного месива с соломой и кизяком народ, но никто не стал слушать его со вниманием, ибо многие живут одним днем, а вся их жизнь так и остается одним днем, пусть она и многолетняя. Сиги-Кутук прозревал во тьме и бесконечности времени…
«Корысть… Вот туман, затмевающий даже самые светлые умы… Когда вмешивается личный интерес, теряешь разум… Именно это обернулось бедой, разрушившей многие государства.
Вот они сидят – потомки славного рода борджигинов, славу которого, начиная с Бодончора, умножали целые поколения ханов и полководцев. Неужели для того, чтобы сегодня их потомкам ощущение собственной родовитости, достоинства заслонило глаза, не давая увидеть истину? Неужели родовитость тоже может стать помехой на определенном этапе? Но ведь именно родовитость вызывает доверие других, служит гарантом основательности и силы рода. Значит, для дурака родовитость лишь повод для спеси, камень на шее, а умному она дает крылья. В то же время родовитость – это и большая ответственность, ведь во всем нужно соответствовать славе и достоинству своего рода. Значит, нужно ввести такой порядок, когда родовитость не дает возможности возвыситься…»
Чингисхан молчал, и на лице его нельзя было прочесть даже признака участия. Он был готов, как птица, кормящая кукушат, откармливать до конца этих желторотиков, самых близких людей: он любил их, но им не по силам стать ему опорой в государственном устроении. То ли дело дележка бараньих отар, верховых лошадей, вьюков, челядинцев и работников! Им подавай все и сразу – это куцеумие и дробит, ссорит, разделяет степные племена, так похожие одно на другое. Раздражение и горечь приходилось сдерживать, и Чингисхану казалось, что в его груди закипает кровь, как вода в казане. Он не мог встать и уйти, тем самым нарушая древний обычай, он не мог встать и заговорить, не надеясь произнести нечто жестокое и непоправимое. И когда поднялась мать, у него отлегло от души еще до того, как она произнесла:
– Когда я вернулась в нашу степь из несказанной дали, с берегов Байхала, я была окрылена счастьем от известия о победе моих сыновей над найманами. Это был могучий враг – все вы знаете. Но высокая радость от победы уже померкла в вас. Видя такое ваше настроение, я негодую, дети мои… Ведь перед нашим родом, перед всеми племенами, носящими имя монголов, лежит большой звездный путь: вести за собой, как одну семью, все степные народы, все лесные и горные племена… Когда караваны идут через пустыню – я слыхала от людей, – навьючивают харчами и товарами многих сильных ослов и верблюдов. А коли поедают харчи до перехода, так убивают ослов и верблюдов и едят их! Пора в путь, пока мы не поели не только наших коней, но и один другого! Пора в великий и долгий путь, а если мы ослушаемся высшей воли, то все поодиночке будем сброшены в пыль веков, как слабые конники со спин сильных скакунов! С вершины славы скатимся в бездну бед и унижений! Слушайте моего сына, имя которого – Чингисхан, повелитель Вселенной! Не вы ли на курултае дали ему это славное имя?
Она посмотрела на Хасара:
– Отчего это ты голову в плечи втянул, как черепаха, скажи, Хасар? Может быть, ты, Хачыан, возглавишь всех монголов: ты ведь самый умный наедине с овечками и лошадьми! Слышишь меня?
– Слышу…
– Скажи: слышу, мама!
– Слышу, мама! – ответил Хачыан, сверкая зубами в улыбке. – Ты мне кипятку за шиворот плеснула!..
– А ты мне гадюку к сердцу поднес! Мне гадостно понимать, насколько мелки русла ваших мыслишек… И насколько тонка оболочка ваших мозгов… Камус у вас еще короток, торбаза ваши еще болтаются у щиколоток, халатишки до пят… Может, грудью вас не докормила? Иди, подудонь материнскую грудь, Хасар! Пусть люди потешатся! Иди, я дам тебе подзатыльника, чтоб ты вспомнил: где мы были несколько лет назад, когда царили здесь тангуты, мэркиты, найманы, татары! Не от них ли я укрывала вас своими лохмотьями, и казалось, что нет укорота на их лихоимство… Со страху люди убегали в пустыню и усыхали там до костной белизны, люди ели древесную кору и пили мочу животных – забыли? Коротка же память жирных! Теперь, когда одержана победа над великанами, вы снова превращаетесь в карликов и норовите делить добычу от однодневной охоты, и по норкам – не так? Вы посмотрите на тех, кого покорили: они многократно превосходят вас в знатности, в богатстве, в знаниях… Так как же вы долго думаете удерживать их, находясь под хмельком случайной победы? Чем вы думаете их удержать: силой? Унижениями? Потачками? Судя по вашим рожам, мои слова озадачили вас, вот что удивительно! Значит, еще не все потеряно… А, Хасар? Что важнее? Чья-то обделенность или думы о будущем?
Хасар вскинул руки, словно защищая лицо от удара плетью.
– Нохолор… Я презрительно называю вас – нохолор… Так обращаются к несмышленышам и слугам… Но я продралась через большую нужду, как через безводную пустыню, но я – госпожа, оттого, что мне тесны ваши мысли. Мой старший сын Чингисхан хочет вывести вас к новым законам нового ила, которые будут намного живительней прежних, которые ни один большой или малый народ, племя или род не станут отталкивать или держать на обочине большого пути, он хочет сделать вас великим народом… Откажитесь от личных амбиций, готовьтесь к жертвенническому служению ради искоренения несправедливости и зла на земле… Все вы знаете, как делается сухое молоко, густое, как тесто… Сначала надо выбить жир из молока… Так вот и нам всем предстоит порастрясти жир в большом котле, простирающемся от моря до моря… А я устала… – неожиданно для всех, потрясенных и просветленных такой душевной силой, закончила Ожулун-хотун и вышла из сурта, задевая юбками понурые головы сидящих мужчин.
«…Никому, кроме считанных, я не могу открыться полностью! Никто не узнает до времени мои мысли и не обернет их во вред моему делу, не исказит их и не извратит! Но как же они теснят дыхание, учащают биение сердца, туманят взор, эти мысли: я одинок, я отловлен ими, как редкое диковинное животное, и сижу в клетке этого одиночества, позволяя рассматривать себя, но не мысли свои и намерения! А в детстве мы катились по степи малыми горошинами вслед за небесным журавлиным клином и кричали: «Последние, выйдите вперед, последние, выйдите вперед!» Ах, сбросить бы с себя это тяжкое ярмо Первого и уйти, подобно предку Бодончору, в горы! Но – прочь слабость, Тэмучин… Посмотри в грядущее: видишь город? Подле этого города – долина, а в ней тьмы куропаток и перепелов… Ты прикажешь – и для их откорма люди-землепашцы засеют поля просом и гречихой, гаоляном и чумизой… И никому не будет дозволено собирать эти посевы, чтобы корма для птиц всегда хватало. Много людей будут сторожить птиц, чтобы их не переловили охотники, эти люди и зимой будут кормить птиц просом и приручать, чтоб они слетались на свист. По моему приказу люди настроят много птичьих суртов, где те будут ночевать до света, до первых своих посвистов. И когда я ни приду в эту долину – они будут петь и садиться мне на плечи, на шапку, на ладони, а если буду далеко, то пусть их привозят ко мне на верблюдах… Так и взнузданные народы должны жить в иле спокойно и без возмущения. Но люди – не птицы… О нет, они не птицы… В человеке смешано все, что живет на земле: трава и деревья, вода и небо, птица-сокол и зверь-лис, в нем смешаны мужчина и женщина, высокое и низкое, червь и бабочка! Так что же ты, человек? Кто владеет твоей душой и что понуждает ее? Зачем легкомысленный и смелый Тайчар, брат Джамухи, затеялся угнать у нас табун? Зачем пошел на баранту? Ведь не алчность же сподвигнула его к разбою, а удаль! И он упал с перебитым хребтом, куда вошла стрела табунщика, и три тумэна монголов оседлали коней и пошли мстить за конокрада, возглавляемые андаем Джамухой, и семьдесят плененных им юношей из рода Чонос были сварены живьем в котлах, и голова Чахан-Увы, бывшего товарища, прыгала по кочкам, привязанная к хвосту коня Джамухи… Была ли баранта причиной войны или лишь поводом к ней? Вот в чем вопрос… А если бы были джасаки единые для всех и обязательные для исполнения? Посмели бы джуркинцы напасть на беззащитных старцев и детей-несмышленышей, ограбить их до нитки и перебить добрый десяток? Нет. По их понятиям, так разочлись они за свое поражение, так устроено их бытие. Потому и Сэчэ-бэки, и Тайчу не понимали: за что же Чингисхан казнит их при поимке? А с чего началось? А с того, что старухи избили Сэчэ-бэки. За что? За то, что на пиру налил своей молодой жене раньше, чем старшим… Тут же, в то же время прибежал Бэлгитэй и донес, что поймал вора, который хотел стибрить оброт с коновязи. Тогда джуркинец Бури-Боко схватился за нож, вступаясь за своего воришку, и началась драка, где джуркинцам намяли бока. Где причина и где повод? Об этом не нужно было бы думать, будь джасак один на всех…» – так думал Чингисхан, собирая долгие советы со старцами и грамотеями. Просиживали на них от ранних пташек до звездных дождей. Терпеливый и изощренный в прядении мыслей из лохматых ворохов сказанных слов, Джэлмэ мотал и мотал эти нити в клубочки будущих джасаков…
– Что вы думаете о воровстве? – спросил их Чингисхан.
И мудрецы набрасывались на мясную кость, обгладывая ее добела.
– Китайцы за воровство отрубают пятерню, – говорил кто-то из знатоков. – А некоторые народы так и голову сносят! А уж в ямах-то сколько воров сидит, а сколько изгоняются навечно!
– Воров надо убивать: один вор заражает десяток слабых душ! – говорил кто-то из прямодушных.
– Что ж это: за всякую уведенную овечку – голову с плеч?! – ужасался кто-то, у кого не уводили последней овцы. – Что-то шибко размашисто… Этак головы будут прорастать по всей степи, как одуванчики!
– А чего переживать-то? – возражал Джэлмэ. – Среди монголов ведь совсем нет воровства – разве это плохо? Разве недоумок какой-нибудь пойдет и украдет. Тогда пусть его казнят.
– Это так! – говорил кто-то из разумных. – Но мы живем не одними монголами: большой пучок стрел в нашем колчане, а мастера их делали разные! Каких только пороков не дано людям, о высокие Божества, о Айыы Тойон Тэнгри! И как их искоренить, если не рубить голов?..
Его поддерживали зачастую шумно, с огоньком:
– Монголы извечно презирали обжор, а ведь к воровству толкает обжорство, воруют, чтобы обжираться! Обжора всегда голоден, он коня за день съест и мозговые кости высосет, тьфу!
– Вон они, барыласы: их сколько ни корми – даже жирком не схватятся, все тощие, но все время жуют! Чуть скотина в сторону от гурта – сразу ловят и в рот, жевать, жевать, жевать.
Плевать на землю древние законы не велели, и люди лишь делали вид, что являло собой выражение крайней степени неприязни.
– Захват чужого скота, принадлежащего людям ила, приравнивается к воровству, – решительно говорил Джэлмэ. – Иначе все мы превратимся в сторожей и гуртоправов вместо того, чтобы оставаться нукерами. Так?
– Только так! – отвечали ему едва ли не хором. – Лучше уж отчекрыжить бестолковые головенки двум-трем нечистым!
– Когда не ворует вождь – не ворует и народ, – так сказал Боорчу, обычно не словоохотливый, и Чингисхан обратил внимание на то, как эти слова сверкнули червонным золотом. – Сытый человек в здравом уме не украдет. Если он украл, значит, с головой у него не в порядке. А если голова не в порядке – сноси ее с плеч!
– Ха-ха-ха! Охо-хо-хо! – покатывались со смеху тойоны, не ожидавшие столь яростной простоты мысли. – Ой, бедные наши головушки-и-и! – И, как расшалившиеся дети, они укрывали головы руками, клацали якобы от ужаса зубами, строили один другому страшные глаза, выпучивая глазные яблоки так, что те готовы были упасть на войлоки.
Джэлмэ и Чингисхан переглянулись: пусть их протрясет, пусть люди облегчат души смехом.
Когда мало-помалу все утихло, Джэлмэ произнес:
– Это был не смех, это была зараза, сумасшествие! Бедняги… Но как быть с настоящими заразными и сумасшедшими, у которых это никогда не проходит? Можно ли позволять уродам, больным и гнойным плодиться? Скажи, умный Боорчу.
– Надо очиститься и от них, – отвечал Боорчу.
– То есть? – с неприязнью глянул на него Мухулай.
– Рубить головы, – без нажима и как бы без чувства отвечал товарищу Боорчу. – Мы должны думать не о сумасшедших и гнойных, каких немного, а о здоровых и чистых – в этом благо для целого народа, а не в твоей жалостливости!
На это Мухулай ответил глубоким вздохом, который обозначал: ну-ну, давайте, давайте!
– Что-то многовато казней у вас получается… У всех несчастных есть мать и отец… Надо всеми одно солнце… – пробурчал он, ни на кого не глядя, а глядя как бы внутрь самого себя, туда, где совесть и стыд.
И Джэлмэ осек его:
– Если мать и отец сотворили отверженного – это их беда. А мы обязаны предпринять меры, чтобы зараза не распространялась на весь народ. Нельзя множить нечистых и больных… Потому что мы сегодня больше должны думать не о благородстве, а о благополучном будущем своего народа.
Недавно женившийся Дагайма отозвался:
– Кто бы что ни сказал – мне все кажется умным и правильным, я бы примкнул ко всем… Наверное, я не умен настолько, чтобы рассуждать о великом…
Чингисхан за время этих сумбурных, но стремительно проясняющих цель курултаев говорил мало слов. Чаще молчал, сам становясь как памятный камень, на котором высекал надписи древний тюркский властелин…
Но как высчитать приливы и отливы в настроениях племен?
Как заставить вчерашних врагов поверить в могущество ханского замысла и влить это могущество в их плоть и кровь?
Пути человеческие полны капканов греха и силков заблуждений – как выйти на праведный путь Бога-отца – Айыы Тойона Тэнгри?.. И… И его сыновей.
Глава девятая
Думы о татарской доле
И для имеющих головы на плечах и без оного, для умных и безмозглых, для славных и бесславных, правитель – Божий дар. Только кажется, что его выдвинули снизу. На деле он изначально избранник Господа Бога. Бога – отца Всевышнего, всемогущего, единого.
Вот поэтому правитель иногда кара несчастному народу, иногда – удача счастливого народа.
Легенды о древних правителях
Не счесть лет татарского владычества над Степью. Будучи союзниками Алтан-хана, татары были верными псами и надежно пасли разноплеменное стадо степных народов, рьяно надзирали за ним, не давая никому поднять головы, дабы в ней не завелись крамольные мысли. Однако в опущенной голове быстрее приливает кровь, и многие племена и люди готовы были к неутолимой вражде с жестоким опекунством татар, хотя и помалкивали, боясь доносов и бессмысленных жестокостей, которые за сим следуют. Всякий народ имеет толстых и имеет тонких, имеет зрячих и имеет слепых; среди татарских вождей были такие, кто понимал, что вода и камень точит, что гроздья гнева вызревают в отсутствие солнечного света, а наливаются унижением и обидами. Таковым был отец Усуйхан и Усуй, чье имя Экэ-Джэрэн.
Из шести крупных татарских родов тутукулатаи и чаганы сторонились и чурались общей недальновидности. Они примкнули к противостоящим Алтан-хану силам, когда их сородичи совсем утратили страх и осторожность, что равно утрате рассудка, и взяли название небольшого, но древнего рода монголов. Вместе с набирающими силы племенами джаджиратов и кэрэитов они выходили из подчинения Алтан-хану, и тот, понимая, что их содружество становится опасным, снарядил огромное войско для подавления отщепенцев. Однако к этому времени возникла кровавая распря среди оставшихся преданными джирдженам четырех татарских родов, а некоторые звали даже выступить против джирдженов, чье войско состояло в основе своей из пеших китайских воинов. Стало быть, без татарской конницы оно становилось немощным, и лишь привычка к безнаказанности и вседозволенности гнала их и влекла к желаемой победе. В пылу гнева джирджены напали на мирные татарские курени, истребив обитателей вплоть до грудного младенца. Татары, не ожидавшие подобного от своих союзников, в панике кинулись в глубь степи, где, мстя за прошлые утеснения, их встретили во всеоружии монголы Чингисхана и кэрэиты Тогрул-хана.
Лишь короткие панические повизгивания обозначили гибель вождей и знати родов алчы, чуйун, тэрэт и тэрэйчин, которые славились особой жестокостью и кровавой ненасытностью, особым пренебрежением к степным обычаям и нравам. Тутукултаи и чаганы, вовремя отделившиеся от безумцев, купно с остатками битых сородичей были взяты под крыло Чингисхана и во времена нужные могли выставить до десяти мэгэнов воинов. Но чтобы особо отметить тутукулатаев, сделать их главными среди татарской родовы и усмирить ее, Усуйхан и Усуй произвели в хотун-ханы. Две единородные сестры, две татарки стали великими ханшами и татары забыли свой неправедный гнев, свое всенародное поражение в слепой борьбе за владычество в Степи. Они утишили свои нелепые споры о том, кто заслуженнее и сильнее, сплачиваясь вокруг вождей, проявивших житейскую мудрость и дальновидность.
Однако мелкая рябь старых повадок нет-нет, но мутила тишь да гладь. Татарские аксакалы побаивались тайного сговора к восстанию, что стало бы непоправимой бедой, концом татарской истории, лишением лица. Горше участи и вообразить себе нельзя.
Татарские аксакалы думали.
Разумные из татар, лишенные суетного тщеславия, понимали, что обязаны старому Экэ-Джэрэну своим спасением. А когда его дочери стали хотун-хан, Экэ-Джэрэн словно бы засиял солнечным блеском, слепящим глаза. Его защита и покровительство давали надежду жить с мечтой о ясном завтрашнем деньке. Сам же старик не обольщался созерцанием внешнего глянца, который играл на лицах сородичей, отражая свет его, Экэ-Джэрэна, величия. Он прожил долгую и натужную жизнь в зыбком лоне вечных распрей, смут и взаимного недовольства татар, от которых только тутукулатаи да чаганы отличались, может быть, врожденной уравновешенностью мыслей и чувств, присущих человеку. Им не казалось, что они одни у Бога на земле и что поножовщина – владыка мира и оплот порядка. Что посеяно, то взойдет: кровь всходит кровью, пот – благом. Как могло пройти без возмездия убийство монгольских послов отцами и дедами нынешних татар? или пленение Амбагай-хана, ведущего свою дочь-невесту к будущему мужу, и предание несчастного в руки Алтан-хана, неумолимого его врага? Достойно ли так поступать? Любой степняк, боящийся кары небесной, ответит, что подобная низость должна осуждаться. И до конца дней своих не забыть Экэ-Джэрэну, огрубевшему в кровопролитной повседневности, как прыгали по склону горы отрубленные головы былых товарищей, с кем ходил на охоту и в опасные походы. Может быть, эти головы еще успели позавидовать зеленой траве на склоне и теплому равнодушному камню, попавшемуся на последнем пути.
В прах повержен род Алчы. Обезглавлены даже юноши-джасабылы, подневольные порученцы, будущие батыры.
Тайман-батыр, старший брат Усуй и Усуйхан, командовал объединенным войском бесславных татар. Только волей неба он вырвался ночью из окружения и укрылся в сурте отца, Экэ-Джэрэна, едва сдерживал икоту – признак подавленности и бессилия. В тридцать три года Тайман-батыр стал насельником большой кожаной сумки, где прятался от соглядатаев. Только ночью он выходил из тьмы в тьму, чтобы напитать кровь целебным воздухом степи, и клял себя за то, что не погиб в бою. Было нечто, что в мгновение ока отводило от него острие стрелы, пики, лезвие сабли.
«О, Всевышние Айыы!.. Не допустите недоверие к моим родным из-за меня!» – взывал он безгласно. «Лучше б я предстал пред вами с головой под мышкой, чем жить в страхе за своих ни в чем не повинных сестер и отца! Я мерзок сам себе, но зачем-то же ты, Всевышний Тойон Тэнгри, сохранил мне жизнь? Так зачем? Скажите мне, управляющие людскими судьбами?» – глядя в россыпи звезд, вопрошал он сокрушенно и обнимал себя руками за плечи, словно пытаясь укутаться в черный полог ночи. «Девять лет мне было, когда я сподобился стать посыльным внутри ставки, – была война… С тех пор я не выходил из нее, шел в походы на равных со взрослыми… Был конником, посыльным, караульным, а в тринадцать стал нукером, в четырнадцать – арбанаем, в пятнадцать – сюняем, в семнадцать – мэгэнеем, а в двадцать – тумэнеем. Как мне завидовали! Мое раннее восхождение к славе не давало покоя многим. Но лучшая доля – пасть на поле сражения, устроив себе ложе из трупов врагов, мне не досталась.
Но на слове «враги» мысли батыра спотыкались, лишенные той ярости, которую вложила в это понятие сама прошлая жизнь. Если раньше слово «враг» вызывало мысленный образ чужака, то нынче лицо чужака было неразличимым, зато за спиной его маячили явственно лицо отца и улыбки сестер Усуйхан и Усуй.
«…Погибла моя жена Уйгу-хотун, которую мне дали, оказав честь родством с самим Хабыр-ханом, ее отцом, и пожаловав высшее воинское звание батыра. Она погибла от стрелы, как воин, и теперь наш малыш, изнеженный, как ручной зайчонок, растет у двух своих теток-хотун. О белое мое солнце Элляй, ты уже не узнаешь своих родителей! Стрела лука-хойгур[7] унесла дни твоей родительницы, а твой отец, в двадцать пять лет ставший батыром, в тридцать три сидит, как мышь, во чреве кожаной сумы. Когда-то это чрево извергнется и родит простого старика Таймана, оставив в своих недрах звание батыра! Он ждет указа о помиловании! Он – вождь из великого рода, весть о спасении которого способна всколыхнуть к восстанию униженный народ! Разве можно ему надеяться на послабление кары, которую Чингисхан низверг на вождей татарских родов, Элляй? Скажи, сын мой!»
Маленький Элляй смеялся, указывал пальцем: уходи! Тайман-батыр пошел бы добровольно в руки врагов, но поздно: это повлекло бы гибель всех родственников и Эллэя в том числе. Монголы не переменятся и не умягчатся, они не выпустят из рук то, за что крепко ухватились. Река времени станет течь согласно с их волей.
Тайман-батыр зябко вздрагивал и уходил в большую кожаную суму, так и не решившись к какому-либо шагу, могущему изменить его жизнь.
Стоило Экэ-Джэрэну вспомнить о сыне, Тайман-батыре, как он замолкал на полуслове, темнел лицом и, чтобы скрыть причину своего замешательства, начинал потирать старые раны: монголы могли заподозрить неладное. Много ночей он не спал, много дней взгляд его ощупывал окоем, словно ища щелку в пространстве и времени, куда бы мог ускользнуть его сын, достойный лучшей судьбы.
Вся родня вздохнула облегченно, когда удалось переправить Тайман-батыра с верными людьми в горы.
Доверенный Экэ-Джэрэна тойон Ньырта пустился в путь на север, чтобы перегнать табуны лоснящихся лошадей на нетронутые еще пастьбой луга. С ними ушел незамеченным и Тайман-батыр, привязанный накрепко к днищу арбы и заваленный просаленной кошмой. Он спасся от удушья лишь потому, что каждый глоток вольного воздуха был целебней застойного воздуха несвободы.
Там, далеко в горах, где нет чужих глаз и ушей, Тайман-батыру показалось, что он начал прибавлять в росте, как малое дитя. В одном сурте их было трое: один глух, как обломок скалы, второй нем по Божьему замыслу, третий – глух и нем по своему разумению, жаждущий одного: пути все дальше и дальше на север, за пределы кипящей, как вода в громадном казане, новой степной жизни, не принявшей его.
Усуйхан и Усуй еще надеялись на отмену тяжкого ханского указа, через всевозможные уловки они пытались выведать замыслы своего могущественного мужа, но надежды не было. Указ о татарах, как и любой другой указ, мог быть отменен только в том случае, если бы нарушал в какой-то отрезок времени общий замысел нового мироустройства в государстве. Этот указ хоть и имел, наверное, перехлесты в сознании мирянина, но отрубленные головы к шее уже не прирастут, а всякое отступление от его исполнения могло бы пошатнуть веру в святость и непогрешимость высочайших решений. А такая вера – основа незыблемости государственных устоев.
Тяжко Тайман-батыру, в котором только еще пробуждались крупные мысли, воля и ум незаурядного правителя, оказаться в оболочке изгоя. Еще вчера его воле подчинялись сотни не самых худших людей, а сегодня он сам подчинился воле судьбы и рад тому, что не столкнул в пропасть небытия своих близких и что по-прежнему не боится смерти, но и не ищет ее, потому что даже от опознания его трупа может вздрогнуть степь…
Усуйхан и Хулан, младшие невестки Ожулун, сблизились и сплелись, как две пряди волос в хорошо заведенной косичке. Это грело Ожулун и подтверждало безошибочность ее выбора. А вот признают ли девчонку своей хотун такие упрямцы, как мэркиты, – это вопрос. А влиятельные упрямцы есть не только среди туполобых мэркитов – из них можно крепости воздвигать, если собрать в одну кучу. Такую крепость чем возьмешь? Только гибкостью, сабельной гибкостью ума, змеиной его изворотливостью и мудростью, широтой немелочной, самоотверженной души – задатки всего этого в молодке просматривались, и они сближали Хулан с татарскими женами Чингисхана. Многие были обескуражены тем, как быстро сумели сестры Усуй и Усуйхан поставить свою власть над всеми шестью татарскими родами и как бестрепетно те приняли эту власть. Внешние мягкость и спокойная рассудительность являлись лишь оболочкой чего-то жесткого и своевольного, понуждающего к необидной покорности и смирению. Такой волей обладает умная жена счастливого мужа.
Воочию давала о себе знать кровь предков Кюл-Тэгинов, что возглавляли великий ил древних тюрков. Каким бы знатным ни казался окружающим их повелитель, но в те мгновения, когда нужно принять жизненно важное для судеб народа решение, только древнее и благородное происхождение водит рукой этого повелителя. Только порода может прозревать последствия своих решений или чувствовать благородной душой правомерность своих действий. Есть великие роды, избранные Господом для исполнения своей воли в подсолнечных улусах, и которые связаны с Господом невидимыми поводьями.
А вот пресловутая Ыбаха – притча во языцех – не такова.
Ее кэрэиты – не татары, воссоединение с ними, казалось бы, пройдет безболезненно. Но хотун – черная кость, она вела себя не как ханша, а как челядинка: шепталась по зауглам с недовольными, учиняла разногласия и явно плодила смуты. Род кэрэитов издавна имел обычай поносить и принижать лучших своих людей, каждый считал себя ничем не хуже заслуженного человека, каждый разрушал и оплевывал свой дом в меру своих не обузданных сердечностью сил. Но жалок разделившийся дом. И пока зараза из него не переметнулась вместе с наушничаньем и тихими шепотками на остальных, нужно пресечь ее пути, протоптанные неуемной Ыбахой.
«Надо все же взять другую девушку из рода кэрэитов и вместо Ыбахи возвысить ее… Впредь я не ошибусь ни в происхождении, ни в характере!» – размышляла мудрая Ожулун и утверждалась в этом намерении с каждым прожитым часом. «А о татарах надо поговорить с Экэ-Джэрэном: довольно маяться прошлыми грехами – пора подумать о настоящих достоинствах, о будущем иле… Теперь нас много, и у каждого в прошлом свои пути… Экэ-Джэрэн остался единственным главой этих выходцев из древнего тюркского каганата, а выглядит как человек, которого точит червь тяжких сомнений. Нет, почтенный! Щепка не может плыть против течения. И копание в гнойных ранах былых обид до добра не доведет, а до огневицы – может. Нужно соединить силы – и будущее наше будет бесконечно…»
Думали не только татарские аксакалы – думала и Ожулун, чьи волосы начинали седеть, но глаза, теряющие земную зоркость, видели далеко в вечности. И она еще была полна сил. Во всяком случае, ей так мнилось…
Глава десятая
Печальная песня
Почему, когда летят головы у одних, другие становятся разумнее?
Почему никогда не оценивается доброта и простота? Почему они служат основой для обид, мести?
Почему жестокость обрывает корни всех недоразумений?
Легенды о древних правителях
– Турхаты разохотились, – смущаясь чего-то, доложил Дабан. – Снова собрались на охоту, – пожал он плечами.
«Вот оно!» – Джамуху словно обдало жаром пустыни средь горной прохлады. Но голос его не дрогнул, когда он спросил Дабана:
– Что – заметили дичь?
– Вчера вернулись пустые. Сказали, все пусто, как чума прошла: ни рябчика, ни зайца, ни зверей никаких.
«Заговор строят, умники», – решил Джамуха и сказал Дабану:
– Отправляй их. Пусть ищут удачи, но берегут коней. Кони-то отощали совсем. А ты – останешься со мной: с этого часа твоя дорога расходится с их дорогой! Иди…
По вялым движениям Дабана и остальных можно было судить, как упал боевой дух турхатов. Вот он, как замороженный судак, как оглоушенный щуренок, повернулся, чтобы идти, но сначала сунул в рот древесную смолу-жвачку. То есть сознание его затемнено: месяцем раньше разве посмел бы он в присутствии гур хана забивать рот этой вонючей серой? Так ведь и есть хочется мальчишке.
«…Пусть откроется сознание твое, запоминай знаний больше, умей слушать неслышимое, видеть невидимое, полагать неочевидное. Пробей дороги добра, иди тропами святых деяний. Будь умен и мудр, силен и терпелив», – вспомнилось Джамухе старинное благословение, когда он смотрел в спину уходящего Дабана, как тот, прыгая с камня на камень, удалялся в сторону скрытого караула. «А так ли я умудрен, чтоб давать советы юношам? Сам-то я сумел увидеть невидимое?..»
Дабан тревожился, и причиной тревоги считал все более ощутимую отчужденность турхатов, которая высвечивалась, как у всякого неискушенного, в какой-то подчеркнуто правильной и чрезмерно дружелюбной окраске их перебрехиваний. Так с улыбкой иной сует руку за пазуху, а достает оттуда кукиш.
– Отправляйтесь! – передал Дабан товарищам разрешение гур хана. – Велено беречь коней, и все. Я остаюсь в охране.
– Сам-то гур хан никуда не собирается? – спросили его.
– Сидит на том же черном камне…
Турхат, уже сидевший на коне, съехидничал, сделав глаза простодушными:
– Сам-то не почернел?..
Этого Дабану было достаточно, чтобы ясно увидеть содержимое их пазух, и он сказал с угрозой:
– Скорее твой красный язык почернеет, когда вывалится из вонючей пасти твоей отрубленной башки!
Остальные турхаты зашикали на неосторожного остроумца, загарцевали вокруг того на разномастных лошадях, покрикивая:
– Жуй свою жвачку да помалкивай!
– Язык-болтунок – ему место между ног!
Опростоволосившийся турхат посмеивался, отмахивался, а потом вздыбил коня, гикнул и пустил его вскачь, увлекая за собой товарищей.
«Он и заводила!» – унимая сердцебиение, подумал Дабан. Поднял с земли прохладный камень, приложил его ко лбу. Когда камень впитал в себя жар, Дабан разжал горсть и глянул на камень. «Таким должно быть сердце? О, Всевышний на вечно синем небе! Почему?» Он швырнул камень в небо и увидел большущую стаю гусей-гуменников, которые снижались на невидимое лесное озеро. Это зрелище озарило душу Дабана горячим азартом и радостью, оно, как дуновение ветерка в душный полдень, освежило ее и унесло полынную горечь только что происшедшего разговора – он побежал к Джамухе, с трудом сдерживая крик: «Гуси! Гу-си-и-и!» Бежал он ловко – ни один камень не стронулся с места под ногой, ни один сучок не хрустнул. Только полосатый бурундук проскользнул вверх по стволу кедра, словно играя с Дабаном в прятки.
И он услышал, как Джамуха поет.
- …Много дорог предо мной,
- Но не нашел опоры нигде.
- Широки степи родные,
- Но нет мне приюта нигде.
- Я как облако в высоком небе –
- Несет меня ветер,
- А кругом пустота…
«Гур хан поет…» – в растерянности затаился за каменным валуном Дабан. Он посмотрел на замшелый бок валуна, словно бы обращаясь к тому за советом.
«И я запою, если меня стронуть и пустить вниз по склону», – ответил камень. «Таким должно быть сердце?» – спросил Дабан. Он закрыл глаза и приложил ухо к морщинистым губам камня. Камень молчал.
- …Среди людей я не нашел друзей,
- Не встретил соратников… –
тихо пел, завывая, Джамуха.
«А я? Кто я?» – мысленно спрашивал вождя Дабан.
- …Народ мой забудет имя мое,
- Останется лишь песня моя –
- Моя последняя опора,
- Мой единственный посох.
- Она будет сторониться счастливых,
- Она пойдет от костра к костру,
- Будет гостем одинокому,
- Будет другом сироте…[8]
«А ты сирота… – сказал себе Дабан. – Нет отца-матери, нет вождя… Зачем жизнь? Зачем стрелы в колчане?..» Он сосчитал их каленые оголовья и, ступая тише хорька, тронулся вниз по ущелью, к маленькому озерку, куда, по его соображениям, сели дикие гуси. «Порадую гур хана жирной дичью…» – думал он, освобождаясь от тугих пут непосильных мыслей.
Джамуха и черный камень словно врастали друг в друга: камню отходило тепло гур ханова тела, а Джамухе – спокойствие камня. Джамуха смотрел на свое отражение в зеркальной кривизне серебряного щита: век бы никуда не уходил отсюда! глаза бы мои никого не видели! уши бы никого не слышали! Но мужество вождя – не в выборе жизни, а в выборе смерти и времени для нее. Главное – вовремя.
«Ты неплохо жил в этом срединном мире, Джамуха… – тихо пел вождь, не остерегаясь чужих ушей. – Народ твой со времен твоего младенчества принял тебя, как повитуха, в свои ладони. Он нянчил, пестовал тебя, он не давал тебе познать и малого золотничка нужды – ты всегда был богат, в отличие от андая… Но обманул ли я их надежды и упования? Полунищее племя, со времен древних тюрков не смевшее поднять глаза к звездам небесным, я вывел в избранные и стал первым великим вождем этого народа, соперничая с великанами! Но Господь Бог Христос дал мне хорошего щелчка, как насекомому, возомнившему себя императором ослиной шкуры до той поры, пока удар ослиного хвоста не прервет его царствования и самой жизни… Бог не дал мне потомства, а народ предал меня, чувствуя, что судьба его в руках слепца… Ты слепец, Джамуха. Ты никогда не хотел понять, что всякая вещь имеет изнанку, что друг и враг бывают случайны, как попутчик на караванной тропе. Ведь считали же мы друзьями мэркитов, Тохтоо-бэки, найманов, Кучулука, кэрэитов… Пока наша сила не подвергалась сомнению, пока были уверены, что шутя разгромим монголов Чингисхана и разделим их добро – до тех пор шелестели слова славословий, как низкая трава у входа в сурт, и гремели бубны клятв в преданности и верности мне… Где все это теперь? Древние правители говорили: «Для имеющих головы и без оных, для славных и бесславных – владыка – Божий дар. Только кажется, что его выдвинули снизу. На деле он избранник Господа Бога Отца, всевышнего, всемогущего, всеединого. Вот почему владыка иногда – кара несчастному народу, а иногда – удача счастливого народа»… Так что на все воля Божья. И я в Его воле, и мне отвечать за содеянное пред лицом Господа… А Дабан – у него все впереди… Он мог быть моим сыном, а станет сыном Тэмучина. В наше время нет человека, подобного моему андаю, а других времен я не знаю. Он поверил в наш народ и народ поверил в него, о Господи! А народ наш подобен благородному белому хрусталю, и он достоин жить в благородных белых кибитках – так я скажу Дабану. Я скажу ему: ты не будешь питать ненависть к человеку, который знал тебя как друга своего врага, но все же пригласил тебя к себе и оставил при тебе оружие! А ведь именно так поступит Чингисхан! Запри это у себя в уме, скажу я, но противостояние наше с андаем – это борьба наших окружений за владычество над Степью. Оказалось, Тэмучин – богатырь из рода монголов, а я, твой гур хан – всего лишь главарь шайки, азартный игрок в кости… Иди к нему. Иначе где и как ты можешь завоевать славное имя настоящего полководца? Твои задатки могут принести плоды только под благодатным крылом великой личности, каковой и является андай…»
Джамуха отложил в сторонку свой серебряный щит, через голову снял с груди ханский ярлык, носимый в особо важные моменты бытия, и завернул его в чистую рубашку из китайской чесучи, которую надевал перед сражениями. Сверток и нож с ножнами он сунул в пустой узороченный колчан, сам встал и с хрустом потянулся, словно пытаясь дотронуться руками до неба, куда рассчитывал скоро прийти к Божьему суду.
После того, как поели гусиной похлебки и Джамуха утер губы лоскутом из цветной ткани в знак окончания трапезы, он попросил у Дабана нож, выстругал острую спичку из стланика и стал чистить ею зубы. Дабан, уминающий мясо со львиной яростью, вдруг перестал жевать и уставился на пояс гур хана.
– А где же твой нож в золотых украшениях? – спросил он, и кадык его задергался, освобождая от пищи рот и проталкивая ком мяса в туго набитую утробу.
– Ешь, ешь! – ответил гур хан. – Много будешь знать – мало станешь есть!..
Однако Дабан уже запил съеденное архи, чтобы взбодриться, вспугнуть сытную сонливость, и тоже утер губы пестрым лоскутом ткани.
Джамуха с видом бездельника все еще чистил зубы, с прищуром глядя на юношу. Наконец сказал:
– Ты отправляешься в ставку, – и, протянув руку к узороченному колчану, взял его. – В этом колчане – мой ханский ярлык и золотом убранный нож. Отвези его своей хотун…
– Да! Но как же…
Джамуха, казалось, не слышал этого мышиного писка. Он снял свой лук:
– Это мой подарок тебе, верный Дабан, сын мой… Ты знаешь, что оружие – самое дорогое, что имеется у воина…
– Так зачем же ты отдаешь его мне, недостойному, гур хан?!
Они стояли друг против друга, и в руках каждого лежал один конец лука. Только руки Джамухи уже не сжимали изогнутую под тетиву излуку, а руки Дабана еще не сжались, принимая священный дар.