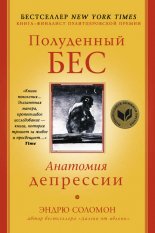История пчел Лунде Майя
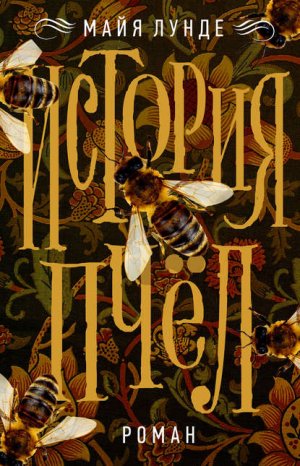
Передо мной лежала статья о гибели шмелей. Шмели и дикие пчелы исчезли одновременно с пасечными пчелами, однако их гибель заметили не сразу. Исчезновение популяций никого не встревожило, хотя дикие пчелы опыляли примерно треть всех растений в мире. В США эту работу выполняли медоносные пасечные пчелы, а вот на других континентах роль опылителей отводилась преимущественно диким пчелам. В их случае было сложнее отследить постоянное сокращение видов и число насекомых внутри популяции, и тем не менее дикие пчелы тоже пострадали от клеща, вирусов и непогоды. И от пестицидов. Скопившихся в почве ядов уже хватало и на будущие поколения — не только пчел, но и людей.
Люди попытались отыскать замену медоносным пчелам, и первыми кандидатами были, естественно, дикие пчелы, однако тех почти не осталось. Следующими на очереди были мухи-опылители — Ceriana conopsoides, Chrysotoxum octomaculatum и Cheilosia reniformis, но попытки полностью заменить ими пчел успехом не увенчались. К тому времени жизнь на Земле стала почти невыносимой. Таяние льдов и изменение климата повлекли за собой переселение народов, и если прежде развязывать войны человечество заставляла жажда власти, то сейчас воевали из-за нехватки еды.
Описываемая в статье история тоже заканчивалась 2045 годом. Спустя столетие после Второй мировой войны планета в привычном современному человечеству виде утратила возможность кормить миллиарды людей. В 2045 году пчел на земном шаре не осталось.
Я подошла к полкам, где стояли книги о Синдроме, — хотела вернуть на место те, что брала почитать, и взгляд мой вдруг упал на стоявшую чуть поодаль книгу в зеленом переплете. Книга была не особенно толстой и невысокой, но я почему-то не могла оторвать глаз от зеленой полоски. И от желтых букв на ней: «Слепой пасечник».
Ухватившись за корешок, я потянула книгу на себя, но та сопротивлялась — обложка прилипла к соседним книгам; я дернула посильнее, и книга, словно тихо вздохнув, поддалась.
Я открыла ее, страницы были жесткими, но перелистнулись легко, будто обрадовались мне. В прошлый раз я читала ее, сидя в скромной школьной библиотеке, и тогда мне досталась лишь потрепанная копия. На этот раз я держала в руках совершенно новый экземпляр. Я посмотрела на титульный лист. 2037 год. Первое издание.
Перелистнув еще несколько страниц, до первой главы, я снова увидела иллюстрации. Матка и расплод, личинки в сотах и золотистый мед вокруг. Рамка, облепленная пчелами. Неотличимые друг от друга, они сливались в единый узор. Полосатые тельца, черные глаза, блестящие радужные крылья.
Я листала дальше, добралась до пассажа о знаниях, до фраз, которые помнила с детства и которые сейчас произвели на меня совершенно иное впечатление: «Чтобы жить в природе, с природой, необходимо отстраниться от природы внутри нас… Суть образования в том, чтобы воспрепятствовать природе в тебе самом, действовать наперекор инстинктам…»
Я услышала шаги и подняла голову. Из-за полок показалась дежурная, она подошла ко мне и нарочито громко звякнула ключами, хотя и ничего не сказала.
Я быстро кивнула, давая понять, что уже ухожу.
— Можно мне взять вот эту на дом? — Я показала ей книгу.
Она пожала плечами:
— Да, пожалуйста.
Я положила книгу на кровать вместе с другими — набрала столько, сколько могла дотащить. Ладно, сейчас сперва в душ, а потом за чтение.
Я быстро разделась, стащив с себя брюки сразу вместе с носками и оставив на полу неприглядную кучу грязноватой одежды. Под душем я стояла, пока не закончилась горячая вода. Я трижды помыла голову, царапая ногтями кожу под волосами, стараясь избавиться от пыли этого мертвого города. Потом долго вытиралась: влага не желала расставаться с моей кожей, воздух в ванной был напитан водой. Напоследок я почистила зубы, буквально ощущая, как исчезают налет и бактерии, а потом завернулась в полотенце и прошла в комнату.
Первое, что бросилось мне в глаза, — это пол, откуда кто-то убрал мою одежду. Я повернулась к кровати. На ней сидела женщина. Моложе меня, с мягкой кожей и ухоженными ногтями. Одежда чистая и выглаженная, ни единой складочки, словно униформа. Гостья едва ли работала когда-нибудь опылителем.
В руках у нее была одна из моих книг, но какая именно, я не разглядела. Женщина подняла голову и посмотрела на меня, спокойно и серьезно. Слова вдруг покинули меня, а мозг словно пытался соединить какие-то разрозненные обрывки. Мы уже встречались с ней?
Она отложила в сторону книгу, поднялась и протянула мне мою одежду, сложенную аккуратной стопкой:
— Вам лучше одеться.
Я не двинулась с места. Незнакомка вела себя так, будто была в полном праве прийти сюда. Впрочем, возможно, так оно и есть. Вглядываясь в ее лицо, я пыталась вытащить хоть какие-то воспоминания. Но ничего не вспоминалось. Я почувствовала, что полотенце вот-вот упадет. И тогда я окажусь перед ней обнаженной и, если такое вообще возможно, еще более уязвимой. Я подтянула полотенце вверх, локтями прижала его к телу и тут же ощутила себя неуклюжей и предсказуемой.
— Как вы вошли? — спросила я и удивилась уверенности в своем голосе.
— Взяла внизу ключ. — Она улыбнулась, словно сказала нечто очевидное.
— Что вам нужно? Кто вы?
— Одевайтесь и пойдемте со мной. — Слова прозвучали как приказ.
— Зачем? Кто вы?
— Одевайтесь. — Она снова протянула мне одежду.
— Вам деньги нужны? У меня чуть-чуть осталось. — Я подошла к тумбочке, выдвинула ящик, вытащила жалкие монеты и протянула гостье.
— Меня прислал Комитет, — сказала она. — Одевайтесь и пойдемте со мной.
Уильям
Чертежи лежали у меня на коленях, я сидел на скамейке в саду, на порядочном расстоянии от улья. С этого места я мог видеть и слышать пчел, не опасаясь, что им вздумается ужалить меня. Сидел я тихо, словно притаившееся животное, добыча, ожидающая нападения. Однако на меня уже напали. Я больше не добыча. А падаль.
Пчела умирает, когда крылья у нее истертые и потрескавшиеся, разлохматившиеся, словно паруса «Летучего голландца». Она умирает, взлетая, когда тяжесть взятк тянет ее вниз; возможно, в этот раз нектара и пыльцы у нее больше, чем обычно, так много, что крылья не выдерживают. Такая пчела не доберется до улья, а упадет на землю вместе со своей ношей. Обладай она человеческими чувствами, в этот момент ее наверняка переполняло бы счастье, она влетела бы в ворота рая, сознавая, что прожила жизнь во всей ее полноте, претворив идею о самой себе, о Пчеле, как это сформулировал бы Платон. Истертые крылья и сама смерть ее — неоспоримое доказательство того, что она выполнила назначение, с которым была послана на землю, выполнила бессчетное количество дел, особенно учитывая размеры ее крошечного тельца.
Такой смерти я не удостоюсь. Признаков, доказывающих, что я выполнил мое земное предназначение, не существует. Никаких свершений в жизни моей не было. Я состарюсь, высохну и исчезну, не оставив следо, не оставив ничего, кроме, наверное, названия соленого пирога, от которого во рту остается жирная пленка. После меня останется сваммерпай, и ничего больше.
Тогда к чему продолжать все это? Грибы по-прежнему дожидались своего часа, запертые в магазине, в верхнем левом ящичке, ключ от которого имелся только у меня. Действуют такие яды с невероятной быстротой: всего несколько часов — и я почувствую слабость, после чего сознание покинет меня. Доктор решит, что у меня внезапно отказали жизненно важные органы, и никто не узнает, что я совершил это по доброй воле. А меня ждет свобода.
Но я не мог. Не мог встать со скамьи. Моих сил не хватало даже на то, чтобы уничтожить чертежи, руки не желали подниматься, мышечные импульсы замирали в кончиках пальцев, парализуя меня.
Долго ли я просидел там в одиночестве, мне неведомо. Она появилась незаметно, опустилась на скамейку рядом со мной. Совсем неслышно, даже дыхание ее было беззвучным. Своими близко посаженными глазами — моими глазами — она смотрела на летающих вокруг пчел или, возможно, в пространство.
В руке она сжимала письмо Дзержона. Должно быть, отыскала его среди учиненного мною в кабинете хаоса, отыскала и прочла, подобно тому как прежде находила в моих вещах то, что было ей нужно. Потому что это она, все это совершила она — прибранный магазин, книга на письменном столе. Я просто не замечал, не желал замечать.
Близость другого человека вылечила мое оцепенение, а может, оно отступило, потому что человеком этим была именно она. Кроме нее у меня никого не осталось.
Я положил чертежи ей на колени.
— Прошу, уничтожь их, — тихо попросил я. — У меня не получается.
Она сидела не шелохнувшись. Я попробовал поймать ее взгляд, но она отвела глаза.
— Помоги же! — взмолился я.
Она положила руку на чертежи.
— Нет, — сказала она наконец.
— Но это ж никчемный мусор, неужели ты не понимаешь? — Голос у меня сорвался, но она медленно покачала головой:
— Ты слишком торопишься, отец. Возможно, они еще пригодятся.
Я вздохнул и заговорил — спокойно, тщательно продумывая слова:
— Они бесполезны. Я прошу тебя уничтожить их, потому что у меня не хватает на это сил. Унеси их куда-нибудь, где я не увижу… и не смогу воспрепятствовать тебе… Сожги их! Брось их в костер, чтобы пламя взметнулось до небес!
Мне хотелось, чтобы мои слова подтолкнули ее, чтобы она вскочила и бросилась выполнять мою просьбу, как прежде воплощала в жизнь все мои пожелания. Но она по-прежнему сидела рядом, перелистывая страницы и водя пальцем по черточкам, — каких же усилий стоило мне вычертить их правильными, сколько стараний ушло на детали.
— Нет, отец. Нет.
— Но я хочу этого! — Грудь сдавило. Я чувствовал руку отца на затылке, слышал его язвительный смех, мои колени были выпачканы землей, а дома ждал ремень. Теперь она взрослая, а я ребенок, мне снова десять лет, и стыд давит на плечи, потому что я вновь ошибся. — Сожги их… Прошу тебя.
Лишь сейчас я заметил в глазах у нее слезы. Когда она в последний раз плакала? Не зимой, когда часами просиживала у моей постели. И не в тот вечер, когда притащила мертвецки пьяного Эдмунда. И, обнаружив меня в лесу, она тоже не плакала.
И тогда я понял. Эти чертежи принадлежали и ей тоже. Они были и ее творением. Она всегда была рядом, но я видел лишь себя. Мои исследования, мои чертежи, мои пчелы. Только сейчас я в полной мере осознал, что с самого первого дня нас было двое. Она тоже владела ими. Это были и ее пчелы тоже.
— Шарлотта. — Я сглотнул. — Ох, Шарлотта. Кем же ты считаешь меня?
Она изумленно посмотрела на меня:
— О чем ты, отец?
— О том, что… ты достойна… большего.
Шарлотта провела рукой по лбу, изумление сменилось недоумением:
— Большего? Нет…
Мне столько хотелось сказать ей. Что она заслуживает лучшего отца, такого, который будет думать о ней. Что я был идиотом, занятым лишь собой, и что она всегда, в любых моих начинаниях поддерживала меня. Но слова вдруг стали такими огромными, что произнести их я не сумел.
Меня хватило лишь на то, чтобы взять ее за руку. Этому она не препятствовала, но быстро положила другую руку на чертежи, чтобы те не унесло ветром.
Мы сидели в молчании.
Она несколько раз громко вздыхала, словно собираясь что-то сказать, но так и не решилась.
— Так думать нельзя, — наконец проговорила она, повернувшись и глядя на меня ясными серыми глазами. — Я получила то, о чем ни одна девушка и мечтать не смеет. Ни одна из знакомых мне девушек. Все, что ты показывал, о чем рассказал, что позволил увидеть… Время, которое мы провели вместе, наши разговоры, то, чему ты учил меня… Ты для меня… Я… — Она запнулась, помолчала, а потом сказала: — Ты лучше любого другого отца.
Я всхлипнул, глядя перед собой, стараясь отыскать точку, на которой мог бы сосредоточиться, и силясь проглотить слезы.
Мы так и сидели на скамье, время шло, природа наполняла мир своими звуками — птичьим пением, шелестом листьев, кваканьем лягушек. И еще рядом были пчелы. Их приглушенное жужжанье успокаивало меня.
Шарлотта осторожно высвободила руку и сказала:
— Ты их больше не увидишь.
Она встала и, держа чертежи обеими руками, словно те не утратили своей ценности, направилась к дому.
Я глубоко вздохнул, переполненный благодарностью и облегчением. И осознанием того, что теперь все, все это осталось позади.
Я долго сидел там и смотрел на пчел. Движимые усердием, они улетали и вновь возвращались. Назад и вперед.
Без устали.
Пока не изотрутся крылья.
Джордж
Мне опять не спалось. Хотя вроде как ничего не мешало. В спальне было прохладно и тихо. И темно. А почему, кстати, тут так темно-то? Раньше светлее было. Я вспомнил про фонарь. У меня так и не дошли руки его починить. Из стены по-прежнему торчали провода, похожие на червяков с головой из изоленты. Я проходил мимо каждый день, каждый день смотрел на них, и у меня сразу же портилось настроение. Одно из множества дел, которых я не сделал. Фонарь — это пустяк, и я это понимал. Свет возле двери мне не нужен, да он никому из нас не нужен. И Эмма про фонарь тоже ни словом не обмолвилась. По-моему, она вообще про него забыла. Но торчащие из стены провода напоминали мне, что все идет не так, как должно бы, что-то не работает.
Чтобы выспаться, мне нужно семь часов. По меньшей мере семь. Я всегда завидовал тем, кто мало спит и высыпается. Тем, кто приляжет на пять часов, а проснувшись, снова рвется в бой. Я слыхал, именно такие и добиваются в жизни всего, о чем только мечтать можно.
Я повернулся и посмотрел на будильник: 00:32. Когда я лег, было восемь минут двенадцатого. Эмма заснула сразу же, я тоже сперва задремал, но вскоре проснулся — сон как рукой сняло. И никак не мог найти себе места, словно матрас был утыкан иголками. Как бы я ни лег, все мне что-то мешало и кололо.
Надо заснуть. Если сейчас не усну, то завтра весь день насмарку. Может, выпить чуток?
Ничего крепкого у нас не было. Да и некрепкого тоже. Однако в холодильнике я отыскал пиво, а в буфете — стакан. Дело за открывашкой. На обычном месте — четвертом справа крючке над мойкой, между ножницами и деревянной лопаткой, — я ее не нашел. Куда же она запропастилась? Я выдвинул ящик для столовых приборов, наткнулся на штопор для вина и несколько полусгнивших аптечных резинок, но открывашки не увидел. Выдвинул следующий ящик. Эмма что, разложила тут все по-новому? Кстати, не в первый раз.
Я открывал ящик за ящиком, даже пиво в сторону отставил, обеими руками орудовал, про тишину и думать забыл. Если уж Эмме вздумалось тут все поменять, пусть потерпит! И на хрена ей столько ящиков, как только она умудрилась так забить их всяким барахлом?! И это все вроде как нужно? Пылесборники — вот что это такое! Яйцеварка, электрическая мельница для перца, даже особое приспособление, чтобы нарезать тонкими ломтиками яйца, — вещи скапливались годами, полжизни ушло, чтобы собрать их тут. Это Эмме они в свое время зачем-то понадобились. Меня так и тянуло взять мешок для мусора, свалить туда все это дерьмо и раз и навсегда избавиться от него. Выкинуть на помойку.
Но тут открывашка обнаружилась. Валялась в большом ящике вместе с шумовками, половниками и железными венчиками, в самой глубине. Да, похоже, Эмма нашла ей новое место. Я быстро открыл пиво. Больше всего мне хотелось пойти и разбудить ее. Сказать, чтобы не смела больше перекладывать вещи. Но я сдержался и отхлебнул пива. Глотку обожгло холодом.
В животе заурчало, но шарить по кухне в поисках еды было неохота. Сил не было. Ничего, пиво тоже питательное. Усталости я не ощущал, только беспокойство. Я прошелся по кухне, вышел в гостиную, схватил пульт от телевизора. Но тут взгляд мой наткнулся на стену в столовой, и я замер.
Пройдя в столовую, я остановился перед ними. Перед чертежами. Стандартный улей Уильяма Сэведжа. Который, строго говоря, остался стандартным только для семейства Сэведж. Они висели на стене, куда солнечные лучи не доставали. Оправленные в широкие полированные рамы, на которых благодаря Эмминым стараниям не было ни пылинки. Черные линии на пожелтевшей бумаге. Цифры. Размеры. Простые описания. И ничего больше. Но история, скрывающаяся за этими чертежами, началась в момент их создания, в 1852-м. Уильям Сэведж считал стандартный улей своим величайшим изобретением, которому суждено было увековечить его имя в истории. Однако тут его обошел один американец, Лоренцо Лангстрот. Американец снял сливки — разработал мерки, положенные впоследствии в основу стандартного улья. Сэведж просто-напросто опоздал. Оно и неудивительно: ни телефона, ни мейла, ни факса у них не было, и каждый из них сидел на своем континенте, ломая голову над одной и той же задачей.
За каждым великим изобретателем плетется дюжина неудачников, и Сэведж был одним из них. Так что ни денег, ни славы он так и не дождался, да и семья его тоже.
К счастью, его женушке удалось сбагрить замуж почти всех дочек. А вот с сыном, Эдмундом, дело обстояло намного хуже. С ним вообще одни проблемы были: смутьян и выпендрежник, он смолоду пристрастился к бутылке и закончил свои дни в лондонских трущобах.
Но одна дочь замуж так и не вышла. Шарлотта, самая сообразительная из всех. Та, от которой пошел наш род. Она купила билет в один конец и перебралась за океан. На чердаке у нас до сих пор стоит ее сундук — с этим сундуком она и приехала. Она и младенец. Про отца ребенка ничего не известно. В Америку они прибыли вдвоем. И сундук привезли, со всеми своими пожитками. Когда его открываешь, пахнет сыростью и старостью. Нам сундук не нужен, но выбросить его у меня рука не поднимается. Шарлотта всю жизнь свою уложила в этот сундук. И отцовские чертежи тоже.
Тогда это все и началось. Шарлотта занялась пчеловодством. Не то чтобы серьезно, потому что она вообще-то была директрисой в школе и преподавала там же. Она завела всего три улья, но этих трех ульев оказалось достаточно, чтобы мальчишка ее вошел во вкус и, когда подрос, построил еще несколько ульев. А потом и его сын. И сын его сына. И наконец, мой дед, который основал настоящую пасеку, кормившую семью.
Проклятые чертежи!
Я что было сил засадил кулаком по стеклу. Руку пронзила боль, тотчас же растекшаяся по всему телу. Чертеж покачнулся, но остался висеть.
Убрать их отсюда. Все шесть.
Я снял их с крючков и вытащил в прихожую. Вытащил из шкафа тяжелые зимние ботинки с толстой подошвой. Натянул ботинки и выскочил во двор.
Я собирался избавиться от чертежей, попрыгать на них, хорошенько потоптаться, но тут вспомнил про Эмму. От такого шума она наверняка проснется. Я поднял голову и посмотрел на окно спальни. Темно. Значит, спит.
Я потащил чертежи дальше, открыл дверь в мастерскую и бросил их на пол. Естественно, я мог просто вынуть стекло и извлечь чертежи, но мне хотелось услышать, как трещат осколки под тяжелыми башмаками.
Я вдавил ботинок в стекло. А потом и другой. И принялся прыгать. Стекло треснуло, рамки сломались. Прямо как я себе представлял.
Затем я выковырял из осколков чертежи, надеясь, что осколки разрезали их, прорвали насквозь, но они оказались живучими. Бумага была на удивление плотной и жесткой. Я уложил их друг на дружку, стопкой. И призадумался. Сжечь их, что ли? Поднести спичку — и пусть это семейное изобретение горит синим пламенем. Нет.
Я швырнул всю стопку на верстак и уставился на нее. Беспрокие бумажки. Никакой пользы от них. И судьба у них пусть будет такая же убогая. Огонь — это им слишком жирно будет, не заслужили они его. Нет, надо еще что-нибудь придумать.
И я придумал.
Поудобнее схватившись за листы бумаги, принялся рвать их. Сперва руки у меня вроде как сопротивлялись, но я себя пересилил. Мне хотелось, чтобы полоски выходили одинаково ровными, но стопка была слишком толстой, и бумага не слушалась. Я разделил стопку на две — по три чертежа в каждой. Но так выходило слишком быстро, а я рассчитывал, что смогу как следует отвести душу. Поэтому я решил разорвать их каждый по отдельности.
Звук получился потрясающий. Бумага словно верещала: «Пощади! Пощади!»
Это было не просто приятно — это было восхитительно. Наконец-то я нашел куда себя деть. Я бы с радостью всю ночь так просидел.
Но пришлось остановиться. Если обрывки получатся чересчур маленькими, ими нельзя будет воспользоваться.
Я сгреб обрывки в охапку, оставив на полу осколки и рамы. Подождут до завтра. Захлопнув дверь, я протопал по двору, поднялся на крыльцо и открыл дверь.
Сделав несколько шагов по коридору, я распахнул первую дверь с правой стороны. Еще два шага, в полной темноте. Судя по тихому журчанью, бачок опять вышел из строя. Пора его, похоже, менять. Включать свет было неохота, поэтому я просто бросил обрывки на пол. Пускай ждут своего часа. Им самое место тут. В сортире.
Тао
Мы сидели в старомодном электромобиле, какие выпускались в двадцатые годы, когда начался бум солнечных батарей. Помню, в детстве, когда родители привезли меня сюда, на улицах полно было таких машин, в основном старых и видавших виды. Машина была просторная, черная и сверкающая, сохранилась лучше большинства. Такие автомобили редко принадлежат частным лицам и используются преимущественно теми, кто занимает какой-нибудь государственный пост. В нашем городке машины имелись только у полицейских и у медработников — например, та «скорая помощь», что увезла Вей-Веня. Эти автомобили представляли собой незамысловатые коробки на колесах, сконструированные так, чтобы тратить как можно меньше энергии. Наша же машина была больше и роскошнее. У нас в городишке подобная машина была редким гостем, и когда она важно скользила по улицам, мы разевали рты и недоумевали, что ее привело в наше захолустье.
Внутри подобной машины прежде я не бывала. Я провела рукой по сиденью, обтянутому кожзаменителем, на котором время начертило сеточку трещин. Машина была старой. Чтобы это понять, достаточно было взглянуть на обшивку, вдохнуть поселившийся в салоне запах ветхости, не выводимый никакими чистящими средствами.
Усадив меня на заднее сиденье, женщина села вперед и назвала ни о чем мне не говоривший адрес. Автопилот сохранил адрес, и машина тронулась. Я видела лишь затылок женщины. Она молчала. Мне хотелось попросить ее остановить машину, и тогда я бы выскочила и сбежала, однако я осознавала бессмысленность этой идеи. Женщина не оставила мне выбора. По ее взгляду я поняла: непослушание обойдется мне дорого.
К тому же… Возможно, она везет меня к Вей-Веню. А разве есть для меня что-то важнее?
Мы ехали почти час. В центре нам встретилось несколько машин, но затем по совершенно пустой дороге. Светофоры не работали, и автомобиль мчался без остановок. Судя по дорожным указателям, мы двигались в сторону Шуньи. В этом районе я не бывала, но дома вокруг явно принадлежали в свое время людям состоятельным. Большие, но невысокие строения, двух- или трехэтажные, прятались в огромных садах. Когда-то выглядело все это внушительно, но сейчас здания обветшали, а сады заросли. Показался пустырь, бывший когда-то полем для гольфа. Теперь его заполонили сорняки, хотя один из углов был вспахан. Почва тут наверняка хорошая, плодородная, и я удивилась, почему в этих краях ничего не выращивают. Наверное, все уехали, решила я, и заниматься этим некому.
Машина наконец остановилась. Открыв дверцу, моя спутница вышла и жестом велела следовать за ней.
Я стояла на площади с некогда роскошным фонтаном посредине. В чаше лежала каменная птица — кажется, журавль. Возможно, она упала от старости, а может, ее сломали вандалы. Рядом не было ни единой машины, только ветер свистел в разбитых окнах — так посвистывает сама земля, медленно и уверенно избавляющаяся от человеческой цивилизации.
Сверху послышались голоса, и я подняла голову. На крыше высокого здания стояли двое — я видела их силуэты и слышала голоса, но слов не разобрала. В руках они что-то держали, а потом выпустили, и по воздуху проплыли два темных пятна, они удалялись в сторону центра. Я читала о летающих аппаратах на дистанционном управлении. В прежние времена их называли дронами. Значит, это они? И за кем они будут следить? Я поежилась: а вдруг я, ни о чем не подозревая, тоже была объектом слежки? Тогда обо мне уже немало известно.
— Сюда, — сказала женщина.
Таблички на двери не было, и о назначении здания ничто не сообщало. Женщина приложила руку к стеклянной пластине на стене, так чтобы каждый из пяти пальцев коснулся определенной точки, и две высокие двери раздвинулись в стороны. Они работали на электричестве, хотя у меня и сложилось впечатление, будто этот район давно отключен от станции.
Шагнув за ней, я вздрогнула, едва не натолкнувшись на молодого охранника. Потом заметила еще несколько охранников, тоже в форме. Они коротко поприветствовали мою спутницу, та кивнула в ответ и быстро двинулась дальше.
Мы пересекли просторный холл и оказались в большом офисе. Люди тут были повсюду — после нескольких недель, проведенных в пустынном городе, они казались мне ненастоящими. И все походили на молодого охранника у входа — ухоженные, аккуратные, не измученные физической работой и солнцем. Люди были погружены в работу: одни сидели перед гигантскими мониторами, другие что-то тихо обсуждали, расположившись в креслах или вокруг столов.
Здесь все было на виду. Стеклянные стены ничего не прятали, помещение просматривалось насквозь, но звуков я почти не слышала, их приглушали толстые ковры и громоздкая мебель. Несколько раз я едва не упала, споткнувшись о небольшие круглые пылесосы, ползающие по полу и втягивающие невидимую пыль.
Сюда разруха не добралась, я будто попала в прошлое. Женщина наконец остановилась. Мы уперлись в стену — первую настоящую стену, сделанную не из стекла, а из темного полированного дерева. Посреди стены была дверь, будто вырезанная. Моя спутница постучала. Прошло несколько секунд, затем раздалось тихое жужжание и дверь открылась.
Вей-Вень. Он здесь? Меня затрясло.
— Пожалуйста, проходите. — Женщина кивнула на открытую дверь.
Я нерешительно переступила порог.
За спиной послышалось жужжание и щелчок. Дверь закрылась. Я оказалась взаперти.
Комната была большой и светлой, но без окон. На полу здесь тоже лежал ворсистый ковер, стены закрывали тяжелые портьеры, до самого пола. За ними и впрямь стены? Или это декорации и там еще одна комната, а в ней — люди? Почудилось — или справа какое-то движение? Я быстро повернулась. Но нет, портьера висела неподвижно. По сравнению с тишиной в этой комнате приглушенный гул там, в офисе, казался теперь ужасающим шумом. Может, так и задумано, чтобы никакие звуки сюда не проникали? И никто не слышал тех, кто находится внутри… От этой мысли сердце мое заколотилось быстрее.
Портьеры справа зашуршали и отодвинулись в сторону, а из-за них вышла пожилая женщина. Она приветливо улыбнулась мне. В ней было что-то невероятно знакомое — посадка головы, узкий воротник-стойка, сеточка морщин вокруг глаз. Я много раз ее видела, но так близко — никогда.
Передо мной стояла Ли Сьяра, руководитель Комитета, единственного в нашей стране органа власти.
Я отшатнулась, но она улыбалась.
— Мне жаль, что нам довелось встретиться таким образом, — тихо заговорила она, — но нам давно пора побеседовать с вами. — Она положила руку на спинку кресла. — Пожалуйста, присаживайтесь. — Не дожидаясь меня, она опустилась в кресло напротив. — Знаю, у вас много вопросов. Приношу свои извинения, что не смогла сама приехать за вами. И надеюсь, что нам удастся разобраться во всем. — Она говорила мягко и размеренно, как по писаному.
Наши лица находились вровень, я не могла отвести от нее глаз. Сейчас, без медиафильтров, ее лицо выглядело таким беззащитным, близким и настоящим.
Дыхание у меня перехватило. Эта женщина… За какие решения она несет ответственность? Что у нее на совести? Вымершие города? Судьба паренька из ресторана? Обреченные на смерть старики? Похожие на призраков полу-дети, которых отчаяние вынуждает охотиться на людей?
Моя собственная мама?
Нет. Нельзя об этом думать, надо гнать эти вопросы, ей известно больше моего, как я могу судить.
— Я была бы признательна, если бы вы рассказали, почему я здесь. — Я изо всех сил попыталась скопировать ее манеру говорить.
Она задумчиво смотрела на меня:
— Сперва вы немало докучали нам.
— Но…
— Особенно когда приехали в Пекин. — Ли Сьяра на секунду умолкла. — Но потом… Мы действительно собирались связаться с вами, нам не хотелось, чтобы вы, вы оба, так долго пребывали в неведении. Но сперва нам требовалось убедиться.
— В чем убедиться?
Она подалась вперед, словно желая стать ближе ко мне:
— И теперь сомнений у нас не осталось. (Я молчала. От ее спокойного тона во мне пробудилась ярость, но мои вопросы явно бесполезны.) И возможно, все обернулось к лучшему. Хорошо, что вы сами отыскали ответ.
Стараясь сохранить спокойствие, я вздохнула и проговорила:
— Я не понимаю, о чем вы.
— Мы стоим на пороге новой эпохи, и в ней вам уготована особая роль. Мы надеемся, что вы от нее не откажетесь.
— Да о чем вы толкуете?
— Об этом вам еще предстоит услышать. Для начала я попросила бы вас рассказать, что, по вашему мнению, произошло с вашим сыном. К чему вы пришли?
Невероятным усилием я взяла себя в руки. Это был приказ, и я могла лишь повиноваться ему. А если откажусь — что тогда?
— То, что случилось с Вей-Венем, будет иметь последствия не только для меня, — медленно проговорила я, — и не только для него.
Она кивнула:
— Еще что-то?
— Думаю, что именно поэтому вы и забрали его. То, что с ним случилось… после этого многое может измениться. (Ли Сьяра молчала.) Где он? — взмолилась я. — Больше мне ничего неизвестно!
Она безучастно глядела в пустоту и не отвечала.
Внутри у меня будто что-то взорвалось, я больше не могла выносить ни молчания, ни спокойного назидательного тона, ни игры в угадайку, ни невозмутимого взгляда, ни полуулыбок, которые у меня не получалось истолковать.
— Я больше ничего не знаю! — Один прыжок — и я оказалась подле нее.
Она сжалась.
Я схватила ее за плечи, и впервые за все время выражение лица у нее изменилось: сквозь толстый кокон равнодушия проступил страх.
— Где Вей-Вень? — кричала я. — Где он? Что с ним? — Я пыталась вытащить ее из кресла. — Я больше так не могу! Ясно вам? Это мой ребенок!
Мое тело, привыкшее к физическому труду, было крепким и выносливым, вырваться она не сумела бы, я встряхнула ее за плечи и швырнула на дверь. Раздался глухой удар, ее лицо скривилось, я наконец-то пробудила в ней что-то, но остановиться уже не могла и не переставая кричала:
— Где Вей-Вень?! Куда вы его дели?!
В комнату ворвались охранники, набросились на меня сзади, оттащили меня от нее, швырнули на пол, не давая подняться. Я разрыдалась.
— Вей-Вень… Вей-Вень… Вей-Вень…
Ли Сьяра стояла рядом, вновь невозмутимая и спокойная. Она поправила одежду и отдышалась.
— Отпустите ее.
Охранники неохотно ослабили хватку, но я осталась сидеть на полу, скрючившись. У меня не осталось сил. У меня ничего не осталось. Ли Сьяра медленно склонилась надо мной, положила руку мне на затылок, медленно провела ладонью по моей щеке и, взяв за подбородок, заставила меня поднять голову. Наши взгляды встретились.
А потом она кивнула.
Он лежал на белой простыне в залитой электрическим светом палате. Он спал. Укрытый одеялом, так что видна была лишь голова. Личико было пухлым, и все же он слегка осунулся. Под глазами залегли глубокие тени. Я подошла ближе и увидела, что с одной стороны голова у него обрита. Я сделала еще шаг и поняла почему. Кожа за ухом, почти по линии роста волос, покраснела. Вокруг места укуса. Я подавила в себе желание броситься к нему. Кроме меня, тут никого не было, но я знала, что они наблюдают. Они всегда наблюдали за мной. Однако на месте я осталась не поэтому.
Пока меня отделяли от него два метра, можно было по-прежнему думать, что он спит.
Я могла считать его спящим и не замечать кристаллов льда, подбирающихся к ножкам его кровати.
Я могла считать его спящим и не замечать облачка пара, появлявшегося передо мной каждый раз, когда теплый воздух покидал мои легкие.
Я могла считать его спящим и не замечать, что возле губ Вей-Веня такого облачка не было, что над его кроватью, над белой простыней, воздух, холодный и чистый, застыл, как стекло.
Джордж
Возле дома Гарета пахло паленым. По двору полз сладковатый запах горячего меда и бензина, ударивший мне в нос, едва я открыл дверцу машины. Гарет стоял, повернувшись ко мне спиной и глядя на большой костер. Пламя взмывало на несколько метров вверх. Он побросал ульи как попало, даже друг на друга не поставил. Огонь гудел, трещал и пощелкивал. Я вдруг подумал, что огонь радуется. Он словно живет своей жизнью. И ему нравится уничтожать дело чьей-то жизни. Гарет сжимал в безвольно висящей руке канистру из-под бензина. Может, он вообще про нее забыл?
Он обернулся и увидел меня, но, похоже, не удивился.
— Сколько? — спросил я, кивнув на костер.
— Девяносто процентов.
Не ульи, не семьи, а проценты. Как будто речь шла о бухгалтерии. Вот только глаза его говорили другое.
Он отошел в сторону и поставил было на землю канистру, но тут же вновь схватил ее — видать, понял, что не дело оставлять ее посреди двора.
Лицо у него раскраснелось, кожа так высохла, что готова была вот-вот растрескаться, а шею обметало сыпью.
— У тебя как? — Он поднял голову.
— Почти все.
Он кивнул.
— Ты их сжег?
— Не знаю, стоит ли.
— Использовать их нельзя, ты чего. Они теперь насквозь провоняли.
Гарет был прав, от ульев пахло смертью.
— Я думал, эта зараза сюда не доберется, — сказал он.
— А я думал, это от плохого ухода, — сказал я.
Гарет растянул губы в подобие улыбки:
— И я.
Глядя на него, я вспомнил, как мальчишкой он стоял на школьном дворе, перед ним валялся его выпотрошенный рюкзак, а рядом — порванные учебники и сломанные карандаши, втоптанные в грязь, изгвазданные. Но он тогда не сдался — не заревел даже, просто на корточки присел, собрал книжки, вытер рукавом, сгреб карандаши и сунул все в рюкзак, как проделывал сто раз до этого.
Уж и сам не знаю почему, но я вдруг сжал его руку чуть повыше локтя.
И он наклонил голову, лицо словно раскисло.
Из груди у него вырвались три громких всхлипа.
Тело затряслось, напружинилось, будто готовое взорваться. Я крепко держал его, но Гарет взял себя в руки.
Три всхлипа — и все.
Потом он выпрямился и, не глядя на меня, провел тыльной стороной ладони по глазам. В эту самую секунду налетел ветер, дым от костра повалил прямо на нас, и слезам уже ничто не мешало.
— Вот сучий дымище, — сказал я.
— Угу, — поддакнул он, — сучий дымище.
Мы немного постояли молча, Гарет мало-помалу пришел в себя, и на лице его заиграла обычная ухмылка.
— Ну так чего, Джордж, зачем пожаловал?
Гарет не соврал. Ульи приехали быстро. Элисон, и глазом не моргнув, подтвердила мне кредит, и всего через два дня на двор въехал серый грузовик, из которого вылез хмурый тип, спросивший, куда ставить ульи.
Я и спохватиться не успел, как он выгрузил их и молча протянул мне листок бумаги для подписи.
И вот они стоят на лугу — жесткие и такие же серые, как доставивший их грузовик. И пахнут краской. Их полным-полно. И друг от друга не отличаются. Меня передернуло, и я отвернулся.