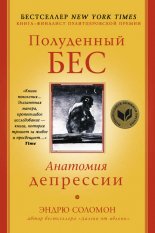История пчел Лунде Майя
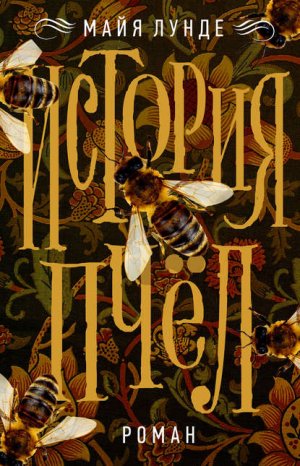
Только бы пчелы не заметили разницы.
Хотя они, ясное дело, заметят.
Они все замечают.
Тао
Парнишка поставил передо мной тарелку с жареным рисом. В прошлый раз в нем попадались кусочки овощей и омлета, но сегодня рис был лишь слегка сдобрен искусственным соевым соусом. От запаха в носу засвербело, и я отшатнулась, иначе меня вырвало бы. Последние дни я почти не ела, хотя денег Сьяра дала мне достаточно. Больше, чем достаточно. Но ничего, кроме сухих галет, проглотить я не могла. Каждая клетка моего тела пылала огнем, во рту пересохло, кожа на руках потрескалась. Я страдала от обезвоживания — возможно, потому, что пила недостаточно воды, а может, из-за постоянных слез. Я выплакала их все, больше не осталось, выплакала себя досуха, под аккомпанемент голоса Сьяры. Она навещала меня каждый день, говорила и говорила, объясняла и убеждала. Время шло, и постепенно ее слова начали обретать смысл. Я хваталась за них почти с жадностью, возможно желая уловить их смысл, желая следовать за ней и положить конец собственным мыслям.
— Вы слишком любили его, — сказала она.
— Разве можно любить слишком?
— Вы были такой же, как и все остальные родители. Хотели, чтобы у вашего ребенка было все.
— Да. Я хотела, чтобы у него было все.
— А это слишком много.
В какой-то миг, на секунду, мне могло почудиться, будто я понимаю. Но потом все превращалось в бессмыслицу, она произносила лишь слова, а мысли мои занимал Вей-Вень. Вей-Вень. Мой малыш.
Вчера она приходила в последний раз. Она сказала, что эта беседа — последняя. Мне пора возвращаться домой и забыть о собственной скорби. Передо мной стояли другие задачи. Сьяра хотела, чтобы я говорила. Рассказывала о Вей-Вене. О том, что пчелы вернулись. О нашей цели — моей и ее, о том, что мы начнем разводить их, культивировать, создадим все условия для того, чтобы все поскорее стало как прежде. Вей-Вень станет символом, сказала она. А я — скорбящей матерью, у которой хватило сил поднять голову и пожертвовать собственной скорбью ради других. Посмотрите: я потеряла все, и я иду вперед. Значит, у вас тоже получится. Она не оставила мне выбора, и я отчасти понимала почему. Я понимала, что она действует так, как должна. Как, по ее мнению, должна действовать. Сама же я сомневалась, сумею ли, получится ли у меня то, чего она требует.
Потому что кроме него ничто не имеет смысла. Его лицо. Наши лица — мое и Куаня, а между нами — Вей-Вень. Он смотрит на нас. Еще! Еще! Раз, два, три — прыг! И красный шарф, которым играет ветер.
Завтра я уеду. А Вей-Веня оставят здесь. Возможно, позже мне разрешат похоронить его. Но это уже неважно. Маленькое холодное тело, укрытое холодным одеялом, — это не он. Не таким было его лицо, которое я непрестанно пыталась вспомнить.
Я пододвинула тарелку пареньку:
— Вот, поешь.
Он с недоумением посмотрел на меня:
— А вы? Вообще есть не хотите?
— Нет. Я заказала это для тебя. (Парнишка нерешительно переступил с ноги на ногу.) Садись. — В моем голосе прозвучала мольба.
Он быстро выдвинул стул, подтянул к себе тарелку и, окинув ее почти счастливым взглядом, принялся жадно поедать рис. На него было приятно смотреть. Он жив — и я радовалась этому. Я сидела и глядела, как он, почти не жуя, глотает рис и тут же набивает рот снова. Утолив самый острый голод, парнишка чуть успокоился и, словно вспомнив о правилах приличия, стал есть медленней.
— Спасибо, — тихо поблагодарил он.
Я улыбнулась.
— Вы решили что-нибудь? — спросила я, дождавшись, когда он расправится с едой.
— Что именно?
— Как поступите дальше. Останетесь здесь?
— Не знаю. — Он уставился в поверхность стола. — Я знаю только, что папа каждый день раскаивается, что остался. Мы думали, что здесь с нами ничего плохого не случится, что наше место именно тут, но потом все изменилось. Сейчас вся наша жизнь — сплошное расстройство.
— Может, вам стоит переехать?
— Куда? Денег у нас нет, и ехать тоже некуда.
Меня вновь накрыло бессилие. И тут я тоже не в силах ничего изменить.
Хотя нет. Здесь еще не все потеряно. Кое-что предпринять я все же могу и, возможно, сумею кому-то помочь.
Я подняла голову:
— Поехали со мной.
— О чем вы? — Он недоверчиво смотрел на меня.
— Я уезжаю. Поехали со мной.
— Вы возвращаетесь домой?
— Да. Я еду домой.
— Но… нам же нельзя — они не позволят. И работа… Там найдется для нас работа?
— Я помогу вам, обещаю.
— А с едой там как?
— Лучше, чем здесь.
— Вон оно что… — Он отложил палочки. На тарелке лежало одинокое рисовое зернышко. Заметив его, паренек взялся было за палочки, но перехватил мой взгляд и быстро вернул их на место.
— У вас нет выбора, — тихо сказала я. — Здесь вы умрете.
— Да какая разница? — Он отвел глаза, в голосе его я услышала отчаянье.
— Что ты такое говоришь? — выдавила я. Нет, только не он, нельзя, он еще совсем молодой.
— Какая разница, что с нами будет? — пробормотал он, не глядя на меня. — Со мной, с отцом… Какая разница, где мы живем? Здесь, вместе. Или поодиночке. Все это неважно. — Голос у него вдруг сел. Парнишка откашлялся. — Все это уже неважно. Неужели вы и сами не понимаете?
Ответ не придумывался. Он говорил то же, что и Ли Сьяра, но смысл выворачивался наизнанку. Каждый по отдельности, мы не имеем никакого значения. Но если она говорила о единстве, то он — об одиночестве.
Я встала. Хрупкая надежда, за которую я хваталась, грозила вот-вот разбиться. Стараясь не смотреть на парнишку, шагнула к двери.
— Собирайтесь, — тихо сказала я, — завтра уезжаем.
Я вытащила из шкафа сумку. Времени на сборы понадобилось совсем чуть-чуть. Одежда, туалетные принадлежности, вторая пара обуви. Я прошлась по комнате — убедиться, что ничего не забыла. И наткнулась на них. Книги. Они целую неделю здесь лежали, но я их не замечала, они превратились в часть комнаты. Книги громоздились стопкой на столе, и я не прикасалась к ним с того вечера, когда меня увезли в Комитет, я так и не открыла ни одной из них, зная, что слова, как и все прочее, теперь лишились смысла.
Надо вернуть их. Возможно, еще успею в библиотеку. Но ноги словно вросли в пол, я прижимала стопку книг к себе, ощущая липкую гладкость нижней обложки.
Положив книги на кровать, я взяла в руки ту, что лежала снизу. «Слепой пасечник». В детстве мне так и не довелось дочитать ее до конца. И я открыла ее.
Джордж
У Эммы опять глаза на мокром месте. Она картошку чистила, повернулась ко мне спиной, а слезы у нее из глаз прямо градом хлынули, но Эмма даже не пыталась их унять и только тихонько всхлипывала время от времени. Она вообще в последние дни то и дело ревела, как на похоронах. Чем бы ни занималась — полы мыла, еду готовила или зубы чистила, — в любой момент могла расплакаться. И каждый раз мне хотелось убраться оттуда подальше, так что я находил оправдания и смывался.
К счастью, дома я торчал мало, с утра до вечера вкалывал. Рик с Джимми теперь на меня тоже целыми днями работали. Деньги, те, что я в кредит взял, таяли на глазах. Я уже и счет проверять перестал — сил не было смотреть, как мы беднеем. Работа нас спасет. И только работа. Не попотеешь — не заработаешь. Что-то еще можно было сохранить и вырученными деньгами расплатиться с банком, хотя бы отчасти.
Я худел, терял граммы, которые складывались в килограммы. День за днем. И ночь за ночью, потому что спал я скверно. Эмма все пеклась обо мне, вкусно готовила, украшала еду узорами из огурцов и морковки, но толку от этого было мало. Вкуса я не чувствовал, еда вставала в глотке опилочным комом, ел я просто потому, что деваться было некуда, иначе я просто выдохся бы. Я знал, что Эмма хотела бы каждый день подавать к ужину мясо, но она экономила. Мы ведь оба видели, как потихоньку беднеем, хоть и помалкивали об этом.
В последнее время мы вообще почти не разговаривали. И творилось с нами что-то не то. Я скучал по Эмме, и она вроде как была рядом, но, с другой стороны, совсем от меня отдалилась. Хотя, может, это я находился где-то не здесь.
Эмма шмыгнула. Мне захотелось обнять ее, как прежде, но что-то мне мешало. Ее слезы превратились в гигантский водопад, и теперь мы с ней стояли по разные его стороны.
Я попятился, надеялся, что выскользну за дверь, а она и не заметит.
Но она вдруг обернулась:
— Ты же видишь, что я плачу! (Я не ответил — не нашелся.) Иди сюда, — тихо позвала она.
Она впервые меня об этом попросила. Но я не двинулся с места.
Эмма ждала, зажав в одной руке картофелечистку, а в другой — картошку. Я тоже ждал. Надеялся, что пережду и она сама успокоится. Но на этот раз вышло иначе.
Она тихо всхлипнула:
— Тебе плевать.
— Что за чушь. Разумеется, нет, — возразил я, но глаза отвел. Она протянула ко мне руки. — Чего реветь-то? Легче от этого все равно не станет.
— Но если мы не будем друг друга утешать, то станет еще тяжелее. — Она, по своему обыкновению, перевернула мои слова с ног на голову.
— Оттого что я сейчас начну тебя утешать, ульев у нас не прибавится, и пчел тоже, и маток. И меда.
Она уронила руки и отвернулась.
— Иди работай. (Но я стоял на месте.) Иди работай! — повторила она.
Я сделал шаг к ней. И еще один. Отсюда я вполне дотянулся бы до ее плеча. Запросто. И это помогло бы. Нам обоим.
Я протянул руку, но Эмма этого не заметила — она уже выудила из раковины с грязной водой следующую картофелину и, привычно орудуя картофелечисткой, соскабливала кожуру, как сотни раз прежде.
Вытянув руку, я стоял посреди кухни, еще немного — и я бы дотянулся до Эммы.
И тут зазвонил телефон.
Рука у меня опустилась, я вышел в коридор и снял трубку.
Молодой женский голос поинтересовался, нельзя ли поговорить со мной. Я ответил, что она уже со мной разговаривает.
— Это Ли посоветовал к вам обратиться, — сказала она, — а с ним мы вместе в школу ходили.
— Ясно.
Значит, голос меня обманул и она вовсе не такая молодая.
Говорила она быстро, и язык у нее был подвешен хорошо. Сказала, что работает на телевидении и что они снимают фильм.
— О СРПС.
— И что?
— О Синдроме разрушения пчелиных семей. — Она проговорила это медленно и четко.
— Я в курсе, что такое СРПС.
— Мы работаем над документальным фильмом, в котором рассказываем о гибели пчел и о том, к каким последствиям это может привести. А вам ситуация знакома не понаслышке.
— Это вам Ли рассказал?
— Мы хотим положить в основу фильма личные истории.
— Личные истории? А-а, понятно.
— Мы могли бы как-нибудь приехать к вам, чтобы вы показали нам пасеку и рассказали о том, что чувствуете?
— Рассказать, что чувствую? Да особо и рассказывать нечего.
— Нечего? Ну как же! Наша цель — это как раз показать, как катастрофа влияет на каждого из нас, как она разрушила дело всей вашей жизни. Ведь с вами именно это и произошло, верно? И что вы теперь ощущаете?
— Дело всей моей жизни? Да все с ним в порядке! — выпалил вдруг я. Ее тон мне отчего-то не понравился. Она словно с увечной собакой разговаривала.
— Вот как? А я так поняла, вы потеряли всех ваших пчел, разве нет?
— Это верно, но я уже новых завел.
— Ах вот как… — Она умолкла.
— Летом рабочие пчелы живут всего несколько недель, — сказал я. — Новые ульи завести — дело нехитрое.
— Понятно. Значит, сейчас у вас уже появились новые ульи?
— Так и есть.
— Отлично! — обрадовалась она.
— Это почему?
— Вы нам пригодитесь. Просто чудесно! Вас устроит, если мы приедем на следующей неделе?
Я повесил трубку. Ладонь вспотела. Меня покажут по телевизору. Я им «пригожусь». Отвертеться не вышло. Я, конечно, попытался, но она меня уболтала. Спорить с ней оказалось даже хуже, чем с Эммой.
Государственный телеканал. Вся Америка увидит. Боже ж ты мой.
На пороге появилась Эмма с полотенцем в руках. Глаза у нее были красные, но, к счастью, сухие.
— Кто звонил?
Я объяснил, с кем говорил и чего они хотели.
— Интервью? Про пчел? Почему мы должны им что-то рассказывать?
— Не мы. Они хотят поговорить только со мной.
— А почему ты согласился?
— Потому что таким образом мы можем изменить ситуацию. И возможно, власти предпримут определенные меры. — Я осекся, поняв, что заговорил точь-в-точь как та журналистка.
— Но почему мы?
— Не мы. Я, — резко бросил я и отвернулся.
Вопросы, слезы, переживания — хватит с меня всего этого.
На меня вдруг опять навалилась усталость. Впервые за несколько месяцев. Впервые с тех пор, как Том приезжал сюда зимой. Меня вновь накрыло. Будь моя воля — я улегся бы прямо там, на полу в коридоре, и уснул. Деревянные доски так и манили. Я вспомнил про термометр с медвежатами, про смешной писк, который он издавал. Вот бы у меня сейчас температура подскочила! Тогда я залег бы в постель, уткнулся в подушку и накрылся теплым одеялом. А температура бы держалась и никак не сбивалась.
Но ложиться нельзя. Да и садиться тоже.
Потому что там, на лугу, меня ждали ульи. Пустые и серые. И слишком легкие. Пора их заселять. Кроме меня с этим никому не справиться. Скоро меня покажут по телевизору. Значит, надо, чтобы все увидели — я в порядке. И никакой Синдром меня не сломил.
Комбинезон висел на крючке, на своем обычном месте, на полке лежали шляпа и сетка. Под комбинезоном стояли сапоги, и со стороны все это напоминало тощее, вжавшееся в стенку привидение. Я снял с крючка комбинезон и стал переодеваться — застегнул молнию, проверил, чтобы нигде не осталось просветов и зазоров.
— Да ведь обед почти готов! — сказала Эмма. Опустив руки, она смотрела на меня.
— Попозже поем.
— Но я пудинг приготовила. С мясом.
— У нас микроволновка есть.
Нижняя губа у нее задрожала, но Эмма сдержалась и лишь смотрела, как я надеваю шляпу и цепляю к ней сетку.
Я поехал на луг в Алабаст-Ривер, где и провел остаток дня. Сперва работал. Погода была до омерзения хорошая. Меня даже досада взяла. Солнце медленно ползло на запад, прямо передо мной раскинулся цветущий луг. Ни дать ни взять картинка для календаря.
Но мне что-то стало совсем тошно. Руки словно парализовало, усталость никак не отпускала. Сил хватало только на то, чтобы нарезать круги у новых ульев. Пустых. Серых. Составленных в здоровенную башню.
Я бродил, пока не заметил возвращающихся домой пчел. Природа затихала.
Лишь тогда я направился на другую сторону луга. Ноги сами меня туда понесли. К старым, выкрашенным в леденцовые цвета ульям. К тем, в которых по-прежнему теплилась жизнь.
Почему именно эти семьи выжили? Кто решил, что жизни достойны именно эти?
Запыхавшись, я остановился возле желтого улья. Каждый раз, когда я проверял улей, внутри у меня все сжималось. Я боялся, что это повторится. Представлял себе пустой улей, в котором только матка и несколько совсем молодых пчел.
С этим ульем тоже что-то было не так. Уж слишком тихо. Я посмотрел на леток. Всего пара пчел. Мало.
Силы мне отказали.
Но выбирать не приходилось.
Закрыв глаза, я ухватился за крышку. И потянул ее наверх. Жужжание едва не сбило меня с ног. Почему же я его не слышал? Почему не понял, что с пчелами все хорошо? Что жизнь в улье идет на сто процентов так, как должна? Пчелы занимались своими обычными делами. Некоторые даже танцевали. Я высмотрел ярко-бирюзовую точку на спине одной из них. Матка. Посмотрел на расплод. На прозрачный золотистый мед. Они работали. Они жили. И они никуда не делись.
В глазах потемнело. Усталость меня доконала, и я осел на траву. Земля была теплая, а трава мягкая. Глаза закрылись сами собой.
Но я не уснул. Грудь вдруг сдавило. Похоже, Эммин водопад добрался и до меня. Вода поднималась. Она уже плескалась возле самых моих ног.
Я сглатывал комок, но вдохнуть не получалось. Я тонул. Но сдаваться не желал. Поэтому поднялся на ноги и уставился на копошащихся в улье пчел. Они вели свою обычную борьбу за потомство, за пыльцу, за мед.
Эти тоже умрут. Что бы я теперь ни делал — все умрет. Каждый раз, открывая улей, я буду испытывать то же чувство, независимо от того, живы пчелы или нет. Тогда какой во всем этом смысл?
Какой тогда смысл?!
Мышцы напружинились. И, вложив всю силу в одну ногу, я ударил.
Улей повалился на землю, и пчелиный рой взмыл вверх.
Я встряхнул улей, пластины упали на землю. Теперь пчелы были повсюду, злые и до смерти перепуганные. Им хотелось расквитаться со мной, а я топтал ногами расплод, уничтожал их потомство. Но звук выходил глухой, я едва слышал его. Не то что на стекле прыгать. Впрочем, это меня не остановило. Уничтожить их. Растоптать. Оторвать крылья. Как они уничтожили меня.
А потом до меня вдруг дошло. Это же так просто!
Нам ничего не стоит уничтожить друг друга.
Вокруг меня вился рой разъяренных пчел. Которые только и ждали, как бы изжалить меня.
Проще и не придумаешь.
Я поднял руку к сетке на лице.
Надо только снять ее.
Потом сбросить шляпу.
Стянуть перчатки.
Дернуть вниз молнию и выскочить из комбинезона. Разуться.
А дальше уж дело за пчелами.
Защищаясь, они примутся жалить, отдавая свою жизнь в обмен на мою. И на этот раз отца рядом нет. Некому схватить меня в охапку, помчаться через весь луг к реке, а там занырнуть вместе со мной под воду и дождаться, когда пчелы утихомирятся.
На этот раз я упаду. И уже не встану. Яд попадет в кровь, но они все будут жалить, а если вдруг перестанут, то я начну дрыгать ногами, провоцировать их, пока сил хватит.
Я дам им возможность расквитаться. Они ее заслужили.
И тогда все закончится.
Так и сделаю.
Прямо сейчас.
Я ухватился за сетку. Сквозь грубые перчатки ее тонкий материал почти не прощупывался.
Я потянул сетку наверх.
Ну же!
Вот только…
Какое-то движение позади меня, на лугу. И чьи-то крики.
Ко мне кто-то шел.
Сначала медленно, потом быстрее. И кричали громче. Белый рабочий комбинезон. Шляпа с сеткой. Оделся как на работу… Опять явился без предупреждения. Хотя, может, Эмма и знала.
Приехал. Неужто навсегда?
Он уже бежал. Заметил меня и понял, что я задумал?
Его крики будто протыкали плотный вечерний воздух:
— Папа?! Папа!
Тао
Я вставила ключ в замочную скважину и распахнула дверь, меня встретила сумрачная вечерняя пустота. За моей спиной стояли отец с сыном. Куртки Куаня на вешалке не было. Ботинок тоже.
Я приоткрыла дверь в ванную.
Его полка над раковиной опустела. Лишь белые потеки там, где прежде лежала бритва.
Он уехал, ни слова не сказав. Потому что сам захотел? Или думал, что этого хочется мне? Потому что я напоминала ему о Вей-Вене, подобно тому как все в нем самом напоминало о Вей-Вене мне?
Потому что считал меня виноватой?
Еще один человек, исчезнувший из моей жизни. Но на этот раз искать его мне нельзя. Нельзя расспрашивать о нем или пытаться связаться с ним. Это его выбор, и у меня нет никакого права задавать вопросы. Потому что виновата по-прежнему я.
Отец с сыном стояли в коридоре и вопросительно смотрели на меня. Надо что-то сказать им.
— Можете занять спальню.
Поставив в сторону сумку, я постелила себе в гостиной, прислушиваясь к голосу паренька. Он обсуждал детали, дальнейшую жизнь, и это давало ему силы. Он снова обрел будущее. Тьма у него внутри рассеялась. Или, возможно, я чересчур много попыталась вложить в сказанные ему слова. Попыталась вложить в них все то, что принадлежало мне самой.
Я подошла к окну. Ограда никуда не делась. В воздухе кружил вертолет. Пчелы были взаперти, словно в коконе, чтобы ни одна не вылетела, пока их не станет больше, намного больше, пока люди не научатся контролировать их. Так задумала Сьяра.
Она надеялась одомашнить их. Надеялась, что они спасут нас. Ей хотелось приручить их, подобно тому как она приручила меня. И я не противилась. Так было проще. Повиноваться ей и не думать.
Паренек засмеялся. Я впервые слышала его смех, такой молодой и радостный. Значит, мне удалось отдать им что-то, ему и его отцу. Смех звучал все громче, и мне вдруг стало легче дышать. Когда эти стены в последний раз слышали смех?
Я оглянулась на дорожную сумку, внутри лежала книга, которую я так и не сдала в библиотеку и прочла до конца, от корки до корки. Теперь все эти слова навсегда со мной, но что с ними делать, я не знаю. Это настолько больше меня, что у меня не хватает сил.
Они приводили в порядок площадь, расчищали место, строили сцену, устанавливали камеры. Там работали сразу несколько бригад, а речь мою будут транслировать по всему миру. Энергичная женщина-администратор, заправлявшая работой, велела поставить на сцене огромные корзины с только что собранными грушами. Все эти символы казались мне чересчур тяжелыми, но, возможно, именно так и нужно было.
Мне подобрали гардероб — ко мне явилась женщина с целым ворохом одежды. Ничего особенно роскошного, но все совершенно новое. Простые крой и ткань, немного похоже на прежнюю форму Партии. Словно для того, чтобы напомнить зрителям, что я — одна из них, из народа. Ткань производила впечатление тяжелой, однако оказалась мягкой.
— Это хлопок, — сказала женщина, — переработанный хлопок.
Одежду из хлопка я не носила никогда в жизни. Чтобы купить метр такой ткани, мне нужно месяц работать. Я выбрала синий костюм. Ткань дышала, я почти не ощущала ее. Я оделась и посмотрела в зеркало. Костюм мне шел. Теперь я выглядела как одна из них. Как она, Ли Сьяра, и уж никак не походила на работницу из фруктового сада. На ту, кем я должна была оставаться всю жизнь.
Костюм преобразил меня, превратил в ту, чьей помощи ждала Сьяра. Я повернулась и посмотрела в зеркало через плечо. Пиджак прекрасно сидел, брюки были как раз впору. Я потянула за рукав — ровно той длины, какая и нужна.
Я перехватила свой взгляд. Мои глаза… Как же они похожи на его глаза. И кто я такая? Я отвернулась. У Вей-Веня не было одежды из хлопка. Никогда. У него не было одежды из хлопка, и его маленькая жизнь ничего не значила.
Я заставила себя поднять голову и снова посмотреть в зеркало. На меня смотрела полезная дурочка.
Нет.
Воротник вдруг сдавил мне горло. Я сбросила пиджак, стянула с себя брюки, оставив их лежать на полу.
Я не хочу, чтобы все это было впустую. И я знаю, что надо делать.
Надела свои старые свитер и брюки, обулась.
Затем схватила стоявшую на полу сумку, открыла дверь и вышла на улицу. Отыскав администратора, я остановила ее и спросила:
— Где Ли Сьяра? Мне надо поговорить с ней.
Я нашла ее в здании городской администрации, где ей отвели самый просторный кабинет. При моем появлении охранник выпроводил троих мужчин, хотя совещаться они, судя по всему, еще не закончили.
Сьяра поспешно встала и двинулась мне навстречу. Ее губы сложились в знакомую приветливую улыбку, но на меня она больше не действовала.
— Вот, держите. — Я протянула книгу.
Она взяла, но открывать не стала, даже не взглянула на нее.
— Тао, я жду не дождусь твоего выступления!
— Вы должны ее прочесть.
— Хочешь, мы еще раз отрепетируем речь? Каждое слово. Возможно, некоторые формулировки лучше изменить…