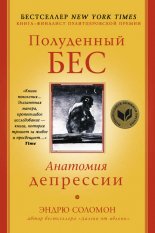История пчел Лунде Майя
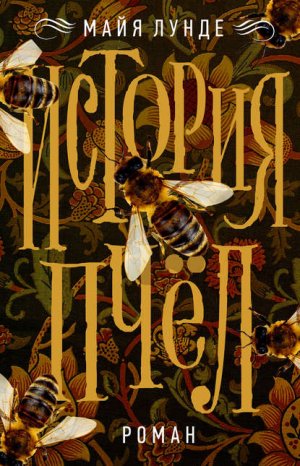
Тем не менее никто не ушел и никто меня не прервал, и лишь звуки свидетельствовали о надвигающейся катастрофе — шорох трущейся о деревянную скамью одежды, шарканье сапог, тихое покашливание. Тильда потупила взгляд. Неужели она покраснела? Ее подружки, с трудом сдерживая смех, переглянулись, а я, болван, продолжал говорить, надеясь, что мои пространные объяснения отвлекут внимание публики от только что сказанных мною слов.
— Этому Сваммердам посвятил целых три страницы своего главного труда под названием Biblia Naturae, то есть «Библия природы». На этих невероятно подробных иллюстрациях изображен трутень, то есть пчела-самец, и его гени… гениталии (это слово будто застряло у меня во рту), и различные стадии: как они открываются, разворачиваются… и э-э… полностью реализуют заложенный в них потенциал.
Я действительно это произнес? Бросив быстрый взгляд на собравшихся, я понял, что именно так оно все и было. Я снова уткнулся в текст и продолжил читать, хотя это лишь усугубляло положение.
— Сваммердам описывал их как… удивительных морских чудовищ.
Подружки захихикали.
Не отваживаясь поднять глаза, я схватил книгу Сваммердама и процитировал те чудесные слова, над которыми сам неоднократно размышлял. Я вцепился в книгу, надеясь, что слушатели наконец-то поймут и осознают, что такое истинная страсть.
— Если читатель вглядится в рисунки, позволяющие оценить невероятную структуру этих органов, то поймет, что перед ним — изысканное искусство и что чудеса Господни таятся даже в самых мельчайших организмах и самых крошечных насекомых.
Я заставил себя поднять голову и со всей ясностью увидел — да, у меня не оставалось ни малейших сомнений, — что проиграл, потому что на обращенных ко мне лицах я прочел испуг и даже гнев, и я окончательно осознал, что наделал. Мало того, что мне не удалось посвятить их в тайны природы, — я затронул самый грязный из всех возможных предметов и, ко всему прочему, приплел сюда Бога.
Я так и не рассказал до конца историю о несчастном Сваммердаме, который ничего большего и не достиг. Его карьера оборвалась, исследование пчел загнало его в ловушку религиозных дилемм: совершенство пчел вызывало у него страх. Сваммердам постоянно напоминал себе, что именно Бог, и только Он является единственным достойным объектом изучения, любви и внимания, а вовсе не эти крошечные создания. Пчела казалась бедняге существом совершенным, превзойти которое было не под силу даже Господу. Проведя пять лет почти что в улье, ученый так и не смог вернуться к человеческой жизни.
Впрочем, в тот момент я знал, что, если расскажу об этом, меня не просто осмеют — меня возненавидят, ведь со Всевышним шутки плохи.
Чувствуя, как меня заливает краска, я сложил записи и спустился со сцены, вдобавок еще и споткнувшись, совсем как мальчишка. Рахм, чьего признания я искал как никакого другого, с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, и лицо его застыло в какой-то странной гримасе. Он напомнил мне отца — моего настоящего отца.
После доклада я перекинулся парой слов с некоторыми из присутствующих. Многие не знали, что сказать, и я слышал, как вокруг перешептываются — некоторые весело, а некоторые сердито. Краска перекинулась с лица на шею, потом на спину, разлилась по ногам и нашла выход, обратившись в дрожь, которую я тщетно пытался скрыть от окружающих. Видимо, от глаз Рахма это не укрылось, потому что он положил руку мне на плечо и тихо проговорил: «Вы должны понять, что они заперты в мире тривиальностей и никогда не станут такими, как мы».
Его слова меня не только не утешили, напротив, лишь подчеркнули, насколько огромна пропасть, отделяющая меня от Рахма: сам профессор никогда не выбрал бы тему, которую публика могла счесть оскорбительной. Он знал меру их терпению и ловко балансировал между «ними» и «нами», понимая, что научный и обывательский миры не пересекаются. Словно желая подкрепить свои слова чем-то более основательным и еще раз напомнить мне о том, насколько я далек от публики, он вдруг рассмеялся. Тогда я впервые услышал его смех — отрывистый и тихий, но он заставил меня вздрогнуть. Я отвернулся, не в силах смотреть на профессора, его смех словно придавил меня, лишил слова утешения всякого смысла. Я шагнул в сторону.
И столкнулся с ней.
Возможно, в тот день я лишился ореола загадочности и не был больше таинственным чужаком, занимавшимся вместе с профессором чем-то непонятным. Возможно, тогда я казался особенно слабым и уязвимым. Возможно, именно поэтому у Тильды хватило смелости сделать первый шаг. Она не смеялась. Протянув мне руку в перчатке, Тильда поблагодарила меня за «э-э… интересный доклад». Подружки за ее спиной то и дело хихикали, но их смех вдруг куда-то исчез, как и они сами. Даже Рахма я вдруг перестал замечать и видел только ее руку. Я долго сжимал ее в своей, впитывая тепло, чувствуя, как эта рука возвращает мне силы. Тильда не издевалась и не смеялась надо мной, и я был бесконечно ей благодарен. Ее широко расставленные глаза блестели — такие открытые миру и жизни, но прежде всего мне. Подумать только — мне! Еще никогда молодая женщина не смотрела на меня так, и этот взгляд поведал, что она готова отдать себя, отдать все свое — мне, и только мне, потому что так она ни на кого больше не смотрела. От этой мысли колени у меня вновь задрожали, и я наконец отвел взгляд, словно перерезал нерв; меня пронзила боль, мне хотелось лишь вновь смотреть ей в глаза, а мир вокруг — да провались он пропадом.
Мое поведение на несколько месяцев стало основной темой деревенских пересудов. Если прежде ко мне относились с уважением и почтением, то теперь многие — особенно мужчины — стали крепче жать при встрече руку, хлопать меня по спине и улыбаться. А фразы «заложенный в них потенциал» и «удивительные морские чудовища» преследовали меня на протяжении многих лет. Сваммердама в деревне запомнили навсегда, и его имя упоминали в самых разных ситуациях. Когда жеребец на лугу покрывал кобылу, прохожие называли это «сваммердамским инстинктом». По вечерам в трактире, выходя справить естественную потребность, выпивохи заявляли, что идут «проветрить сваммердамчика». А главное блюдо местной пекарни — продолговатый пирог с мясом — ни с того ни с сего вдруг переименовали в сваммерпай.
Все это волновало меня на удивление мало. За утраченный авторитет судьба мне хорошо заплатила, по крайней мере, я так думал, когда спустя несколько месяцев вел к алтарю Матильду Такер. К тому моменту я уже давно изучил ее тонкие английские губы. Во время помолвки она наградила меня поцелуем, и я, к своему великому сожалению, понял, что губы ее не обладают способностью раскрываться, подобно крупному цветку или «удивительному морскому чудовищу», как мне мечталось поздними ночами. Ее губы, выглядевшие жесткими и сухими, такими и оказались. А нос, если уж на то пошло, все же был крупноват. Но, несмотря ни на что, когда священник благословил наш брак, щеки мои пылали от счастья. Я наконец-то женился, по-настоящему вступил во взрослую жизнь, не понимая тогда, что эта взрослая жизнь сделает все остальные мои мечты невыполнимыми и навсегда закроет мне дорогу в мир науки. Рахм был прав: теперь я занимался исследованиями через силу и моя страсть к познанию угасла.
Однако тогда я ни на миг не усомнился, что Тильда — та самая, единственная. Ее рассудительность восхищала меня, и, прежде чем ответить на вопрос, она тщательно продумывала ответ. Кроме того, я поражался ее упорству и умению отстаивать собственное мнение — такому редкому у молодых женщин качеству. Лишь позже, причем ненамного, спустя всего несколько месяцев после женитьбы, я понял, что на самом деле она так долго раздумывает над ответом просто потому, что сообразительность в списке ее достоинств не числится, а за упорством скрывается обычное упрямство. Как выяснилось, убедить Тильду в чем-либо было невозможно. Совершенно невозможно.
Однако существовала еще одна, важнейшая причина, по которой я хотел жениться на Тильде. Тогда я и сам отказывался это признавать, но сейчас болезнь сделала меня более откровенным, и мне хватает смелости сознаться в том, что я был примитивным и жадным, словно десятилетний ребенок. Ее тело — такое живое и теплое. И она была моей, переходила в мое владение. Я мечтал, как очень скоро прижмусь к этому телу, лягу на него и проберусь внутрь, в свежую, сырую плоть.
Но и здесь моим мечтам не суждено было сбыться: меня ждала суетливая возня с кнопками, завязками, шнурками от корсета и чулками, приправленная кисловатым запахом пота. Однако, превращенный животным инстинктом в трутня, я снова и снова тянулся к ней, желая дать выход своему семени, хотя обзаводиться потомством я совершенно не стремился. Подобно трутню, ради потомства я пожертвовал жизнью.
Тао
— Они делают все, что в их силах. Они сказали, что сделают все, что от них зависит. Куань насыпал заварку в принесенный медсестрой чайник и, выждав, неторопливо налил чай в чашку. Словно сейчас был самый обычный день. Будто мы сидели дома.
Наступил новый день. Новый вечер. Ела ли я? Я не знала. Нам исправно приносили еду и чай. Ну да, что-то я съела, несколько ложек риса. И выпила воды, чтобы унять резь в желудке. Остатки еды засыхали в алюминиевой миске, превращаясь в вязкий клейкий комок. Но я не спала. И не мылась. На мне была вчерашняя одежда — я надела ее до того, как все это случилось. Я нарядилась, достала самое красивое — желтую блузку и юбку до колена. Сейчас синтетическая ткань раздражала кожу, блузка казалась тесной в плечах, а рукава были слишком короткими, так что я постоянно тянула их вниз.
— Но почему они ничего нам не говорят?
Я стояла. Ни разу не села. Стояла и ходила. Марафон в заточении. Ладони были липкими, меня постоянно прошибал холодный пот. Одежда липла к телу, и от меня пахло — это запах был мне незнаком.
— Им виднее, и мы должны им доверять. — Куань отхлебнул чаю.
Это привело меня в ярость. То, как он пил, негромко прихлебывая, пар, поднимавшийся над чашкой и оседавший на носу Куаня, — все это я видела уже тысячи раз. Раньше. Но сейчас он не имел права. Он мог кричать, плакать, ругаться и обвинять меня. А он просто сидел и грел о чашку руки, такие спокойные и уверенные…
— Тао? — Он резко отставил чашку, словно прочитав мои мысли. — Прошу тебя… Чего ты от меня хочешь?
Я упрямо смотрела на него.
— Как ты можешь прямо сейчас пить чай?!
— Что?
— Ничего, я просто смотрела на тебя.
— Это я понял. — На глазах у него выступили слезы.
«Это наш ребенок!» — хотелось мне закричать. Вей-Вень! Но я лишь отвернулась, не в силах больше смотреть на мужа.
Звякнул чайник, и зажурчала вода. Куань поднялся и подошел ко мне.
Я обернулась. Он протягивал мне чашку горячего чая.
— Выпей — может, тебе станет получше, — тихо проговорил он. — Тебе нужно хоть чем-то подкрепиться.
Станет полегче? От чая? Вот, значит, чего он хочет. Ничего не предпринимать. Просто сидеть тут и ждать. Ничего не делать, ничего не менять. Я снова отвернулась. Но вслух говорить это все было нельзя. Он тоже мог много чего наговорить.
Моя вина была больше, но Куань не винил меня и не ругал. Он лишь протягивал мне чашку чая, а рука его была почти неестественно прямой. Куань вздохнул, словно собираясь сказать еще что-то.
В этот момент дверь открылась и на пороге появилась доктор Хио. Истолковать выражение ее лица у меня не получилось. Сожаление? Отстраненность?
Не поздоровавшись, она кивнула в сторону коридора:
— Прошу вас пройти в мой кабинет.
Я тотчас же двинулась за ней, а Куань замер с чашкой в руке, будто не зная, куда ее девать. Наконец он пришел в себя и быстро поставил чашку на стол, так что чай выплеснулся и на столешнице образовалась лужица. Заметив это, Куань замешкался. Может, вытереть? Нет. Куань выпрямился и заспешил следом.
Доктор шагала впереди, мы с Куанем старались не смотреть друг на друга, самое важное так и осталось невысказанным. Мы глядели в спину перед нами, прямую, обтянутую белым халатом. Доктор двигалась быстро и легко, волосы ее были собраны в девчачий хвост, раскачивающийся в такт шагам.
Открыв одну из дверей, доктор пригласила нас войти, и мы очутились в кабинете с серыми стенами. Безликом и незапоминающемся. Ни одной детской фотографии на стене, а на столе — только телефон.
— Пожалуйста, присаживайтесь.
Она указала нам на два стула, а свой выдвинула из-за стола. Возможно, этому их научили в институте? Что письменный стол придает врачу вес, однако, когда говоришь о чем-то серьезном, лучше находиться ближе к собеседникам?
О чем-то серьезном. Она собиралась сказать нам что-то серьезное. Мне вдруг захотелось, чтобы она села куда-нибудь еще. Не так близко. Я откинулась на спинку стула, подальше от доктора Хио.
— Мы можем его увидеть? — быстро спросила я. И храбрость покинула меня, задавать другие вопросы я не осмелилась. Что с ним случилось? Как он? И что будет дальше?
Она посмотрела на меня:
— Боюсь, пока вам к нему нельзя… И, к сожалению, ответственность за вашего сына с меня сняли.
— Сняли ответственность? Но почему?..
— У нас было несколько версий диагноза. Но… точный диагноз нам так и не удалось поставить. — Ее глаза забегали. — Этот случай настолько серьезный, что он находится за пределами моей компетенции.
Мне стало немного легче. Самых страшных слов она не произнесла. Покинул нас, умер, его больше нет — этого она не сказала. Она сказала, что случай сложный и что у них было несколько версий диагноза. Значит, они не прекратили попытки.
— Хорошо. Прекрасно. И кто теперь будет его наблюдать?
— Врачи, которые вчера вечером прилетели из Пекина. Я назову вам их имена, как только сама их узнаю.
— Из Пекина?
— Они лучшие в этой сфере.
— И что сейчас будет?
— Мне велели передать вам, что придется подождать. Можете пока вернуться домой.
— Что?! Нет!
Я повернулась к Куаню. Почему же он молчит? Доктор Хио заерзала на стуле.
— Он в хороших руках, лучше не бывает.
— Мы никуда не поедем. Это наш ребенок.
— Мне велели передать вам, что, возможно, окончательный диагноз они поставят еще очень не скоро. И вы здесь ничем помочь не можете. У Вей-Веня было очень странное и необычное заболевание.
Я окаменела. Было.
Я наконец открыла рот, но слова никак не слетали с языка.
— Что вы сейчас сказали?
Я повернулась к Куаню, но тот лишь неподвижно сидел, положив руки на колени. Нет, он ни о чем спрашивать не станет. Я вновь повернулась к доктору.
Слова вырвались откуда-то из самой глубины:
— Он жив? Вей-Вень жив?
Она склонилась вперед, вытянула шею и чуть приподняла голову, став похожей на выглядывающую из панциря черепаху. В ее круглых глазах я прочла мольбу. Доктор Хио словно просила нас не дергать ее больше. Ответа не последовало.
— Он жив?
Доктор замялась:
— В последний раз, когда я его видела, он был… Его подключили к аппарату искусственного жизнеобеспечения.
Сбоку всхлипнул Куань. Я заметила, что щеки у него мокрые, но мне было все равно.
— Что это значит? Что он жив, да? Это значит, он еще жив?
Она медленно кивнула.
Жив. Я ухватилась за эти слова. Жив. Он жив.
— Но он подключен к аппарату, — тихо добавила она. Не имеет значения. Я заставила себя думать, что это не имеет значения. Самое главное — он жив.
— Я хочу его увидеть, — громко потребовала я. — Я не уеду, пока его не увижу.
— Боюсь, это невозможно.
— Он мой сын.
— Как я уже сказала, по поводу него я больше решений не принимаю.
— Но вы знаете, где он.
— Мне и правда жаль, но…
Я вскочила. Куань поднял голову и изумленно посмотрел на меня. Не глядя на него, я повернулась к врачу:
— Отведите меня к нему.
Джордж
Где-то часов в пять я отправил Рика с Джимми по домам. К тому времени две трети всей работы мы сделали, а оставшееся я и сам осилил бы. Зачем платить другим, если можешь сделать сам? Когда начало смеркаться, я почти все доделал. И примерно в то же время на лугу появились какие-то отвратительные приставучие мошки. Интересно, где они прятались днем… Но с наступлением темноты их налетели целые тучи, и избавиться от них никак не получалось. Они, похоже, любили людей, потому что никак не желали от меня отставать, куда я — туда и они.
Пора было возвращаться. Я шагал к машине, когда позвонил Том. Я так и не удосужился сохранить в мобильнике его номер — по правде сказать, я просто-напросто не знал, как это делается, но номер его я все равно узнал.
— Привет, папа.
— Привет.
— Ты где?
— А ты чего спрашиваешь-то? — усмехнулся я.
— Ну, не знаю…
— Раньше люди сперва интересовались, как дела, а сейчас, когда у каждого мобильник, мы спрашиваем, где ты, — сказал я.
— Ну да.
— Я на пасеке. Ульи обходил.
— Ясно. И как там дела?
— Шикарно.
— Хорошо. Отлично. Рад слышать.
Рад слышать? Прозвучало это фальшиво. Он что, всегда теперь так говорить будет?
— А ты, кстати, как думаешь, о чем это говорит? — спросил я.
— В смысле?
— Ну, про нас и наше общество. То, что мы больше не спрашиваем, как дела.
— Папа…
— Да ладно, я ж просто придуриваюсь.
Я выдавил из себя смешок, но Том, как всегда, в ответ не засмеялся. Мы на несколько секунд умолкли. Я засмеялся громче, думал, так будет лучше, и вот стою я там, варежку разинув, как вдруг раз — и прямо в рот мне влетела мошка, да еще так далеко — готов поспорить, что до самого горла добралась! В горле жутко защекотало, и я растерялся: попробовать ее выкашлять? Или проглотить? Я попробовал разом и то и другое. Не помогло.
— Папа, — проговорил вдруг Том, — помнишь, о чем мы тогда говорили? Ну, когда я в последний раз домой приезжал?
Мошка зашевелилась, и в глотке вновь защекотало.
— Ты слышишь меня?
Я вновь кашлянул.
— Да вроде не оглох.
Он немного помолчал.
— Я получил стипендию.
Я слышал, что он затаил дыхание. Из трубки доносился едва слышный треск — помехи на линии, будто сами телефоны возражали против этого разговора.
— Папа, тебе платить не придется. Джон все уладил.
— Джон? — прохрипел я. Мошка намертво прилипла к горлу.
— Да. Профессор Смит.
Я прокашлялся, но не смог выдавить из себя ни слова. Впрочем, мошка тоже где была, там и осталась.
— Папа, ты что, плачешь?
— Я — плачу? С какого бы хрена?
Я опять кашлянул, и мошка наконец выскочила и приземлилась мне на язык.
— Ясно, — сказал он. И снова замолчал. — Я просто позвонил рассказать тебе об этом.
— Ну, считай, что рассказал.
Но не мог же я в такой момент плеваться — Том непременно услышал бы.
— Да.
— Да.
— Ну, пока.
— Пока.
Я утопил мошку в гигантском комке слюны и отправил все это куда-то в сторону — куда именно, мне было уже до лампочки — и остановился. Мне страшно захотелось со всей силы шваркнуть мобильник о землю, чтобы вся эта тонкая электроника, из-за которой от плохих новостей даже на пасеке нет покоя, разлетелась на мельчайшие детальки. Но я знал, что тогда придется покупать новый мобильник, а для меня это ужасная головная боль. К тому же все эти телефоны недешевые. Впрочем, даже швырни я мобильник на землю — еще не факт, что он разобьется. Трава-то уже достаточно высокая и мягкая, прямо как одеяло. Поэтому я просто стоял и пялился на сжатый в руке кусок пластмассы, а по сердцу у меня словно граблями скребли.
Уильям
Я постепенно избавлялся от темноты, ко мне вернулся аппетит, и я старался больше двигаться. Я ежедневно принимал ванну, часто просил сменить мне одежду, а брился порой дважды в день. Теперь, когда долгие месяцы в обличье грязного, заросшего волосами шимпанзе были позади, мне нравилось ощущать гладкость кожи, всеми порами вбирающей воздух.
И я читал — читал, пока не начинали слезиться глаза. С каждым днем мне удавалось прочесть все больше слов, я целыми днями просиживал за письменным столом, обложившись книгами, которые были теперь повсюду: на столе, на кровати и на полу.
Я заново перечитал труды Сваммердама — его авторитет для меня оставался непоколебимым. Я тщательно изучил модель улья, созданную Юбером, его хитроумные рамки, и составил список журналов и статей о практическом пчеловодстве. Оказывается, таких журналов издавалось немало: в последние годы пчеловодство стало модным хобби, отличным способом скоротать послеобеденные часы, пока дожидаешься вечернего чая. Однако большинство статей было написано для обывателя, простым языком, и снабжено примитивными иллюстрациями. Мне достаточно было быстро пролистать, чтобы понять, что к чему. В некоторых статьях описывались эксперименты с деревянными ульями, авторы других утверждали даже, что изобрели совершенно новую модель, и тем не менее никому из них оказалось не под силу создать улей, позволяющий пчеловоду наблюдать за обитателями улья, всеми без исключения. Такой, какой предстояло создать мне.
Доротея навещала меня ежедневно. Румяная и свежая, она появлялась на пороге и всегда угощала меня каким-нибудь блюдом собственного приготовления. Думаю, она выполняла просьбу Тильды, а та надеялась, что я больше съем, зная, что еда приготовлена моей собственной дочерью. Впрочем, Тильда не ошиблась: стряпня Доротеи оказалась невероятно вкусной. Девушка обещала стать прекрасной хозяйкой. Иногда заглядывала и Джорджиана. Комната наполнялась вдруг ее резким детским голосом, развеивавшим все мои раздумья, а потом Джорджиана так же внезапно исчезала. Меньше всего хлопот мне доставляла Шарлотта, время от времени забегавшая взять какую-нибудь книгу из тех, которые мне на тот момент были не нужны. Читала она запоем и очень быстро, и я понимал, что совсем скоро она перечитает всю мою библиотеку.
А Эдмунд не заходил ни разу. Вечером до меня иногда доносился его голос — снизу, из сада или даже прямо из-за моей двери, но радовать меня своим присутствием он не спешил.
В конце концов я пошел к нему сам.
Был ранний вечер, и, как всегда бывает после вечернего чая, на дом опустились покой и тишина. Вскоре наступит время ужинать и воздух вновь наполнится звуками, но пока еще это время не пришло.
Я осторожно постучал в дверь его комнаты. Не дождавшись ответа, я положил ладонь на ручку двери, но решил выждать. Дать ему время. Я поднес руку к лицу и провел пальцами по гладко выбритой щеке. К этому визиту я подготовился: надел свежие брюки и вымылся, как никогда желая, чтобы он увидел меня обновленным и забыл человека, которого навещал.
К двери он не подходил, поэтому я вновь постучался. Ответа не последовало.
Могу ли я войти? Это его комната, его жизнь. Однако я — его отец, и дом, а следовательно, и эта комната принадлежат мне.
Да, могу. Я в своем праве.
Я осторожно нажал на ручку, и дверь приоткрылась, словно приглашая войти.
В комнате было темно, единственный источник света — закатное небо за окном, но окно это выходило на восток, и по вечерам солнечные лучи сюда не добирались.
Я вошел внутрь и заметил ключ, торчавший из замочной скважины. Разве Эдмунд запирается изнутри? Воздух здесь был спертым, а к слабому запаху мускуса примешивался еще один, немного резкий, но что это за запах, определить я не мог. Повсюду валялась одежда: на спинку стула был наброшен пиджак, на кровати лежали скомканные брюки и рубашка, с зеркала свисал шарф, тот самый темно-зеленый шарф, который был у Эдмунда на шее, когда он приходил ко мне. На тумбочке громоздились грязные чашки и тарелки, а прямо посреди комнаты стояли нечищеные ботинки.
Я замер. В душе у меня зашевелилось беспокойство. Что-то в этой комнате настораживало. Что-то было не так.
Возможно, беспорядок?
Нет. Эдмунд молод. Он мужчина. Разумеется, иначе и быть не может. Надо попросить одну из девочек помочь ему прибраться.
Дело не в беспорядке, здесь что-то еще.
Я огляделся. Одежда, тарелки, обувь, чашка.
Чего-то недоставало.
И я вдруг понял.
Письменный стол. Он был пуст. И полки на стене. Тоже пустые.
Куда подевались все его книги? И письменные принадлежности? Все, что нужно ему для учебы?
— Отец?
Я резко повернулся. Эдмунду вновь удалось появиться незаметно.
— Эдмунд! — Я пошатнулся. Возможно, мне лучше покинуть его комнату? Нет. У меня есть все права здесь находиться. Все права.
— Я кое-что забыл.
Он запыхался, щеки его раскраснелись. Вероятно, Эдмунду пришлось возвращаться издалека. Сегодня он вновь оделся с изящной нарочитой небрежностью: красный бархатный жилет, расстегнутое пальто, платок на шее. В руке он сжимал портмоне. Подойдя к столику возле зеркала, он отпер стоявшую на нем небольшую шкатулку, вынул из нее несколько монет и переложил их в портмоне, после чего наконец повернулся ко мне:
— Что-то случилось?
Он ничуть не сердился на меня за то, что я без спросу расхаживал по его комнате, — по всей видимости, это его нимало не тревожило.
— Ты куда? — спросил я.
Он неопределенно тряхнул головой:
— Прогуляюсь.
— Но куда?
— Отец… — Он улыбнулся, как мне показалось, немного удрученно.
Я не мог вспомнить, когда он в последний раз улыбался, но улыбаться или нет — это, разумеется, решать ему.
— Прости меня, — улыбнулся я в ответ, — я постоянно забываю, что ты уже не ребенок.
Он двинулся к двери, и я шагнул за ним. Неужели он сейчас уйдет? Почему он не посмотрит на меня, не посмотрит на меня внимательно, не увидит, что я выздоровел, что привел себя в порядок, что с нашей прошлой встречи я изменился?
Эдмунд нехотя остановился. Мы стояли по разные стороны дверного проема, черной расселиной ставшего между нами. Два шага — и он исчезнет.
— Могу я спросить тебя кое о чем? — проговорил он.
— Разумеется. Спрашивай, о чем твоя душа пожелает. Я приветливо улыбнулся. Вот оно — начало беседы, наш с ним шанс, зарождение чего-то нового.
Он глубоко вздохнул.
— У тебя есть деньги?
Я остолбенел:
— Деньги?
Он скривился и помахал портмоне:
— Тут почти пусто.
— Я… — Звуки не складывались в слова. — Нет, прости…
Он пожал плечами:
— Пойду спрошу у мамы.
И исчез за дверью.
Сам не свой от унижения, я вернулся к себе. Значит, в его глазах я всего лишь кошелек? И кроме денег ему от меня ничего не надо?
Я уселся за письменный стол. Нет, это невозможно. Но деньги… Наверное, для него они олицетворяли вещи, которых мы были лишены. Ведь последние несколько месяцев семья терпела нищету… Вполне очевидно, что ситуация изматывала его. Нехватка денег непрестанно напоминала о болезни отца. А сейчас я восстал из мертвых, что само по себе неплохо, однако я по-прежнему не мог дать ему того, в чем он так нуждался. Он молод. Понятно, что эта простая, но вынужденная потребность стала играть в его жизни такую роль. Но он должен дать мне время. Благодаря моей идее Эдмунд получит не только то, в чем он так нуждается прямо сейчас, но и самое важное в этой жизни, — впрочем, это он поймет лишь со временем.
Я обмакнул перо в чернильницу и провел им по листу бумаги. Талантами художника природа меня обделила — к моему величайшему сожалению, ведь натуралисту постоянно приходится делать зарисовки. Впрочем, за долгие годы мне удалось выработать определенную технику, поэтому сейчас я, по меньшей мере, мог вполне сносно рисовать пером.
В голове у меня роились мысли, и пока они не исчезли, нужно было перенести их на бумагу. Я представлял себе ящик из дерева со скошенной крышкой. Форма соломенных ульев была естественной, со стороны они напоминали гнездо, а благодаря своему цвету почти сливались с колосьями в поле. Мне хотелось создать нечто иное, продукт цивилизации, маленький пчелиный дом, с дверьми и окнами, чтобы его можно было открыть и заглянуть внутрь. И он должен выглядеть как творение человеческих рук, ведь только мы, люди, способны построить нечто стоящее, создать конструкцию, возводящую в ранг творца человека, а не природу.
Я просидел за чертежом несколько дней, вычерчивая миллиметровые линии, раздумывая, как наладить производство придуманного мною улья, и отдавая все силы мельчайшим деталям. Моя семья продолжала жить своей жизнью. Порой я готов был вообще забыть об их существовании, однако Джорджиана и Тильда ежедневно навещали меня. И еще Шарлотта.
Однажды утром она заглянула ко мне удивительно рано. Раздался негромкий стук в дверь — она всегда так стучала. Я вычерчивал крышу улья и поэтому сперва не ответил.
Стук повторился.
— Входи… — с досадой вздохнул я.
Дверь открылась. Шарлотта стояла, выставив одну ногу вперед, будто готовилась к прыжку и собиралась с силами.
— Добрый день, отец.
— Добрый день.
— Можно войти? — Голос звучал спокойно, но глаза она опустила.
— Я работаю.
— Я не буду тебе мешать, просто хочу вернуть ее обратно. — Она протянула мне книгу, сжимая ее обеими руками, словно нечто ценное. Шарлотта шагнула вперед, подняла голову и посмотрела на меня: — Я надеялась, что ты уделишь мне время и не откажешься обсудить ее… — Ее серо-зеленые глаза были посажены чересчур близко и совсем не походили на глаза Тильды. Шарлотта вообще была совершенно непохожа на свою мать.
— Поставь ее туда. — Я кивнул в сторону книжного шкафа и выразительно посмотрел на дочь, надеясь, что этого будет достаточно и что мне не придется самому выпроваживать ее.
— Хорошо. — Она снова опустила голову, подошла к шкафу и остановилась.