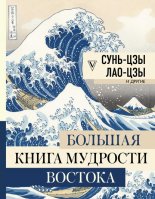#черная_полка Долонь Мария

— Что-то похожее было в фильме «Начало». Про идею. Помните? — оживился Штейн.
— Точно, — согласился Эдик. — «Какой самый живучий паразит? Бактерия? Кишечный глист? Нет. Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно», — процитировал он героя фильма. — То есть по твоей теории получается, что идеи функционируют как живые организмы? Сама придумала?
— Куда уж мне: это акторно-сетевая теория и частично теория мемов Джона Ло и Ричарда Докинза, — усмехнулась Холодивкер.
— Парни неплохо соображают. За Ло и Докинза! — Олег поднял стакан, но до рта не донес. — Подожди, не сходится! Допустим, человек выполнил требование идеи-фикс, отслужил ей, после чего гибнет, а дальше что? Паразиты все-таки стремятся, чтобы их хозяин худо-бедно жил и подкармливал их. Разве нет?
— Но идеям, так же как и паразитам, надо расширять свой ареал. Вы же были комсомольцами, ну же, вспомните Маркса! — Холодивкер сделала торжественное лицо и продекламировала: — «Идея становится материальной силой, когда она овладевает массами!» Вот кстати, классический пример удачного распространения паразитарной идеи — коммунизм! Поселилась в черепушке гимназиста Ульянова, а сколько десятилетий после его смерти ворочала мозгами миллионов!
Она поставила стопку, которую все это время держала, как микрофон, дном вверх и сказала с усмешкой:
— Так, Холодильник понесло в философию! Мне больше не наливать!
— Я сама толкнула Александру Николаевну к Агееву. — Инга опять сникла. — Хотела подарок сделать — вернуть ощущение того, что она актриса, что ею восхищаются. Камера, мотор, начали… какая же я непроходимая тупица! Купилась на его красивые разговоры об искусстве. А потом еще эта запись, где мы поздравляем Александра Витальевича… этим он окончательно добил меня.
— Теперь ты единственная оставшаяся в живых свидетельница, которая может дать показания по его делу, — наконец заговорил Кирилл. — Жалею, что не удалось лично пообщаться с Агеевым. Когда мы вломились в его квартиру, он уже был мертв. Сидел в кресле. В костюме, рубашке, при галстуке. Две камеры на штативах, напротив и сбоку.
— Он что, еще и снимал себя? — удивился Штейн. — Офигеть!
— С двух ракурсов. Но самое странное — этой записи нигде не нашли, ни в камерах, ни на картах памяти, ни в компьютере — нигде. А я бы посмотрел!
— Может, еще увидим. — Штейн потер руки. — Представляете, если он себя снял, смонтировал, убил, а потом в Интернет выложил. Вот взрыв будет!
— Что ты несешь! — Холодивкер махнула на него рукой. — Жмуры в интернеты не ходют.
— Есть такая фича — отложенный просмотр, — не сдавался Олег. — Так от чего он умер?
— Это к ней. — Кирилл кивнул в сторону Холодивкер. — По нашей части все в протоколе: на сгибе локтя — след от инъекции, на полу шприц в тридцати сантиметрах от левой ноги. Следов борьбы не обнаружено. А про борьбу акторно-сетевой теории с теорией мемов в душе новопреставленного маньяка нам писать не полагается.
— Не язви! Читала я ваши каракули, труп сейчас по нашему ведомству, — сказала Женя. — Клиника та же, что у Волохова, что у Подгорецкого, — она чуть запнулась, — ну Александры Николаевны. Субарахноидальное кровотечение. Уверена, что это один и тот же препарат.
— Дело пошло как серия убийств, — продолжал Кирилл, — Инга, там многие личности из твоего списка.
— Многие? Они не все были им убиты? — спросила Инга.
— Не все. Вероятно, есть и случаи естественной смерти, совпавшие по признакам. Но это, как ты понимаешь, сейчас установить сложно.
— Так, что это еще за список такой? — Штейн налил себе новую порцию. — Объясняй по порядку.
Инга грустно улыбнулась:
— У меня завелся друг-программа.
— Друг-парикмахер тебя стрижет, друг-ботаник носит тебе цветы, друг-фотограф у тебя регулярно пьет, друг-ме… — он икнул, — друг-полисмен тебе вскрывает двери, а друг-программа на хрен нужен?
— Вычислять закономерности в якобы случайных событиях.
— Я, когда твой список получил, сразу подумал — «глухарь» приехал. — Кирилл тяжело вздохнул. — Какие-то ничем не связанные люди, да и разброс в пять лет. Пойди теперь вспомни, что там было пять лет назад. Но я нашел, за что зацепиться. Знаете, что их объединяло?
— Знаю, — ответила Инга. — Упоминание в СМИ. Я сама задала этот критерий отбора.
— Не только.
— А что еще?
— Несколько деталей. На первый взгляд незначительных. У них у всех не было прямых наследников. Или же были, в двух случаях, но проживали далеко — за границей и где-то на Дальнем Востоке. Это раз.
— Все жили одиноко! — подхватил Эдик.
— Либо их навещали крайне редко. Это облегчало задачу Агееву. Они все были звезды, известные люди, но в прошлом. Кроме Волохова. Это два. А вот что заставило меня задуматься… Никогда не догадаетесь! — Кирилл оглядел всех по очереди. — Одежда! Арфистка Власенко с Поварской была в нарядном платье и тяжелых мельхиоровых серьгах. Ее внучатая племянница обратила на это внимание. Сообразительная девчонка, кстати. Она прямо уперлась в это: бабушка словно на праздник собралась. Ладно, взял на заметку. Пошел в другой адрес. Лыжница Закеева с улицы Виноградова, мастер спорта, олимпийская чемпионка тысяча девятьсот семьдесят какого-то года. Высокая, видная такая старуха. Я по соседям: что помните, что видели? Соседи сами слепые, глухие, еле на ногах стоят и про себя-то ничего не помнят. Только одна вдруг говорит: «Она всю дорогу в спортивных штанах и олимпийке ходила, а тут вырядилась!» Оказывается, ее понятой приглашали, когда труп обнаружили, так она ее и не узнала даже: прическа, блузка белая, маникюр. «Я, говорит, как этот маникюр увидела, мне прямо там, в квартире, плохо стало». И дальше как под копирку — у всех костюм, галстук, прическа, платье, маникюр. Вот здесь я понял, что они к чему-то готовились. И все погибли в момент торжественного события.
— Покойничек нынче куртуазный пошел, — запинаясь, пробормотал Штейн. Он уже был порядочно пьян. — Скажи им, Жень!
— Олег, иди к черту.
— А потом я вбил в поисковик все эти фамилии по твоему списку. И что первое вылетело? Твой пост-обращение, Инга, о сборе средств на лечение Агееву. А что за Агеев такой? Впервые слышу. Продолжаю поиск. И выясняется: все эти люди — герои его «последнего интервью», минут по сорок каждое. Волохов твой опять же. Ну посмотрел я несколько. Тут уже все ясно: Волохов в кадре одет точно так же, как в момент гибели, протокол-то я читал. Ну и чего резину тянуть? Взял ордер, опергруппу и к Агееву. А он уже готов. Понятых усадили, сами пошли по комнатам, в кладовке я полочку эту и увидел. Она у него черная-черная, вполне траурного вида, на ней куча дисков. На дисках — знакомые фамилии. Ровно по списку. И тут ты такая звонишь: я знаю, кто убийца!
— На дисках просто его интервью? — спросил Эдик.
— Не просто, мать вашу! — Кирилл шумно выдохнул, помотал головой. — Там в конце… он все снимал, понимаете, все! Как эти старики умирали, что говорили, как кричали на него, как дышать переставали… Это у вас там как-то специально называется?
— Исходники, — буркнул Штейн, не открывая глаз. — Немонтированный материал.
— Я на оперативной работе чего только не навидался, думал, все уже, но после такого… Ублюдок…
— Не существует пределов ужаса, которые может испытать человек. Стивен Кинг будто про тебя сказал. — Холодивкер ткнула сигаретой в пепельницу.
— Стойте, — сказал Олег. — А как же этот, молодой поэт, к которому мы ездили в Королев? Туманов этот. Он-то тут при чем?
— Парню сильно не повезло. Судя по всему, он был у Волохова, увидел его мертвым и сбежал. — Кирилл повернулся к Инге. — Давай ты рассказывай, я сам еще не все переварил.
— Он не просто так приходил к Волохову. — Инга крутила сигарету в руках, курить уже не могла. — Помнишь, я взяла у Купленова ворох распечаток эсэмэсок Туманова по дороге в Большой? Купленов еще сказал — «гомосятина одна», к делу не относится. — Кирилл кивнул. — Так вот. Я почти сразу поняла, что Туманов убить Волохова не мог. Ну и начала тщательно изучать эсэмэски, думаю, вдруг что найду. И нашла! Был у Туманова некто «Вел. Жуж.». Переписывались довольно часто. Если не вчитываться — то и правда похабная переписка, как будто все время о групповухе договариваются.
— Без цитат неинтересно, — перебил ее Олег.
— «Вел. Жуж.»: «люблю держать тебя крепко; жду твоей интимной встречи с В. Девчонки с нашего двора и Кукольник будут смотреть», — не обращая внимания на Олега, продолжала Инга. — Тогда, в машине, я никакого скрытого смысла не уловила. Но потом мы поехали к Жужлеву, и тот признался в убийстве Туманова. И мне долго не давала покоя мысль, что я откуда-то знаю его фамилию. А потом как стукнуло: Вел. Жуж. — это Жужлев наоборот, очень примитивно.
— Ага, если знать, — кивнула Женя. — А дальше?
— А дальше я начала шерстить эсэмэски. И именно вот эта, про девчонок, дала мне ключ. Мой друг-программа, как ты выразился, Олег, прислал мне статью про Туманова, я тебе говорила… Штейн, не спи!
— Я не сплю, — проворчал Олег, — с закрытыми глазами я тебя лучше слышу. Помню эту жесть. Как несколько девчонок изнасиловали Туманова в детстве.
— Да! Статья называлась: «Девчонки с нашего двора». Жужлев шантажировал его! И это не любовная переписка. Теперь за пошлыми намеками отчетливо проглядывало совсем другое кино. Жужлев вынудил Туманова выкрасть «Парад». Ну а Туманов за эту «услугу» требовал денег. Жужлев в переписке несколько раз упоминал, что «девочки ждут твоего нагого дефиле», а Влад ему в ответ: «такой парад стоит денег». В результате они договорились о сумме.
— Сначала договорились, а потом грохнули! Нормально так! — Женя толкнула в бок Штейна, который опять начал посапывать. — Не находишь, что в наши дни уголовный мир совсем утратил этические ориентиры?
— Я здесь! Я с вами! — Олег встрепенулся, нашарил на столе кусок хлеба, намазал его густо маслом, принялся жевать. — Мне Туманова жалко. Хорошие стихи писал парень, правда!
— Я думаю, было так. Туманов пришел к Волохову домой за книгой. Увидел мертвого Александра Витальевича, страшно перепугался, но книгу схватил и отнес заказчику. Рассказал Жужлеву про труп. А тот, видимо, не поверил. Решил, что Туманов его сам убил. Потому что в переписке начались угрозы, стал чаще упоминаться какой-то Кукольник. Пока я соображала, какой еще Кукольник, мы с Майклом, — Инга сделала паузу, чтобы перевести дыхание, — вышли на Петрушку.
— Ты еще меня стихами про Петрушку пугала, помнишь? — Олег на глазах оживал.
— На том самом поэтическом вечере в Королеве буквально за пару минут до смерти Туманов прочел мне:
- Я шепну тебе на ушко.
- Он не клоун. Он — Петрушка.
- Знаменит, но невидимка.
- Каждая его ужимка —
- Это смерть под колесом,
- Ужас сладок, невесом,
- Каждому согласно чину
- Смерть всегда найдет причину.
На несколько секунд на кухне повисла тишина.
— То есть хотел намекнуть, кто заказчик, — сказал Кирилл, — пытался защитить себя, понимал, что в опасности.
— Не пытался, а прямо сказал, — вставил Эдик.
— Да, — согласилась Инга, — а я не смогла ни понять его, ни спасти… Кстати, я уверена, что именно по приказу Петряева убили Жужлева. Как только полиция на него вышла, его тут же и убрали. А то вдруг бы он заговорил?
— «Каждая его ужимка — это смерть под колесом…» — грустно продекламировала Женя.
— Бабка за дедку, дедка за репку, репка за Жучку, внучку — до кучки. — Штейн шумно задвигался на стуле. — Русский народный фольклор, бессмысленный и беспощадный…
— Знаешь, Олег, кончай шутить на эту тему. — Холодивкер пустила воду в мойке и начала сгребать посуду со стола. — У меня, конечно, тоже профдеформация, но тут людей положили немерено, одного за другим… Это если не считать Агеева. Тогда вообще…
Инга посмотрела на Кирилла:
— Я только одного так и не знаю — где сейчас «Парад», с которого все и началось?
— Это-то как раз известно. Когда арестовали Отто фон Майера, которого прилюдно отделал твой американский друг, по оперативному сопровождению подключилось ФСБ. Книгу нашли в номере Майера, в «Ритц Карлтоне», во время обыска. Так что лежит она себе преспокойно где-нибудь в сейфе на Лубянке. Потом к ней подсоберут икон, другой какой культурный конфискат, созовут пресс-конференцию и торжественно передадут в музеи, храмы и еще куда-нибудь. А в программе «Время» покажут, как искусство возвращается народу. Народу приятно, «соседям» — галочка, внеочередное звание и медаль. Мне другое непонятно.
— Что?
— Убийство Ларисы Феоктистовой.
— Господи, как вспомню, — тихо сказала Инга. — Ее вроде наркоманы убили? Или нет?
— По официальной версии — да. Но мне это сразу как-то не понравилось. Уж слишком изощренно она была убита. Срезанная кожа, игральный кубик в желудке. Способ, исполнение, все это указывает на то…
— Что убийство было продумано, — закончил за него Эдик.
— Точно! — Кирилл повернулся к нему.
— Я тоже думала про Ларису, — призналась Инга. — Когда погиб Туманов, а после него — Жужлев, и я шла по ложному следу убийцы коллекционеров, я даже проверила ее — не собирала ли она что-нибудь, за что ее могли убить. А когда выяснилось про Агеева, я какое-то время считала, что он убил и Ларису…
— Нет, — уверенно перебил ее Эдик. — Лариса не его целевая аудитория, почерк другой.
— Может, она кому дорожку перешла? — спросил Штейн. — Почему мы связываем ее гибель с другими смертями? Тут причины надо искать в ее личной жизни. В наркоманов я точно не верю. Наверняка кто-то прикончил ее за тот яд, которым она так любила плеваться…
— Олег, о мертвых либо хорошо, либо никак!
— Тогда я никак, — хмыкнул Штейн.
— Другой почерк, — задумчиво повторил Кирилл слова Эдика, — вот что меня не отпускает. Если бы мне дали дело Феоктистовой в качестве учебной практики в институте, я бы точно сделал вывод, что это работа очередного серийного убийцы.
— Но, слава богу, такой труп у нас пока только один, — сказала Холодивкер.
— Ключевое слово «пока», — сказал Эдик, машинально теребя ворот рубашки, — очень может быть, что мы просто чего-то не знаем.
— Или не замечаем, — кивнула Инга.
— Пессимисты вы! — Холодивкер аккуратно расставляла мокрые стаканы на расстеленное полотенце. — Давайте, что еще мыть? Мне на дежурство завтра! И еще поспать бы, чтобы руки не тряслись. Убить я, конечно, уже никого не убью, но то, что осталось, могу попортить.
— Ой, подождите! На посошок — еще одна история. — Кирилл распрямился, хрустнул суставами. — Инга, помнишь, ты натравила меня на Большой театр? Я еще в лоб от начальства получил и на тебя страх как разозлился?
— Еще бы не помнить! — кивнула Инга.
— Так вот, вызывает меня вчера Хрущ, полковник наш, и показывает письмо из Большого. Мол, благодарим за то, что привлекли наше академическое внимание к сохранности бесценных произведений. Короче, им посылка пришла с эскизом к опере «Легенда о таинственном городе Китеже», ну или как его там, не помню.
— «Сказание о неведомом граде Китеже».
— Ян говорю. И этот эскиз — подлинник Коровина, эксперты подтвердили. А у них «подлинник» преспокойно числится на хранении. Достали своего «Коровина», сличили — один в один, гениальная подделка! Во где талант пропал — Жужлев наш, а? Теперь там серьезные разборки, но по-тихому. И Хрущ мне говорит «спасибо», представляешь? Хрущ — «спасибо»!
Инга мысленно поздравила Софью Павловну с правильным решением, но Кирилл понял эту улыбку по-своему.
— Ладно, тебе от меня тоже прощение вышло. Зря, получается, на тебя наехал.
— Мне вот что интересно! — сказала Инга. — Петряев, наш Петрушка, который стоит и за этими аферами в Большом, и за убийствами Туманова и Жужлева, — он что, получается, благополучно слился?
— Там такой ресурс… — Кирилл покачал головой. — Не достать.
— На каждый большой ресурс всегда находится еще больший ресурс, — зло проговорил Эдик. — И ресурс этот — закон вселенской справедливости. От высшего наказания он не уйдет, поверьте.
— Нуты, Эдик, утопист. Посмотрим. — Инга перестала улыбаться. — А знаете, что самое печальное в этой истории? — Она оседлала стул посреди кухни, положила голову на спинку. — Мы шли по следам жутких преступлений. И не смогли предотвратить ни одного.
— Расскажи нам об этом, — хором выдохнули Кирилл и Холодивкер.
Инга с Олегом вышли на улицу проводить друзей. На востоке уже розовело небо. Когда такси выехало из двора, Штейн предложил:
— Пойдем гулять по Яузе, а? Давно я по утрам не шлялся.
Но до набережной они не дошли. Остановились на холме у Афонского подворья, что на Гончарной улице, и долго смотрели вниз — на реку, на высотку и островки скверов. Мимо прошла пьяная компания свадебных гостей. Девушки падали с каблуков, изнемогая от хохота. Одна из них, полная, в кудрях, вдруг скинула свои атласные туфли и с восторгом освобождения подбросила их вверх, одну за другой. Все зааплодировали и по очереди приложились к бутылке шампанского.
К подворью тянулись прихожане на литургию.
Инга чертила носком ботинка на асфальте квадраты.
— Агеев говорил, что ложь — это один из путей к правде.
— Чего? — Штейн посмотрел на нее с тревогой.
— Что, не познав лжи, невозможно познать правду.
— И после этого ты ему еще доверяла? Это чистый вывих сознания. Релятивизм, будь он неладен.
— Ты не понял, у нас совсем другой контекст разговора был.
— И понимать не желаю. Ты сейчас его еще оправдывать начнешь. Знаю я этот бред. Мы начинаем с того, что мир бесконечен и в принципе непознаваем, каждое новое знание разбивает в прах предыдущее, чувственное восприятие неистинно и прочие офигительные трюизмы. А кончается это чем? Человек перестает понимать, куда его занесло, где правда, а где расфуфыренное вранье. Полный хаос в голове, и знаешь, что самое страшное? Неуверенность. Неуверенного и слабого легко втягивают в преступление. Могут внушить всякую херню — потому что нет у него критериев правды и лжи. Все относительно! И вчерашний философ становится убийцей и мнит себя спасителем человечества. Твою ж мать! Ты это, подруга, брось. Ложь — никакой не путь. И никогда не приведет к правде.
— Да ты, старик, трезвеешь на глазах!
Они присели на лавочку у подъезда, закурили.
— Я просто устал. Сволочная у нас все-таки работа, — сказал Олег. — Все ходим, вынюхиваем чего-то. Человеку несчастье — нам новость.
— Что это с тобой?
— Да так. Я все про Туми думаю. Не зря нас уволили. Судьба это.
— Как она, не знаешь?
— Читал недавно. Ей хуже. Лечат всем подряд, но прогнозы сомнительные. Мне так и кажется, что мы ей жизнь испортили. Мы с тобой, понимаешь? И чего нас понесло в эту чертову больницу?
— Почему мы?
— Мы подогрели интерес к ее болезни. А оно ей надо? Народ уже и музыку ее забыл, но запоем читает про то, как она слепнет. Безумие какое-то.
— Ты, Олежка, сегодня мистически настроен. И тебе это не идет. Оставайся лучше веселым циником.
— Циником, говоришь? Глупая ты. Знаешь, если бы нас не уволили, я бы через несколько лет скурвился. Стал бы таким же, как Агеев. Убивай и сгребай в мешок популярность. В чем она там сейчас измеряется? В баксах, лайках или просмотрах?
— Ты не стал бы. Ты скорее спился бы.
— О. Это мысль. Так и поступлю.
— Только не в ближайшие сто лет. Ты мне страшнострашно нужен! И я тебя обожаю. — Инга обняла его.
— И не уговаривай. Все равно сопьюсь. А ты не смей. Днем, как отоспишься, садись писать «Дело номер 1. Дья-
Вольский шприц». Или нет — «Смертельное интервью». Нет, не то. О! «Черная полка». И погнали!
Инга засмеялась.
Они еще долго, до первых лучей, бродили улочками, курили на заброшенном пустыре, строили планы, и Олег заставлял ее смеяться все больше и больше. И когда взошло солнце, это уже было новое солнце — не то, что гладило по щеке Александру Николаевну и светило в иллюминаторы самолета Москва — Нью-Йорк.
Эпилог
Источник: Youtube.com
Опубликовано: 21 июня
Категория: Люди и Блоги
Лицензия: стандартная лицензия Youtube
Транскрипт
Ведущий (за кадром): Сегодня у меня очень интересный собеседник. Человек, с которым я хотел поговорить по душам… очень и очень давно. Но все не отваживался. Это я сам. Знакомьтесь, Агеев Игорь Дмитриевич. В прошлом малоизвестный журналист, оператор, ныне — знаменитый видеоблогер и убийца. И вот мой первый вопрос. Какое у вас самое яркое впечатление детства?
…Видео снято на две камеры — одна держит общий план собеседника, другая — крупно лицо. Того, кто задает вопросы, не видно, но это голос Агеева. Пока звучит вопрос, он слушает свой собственный голос. В объектив на зрителя смотрят уставшие глаза. Взгляд — спокойный, но в нем — боль и отрешенность…
Агеев (крупно): Это было в середине 60-х. Самый разгар застоя, как потом стали называть это время. Мне было лет пять-шесть, не больше. И это был единственный раз, когда отец взял нас с матерью на парад Победы. Мы стояли в общей толпе, я почти ничего не видел. И вдруг отец сгреб меня и посадил себе на шею. В один миг я оказался над всеми. Это было такое чувство… Ты почти паришь, почти бог и при этом ощущаешь гармонию и примирение со всем миром. И еще чувствуешь гордость, почти невыносимую. Мы лучше всех! Мы сильнее всех! Мы всех победим!
Смена плана.
Вопрос (за кадром): У вас были близкие отношения с отцом?
Смена плана — крупно
Агеев: Нет. Совсем нет. Отец был очень замкнутым человеком, суровым. К сожалению, он мало успел рассказать мне о своей жизни. На фронте отец несколько раз был ранен и довольно рано умер. Сказались последствия ранений. Но незадолго до смерти он неожиданно признался мне, что по-настоящему счастливым был только во время войны. Тогда он точно знал, что нужен, жизнь была наполнена смыслом. Он во всей полноте ощущал ее ценность, потому что мог потерять в любой момент.
Вопрос (за кадром): А для вас — что значит быть счастливым?
Агеев: Мое счастье умерло в 1998 году, когда я не смог спасти Надю.
Вопрос (за кадром): Как вы познакомились с вашей женой?
Агеев: На съемочной площадке. В то время она работала ассистентом режиссера, а я снимал репортаж об этих съемках. Влюбился сразу. Как оказалось, навсегда.
Вопрос (за кадром): Это было взаимное чувство?
Агеев: О нет, далеко не сразу! Я добивался ее два года.
Вопрос (за кадром): Ходили слухи, что в нее был влюблен сам Топорков, великий и ужасный.
Агеев: Да, у них был служебный роман. Топорков был большой любитель женщин. Он не изменял своим привычкам, несмотря на то что был уже несколько лет женат. А Надя была очень яркой и умной женщиной. Отбить ее у самого Топоркова было совсем нелегко. Но в конце концов она не только ушла от него, но и уволилась с любимой работы — сожгла все мосты. Устроилась на телевидении, мы оказались в одной редакции. Надя стала администратором.
Вопрос (за кадром): И тогда же вы поженились.
Агеев: Почти сразу. Она как будто бросилась в омут.
Вопрос (за кадром): Она была с вами счастлива?
Смена плана. Агеев смотрит в камеру, губы его сжаты.
Агеев: Я уверен, что она любила меня, хотя Надя никогда не говорила мне этого.
Вопрос (за кадром): На чем основывается ваша уверенность?
Агеев думает, как будто решает, насколько откровенно отвечать.
Агеев: Она плохо рассталась с Топорковым. Дело в том, что Надя была беременна. И почему-то она решила, что Топорков уйдет из семьи к ней и ребенку. Но тот прогнал ее. Я не настаивал на аборте. Ни одной минуты! Хотя, конечно, был не в восторге. Аборт был неудачный, я месяц выхаживал ее. Надя осталась бесплодной. Но, знаете, я всегда ей говорил, что это даже к лучшему. Мне не пришлось больше ни с кем ее делить.
Вопрос (за кадром): Вы много времени проводили вместе?
Агеев: Мы все время были рядом. И дома, и на работе. Не расставались ни на один день.
Вопрос (за кадром): А что для вас означает горе?
Агеев: Горе — это когда на твоих глазах умирает твой самый близкий человек, а ты ничего не можешь сделать.
Агеев молчит, смотрит вниз. Смена плана. Он разглядывает свои руки.
Агеев: У Нади был рак желудка. Она слишком долго не говорила мне, что плохо себя чувствует. Как будто наказывала себя за что-то. (Пауза). Или меня. Когда же я заставил ее пойти к врачу, то было уже поздно. Метастазы поразили печень и поджелудочную. Она очень похудела, хотя живот делался все больше, как будто она наконец забеременела. Ее все время рвало, причем с кровью, она не могла есть, даже пить. Единственное, что я мог — облегчить ее страдания. Боли были адские, помогали только наркотические препараты. Их для меня доставал старый друг, а уколы я научился делать сам.
Вопрос (за кадром): Какие были ее последние слова перед смертью?
Смена плана — глаза Агеева крупно. Он злится.
Агеев: Я не знаю. И никогда этого не узнаю. (Пауза). В тот самый последний день Наде стало легче. И я поехал за лекарством. Но я знал, что мне нельзя ее оставлять! (Агеев повышает голос, на записи искажения от громкого звука, срабатывает ограничитель, далее голос Агеева некоторое время звучит тихо). Я бежал всю дорогу, я чувствовал. И не успел. Она ушла в полном одиночестве, без поддержки, утешения, в страдании. Я не знаю, какими были ее последние слова, что она видела перед смертью, что чувствовала, как сильно страдала…
Вопрос (за кадром): Что удержало вас от самоубийства?
Агеев: Сначала я ни о чем думать не мог. Сутки просидел на полу, у ее кровати. Не мог пошевелиться. И мне была невыносима мысль, что ее заберут чужие люди, куда-то увезут, что-то будут с ней делать. И я больше никогда ее не увижу.
Вопрос (за кадром): А потом?
Агеев: А потом началась рутина. Человек, знаете ли, труслив. Он боится расстаться со своей никчемной жизнью даже тогда, когда эта жизнь ничего не стоит.
Агеев улыбается, но глаза остаются холодные.
Вопрос (за кадром): И вы продолжили ходить на работу. Вас ценили как журналиста?
Агеев: В нулевых на наш канал пришли молодые волки, с этими своими бесчисленными гаджетами, нахальством и всезнайством. Нас, старую гвардию, просто оттерли. Никому не был нужен наш уникальный опыт. Но я нашел свое место — искал великих стариков, актеров, ученых, писателей и снимал их, чтобы уникальные воспоминания остались для истории. Этим молодым до них дела не было — они сами себе казались гениями, им никто не был нужен!
Вопрос (за кадром): И тогда вы стали работать в своем любимом жанре?
Агеев: Да. Интервью мне всегда удавались, я умел найти подход, доверительную интонацию, люди открывались мне. И я готовился. Как я готовился! Не то что молодые верхогляды, за которых порой просто стыдно, все только из Интернета.
Вопрос (за кадром): И ваши работы выходили в эфир?
Агеев: В том-то и дело! Я снимал, монтировал, делал превосходные материалы, а мои работы просто отправлялись на так называемую «Черную полку» — это место, где хранятся некрологи, заготовленные заранее — до кончины заметных персонажей. Такие запасы есть в каждой редакции, иногда их по ошибке дают в эфир. Си-Эн-Эн так «похоронило» Генри Киссинджера раньше времени… (усмехается). Вот ведь какой оборот — я думал, что нашел свою нишу, а на самом деле меня в нее просто загнали.
Вопрос (за кадром): И вы решили…
Агеев: Это было остроумное решение (улыбается).
Вопрос (за кадром): Вы стали убивать только ради эфира?
Агеев вытягивает ладонь перед собой, почти закрыв объектив. Смена плана.
Агеев: Нет, конечно, нет! Совсем не поэтому… Хотя я считаю, что настоящий журналист для эфира должен сделать все что угодно. Мне не давала покоя мысль, что же люди чувствуют перед смертью. Что говорят, о чем думают. Я хотел заглянуть за эту черту, увидеть в их глазах ответ на мучивший меня вопрос: что могла сказать мне Надя в последнюю минуту.
Вопрос (за кадром): Как вы убивали?
Агеев: Я уже упоминал своего друга, который помогал мне с лекарствами. Сейчас я могу его назвать. Это Мирошников Павел Григорьевич. Почти сразу после окончания биофака его по рекомендации декана взяли на работу в КГБ, в элитное Управление «Цэ», отдел нелегальной разведки. Это был тип преданного ученого — до фанатизма. Но с развалом СССР посыпалось все. КГБ запинали, сотрудники увольнялись пачками. Пашин отдел закрыли, его самого просто выбросили на улицу. А он ничего, кроме своей науки, не видел и видеть не хотел. Семьи не было, родители умерли, он вернулся в свою московскую квартиру в Ясенево, на 12-й этаж. Когда я приезжал к нему, он часто стоял у окна, смотрел в сторону своей бывшей работы, его отдел был недалеко от дома, объект А-Бэ-Цэ, в «Лесу», как они это называли, и все повторял: что же они наделали, что они наделали.
Смена плана. Агеев молчит, раздумывая. Потом продолжает.
Агеев: В один из таких моих приездов Паша мне рассказал, над чем работал последние годы. Он создал препарат, который вызывал скорую смерть и при этом не оставлял следов в организме. Он его называл тихим убийцей. Основу препарата составляют выжимки из ядовитых растений. Я запомнил болиголов и волчье лыко, они странно звучали в ряду латинских названий. Яд первого вызывает мышечный паралич, а второго — эффект разрыва сосудов, как от страшного скачка давления. Он рассказывал часа два, я давно не видел его в таком возбужденном, даже радостном состоянии. Он расхаживал по комнате, махал руками, рисовал мне на полях старой газеты с программкой какие-то диаграммы. Потом залез на табуретку и достал с верхней полки тетрадь и коробочку. Он сказал: «Сохрани. Когда они одумаются, отдашь. Здесь все мои разработки и пробный экземпляр препарата». А потом… потом он достал шприц. «Лучше всего колоть сзади в шею, вот здесь, на границе волосяного покрова. След от укола найти почти невозможно. Но самому это неудобно. Можно между пальцами». Он вот так положил руку на стол, нашел нужное место и на моих глазах ввел себе препарат. Очень медленно.
Агеев замолкает. Смена плана. Крупно лицо.
Агеев: Я не мог до конца поверить, что он сейчас умрет прямо передо мною. Паша ушел тихо, с улыбкой, до самого конца мы с ним разговаривали, хотя двигаться он почти не мог. А потом он как будто уснул. Я спрятал тетрадь и препарат себе в сумку, вызвал «Скорую». Врачи диагностировали смерть от разрыва аорты. Все как он и сказал.
Смена плана. Агеев наклоняется, и его тело исчезает из кадра. Видно спинку стула. Когда он возвращается в кадр, в его руках — общая тетрадка, зеленая коробочка из дешевой пластмассы и эмалированный тазик. Он ставит тазик себе на колени. Агеев вырывает листы из тетради, комкает их и кидает в тазик.
Агеев: (Он говорит скороговоркой, монотонно, без интереса.) За период с 2007 года по настоящее время я убил восемнадцать человек. Первым был Бахтеев Василий Викторович, 1927 года рождения, в прошлом знаменитый на весь мир скрипач. После введения препарата жил три минуты. Просил вызвать врача и спасти его. У него были отвратительные узловатые пальцы, которыми он пытался схватить меня за пиджак. Власенко Анастасия Петровна, 1931 года рождения, арфистка. После введения препарата прожила пять минут. До последней секунды кричала, звала на помощь соседей. Потом упала, платье задралось, стал виден рваный чулок и дешевые хлопчатобумажные трусы. Безродный Анатолий Петрович, 1933 года рождения, писатель. После введения препарата жил четыре минуты. Никак не мог поверить в реальность происходящего, смеялся, был похож на умалишенного. У него был безобразный беззубый рот. Иоганесян Артур Суренович, 1935 года рождения, ученый-физик. После введения препарата жил семь минут. Оказался слишком живучим, ругался по-армянски, вступил со мной в борьбу, пришлось сбить его с ног и держать, пока он не перестал дергаться. После этого случая увеличил дозу. Целяритский Аркадий Михайлович, 1939 года рождения, артист Большого театра. После введения препарата жил одну минуту. Не успел понять, что произошло.
Вопрос (за кадром): После выхода фильма о Целяритском вас уволили. Что стало причиной?
Агеев: Формальным поводом послужила статья Волохова, где он обвинил меня в нарушении журналистской этики. Целяритский оказался близким другом Волохова, и некоторые факты из жизни артиста Волохов посчитал чрезмерно откровенными. Ну балетные люди, вы понимаете…
Продолжая говорить, Агеев щелкает зажигалкой, в тазике вспыхивает пламя. Он держит его на коленях, пока не становится горячо. Затем опускает вниз, на пол. Несколько секунд видно отблески огня, потом они исчезают.
Вопрос (за кадром): Можно ли сказать, что именно благодаря вашему увольнению вы стали известны?
Агеев: Я довольно быстро набрал популярность в Интернете.
Вопрос (за кадром): Убивать стало легче?
Агеев: Намного. (Он наклоняется вниз, и слышно, как в тазике шуршит обгоревшая бумага.) Теперь я убивал сразу после окончания интервью. В этом есть своя эстетика, согласитесь. Человек прихорашивается, надевает свой лучший костюм и перед камерой вспоминает свою жизнь — в последний раз. Они все были предельно откровенны со мной, потому что я умею слушать. А слушал я очень внимательно, так как выбирал момент, в который оборву их жизнь.
Вопрос (за кадром): Вы ощущали себя чем-то вроде бога?
Агеев: Скорее Управителем, у которого в руках все нити. (Улыбается.)
Вопрос (за кадром): Вы снимали сам момент убийства?
Агеев: Конечно. Сейчас мои фильмы можно посмотреть, как говорится, в полной режиссерской версии. Я их все выложил в Интернет. На этот раз без купюр.
Вопрос (за кадром): Кого еще из ваших жертв вы можете вспомнить?
Агеев: Я помню всех.
Смена плана. Агеев отрешенно смотрит в камеру. Речь становится монотонной, без выражения.
Агеев: Иванченко Ростислав Дмитриевич, 1940 года рождения, тяжелоатлет. После введения препарата жил одну минуту. Не сказал ничего, смотрел на меня округлившимися от ужаса глазами. Потом рухнул всей своей бесформенной тушей на пол. Земцова Альбина Григорьевна, 1939 года рождения, диктор телевидения. После введения препарата прожила четыре минуты. Испугалась настолько, что не могла говорить, только всхлипывала и размазывала по щекам красную помаду. Пошехонский Михаил Иванович, 1926 года рождения, авиаконструктор. После введения препарата жил четыре минуты. Сразу смирился. Давно пора, сказал, все смотрел на меня телячьими глазами. Очки делали эти глаза огромными и уродливыми. Глебов Станислав Петрович, 1928 года рождения, хоккеист. После введения препарата прожил три минуты. Сумел встать и даже замахнулся на меня палкой. После чего упал, изо рта потекла слюна. Петров Ростислав Григорьевич, 1940 года рождения, оперный певец. Прожил полминуты. Хотел что-то сказать и не успел. От досады я двинул ему по макушке так, что съехал парик. Это было потешное зрелище. Закеева Ратина Рашитовна, 1947 года рождения, лыжница. После введения препарата прожила 3 минуты. Жилистая, прямая, как лыжная палка. Был готов к сопротивлению. Материлась, как мужик, орала так, что боялся, услышат соседи. Пришлось зажать рот, укусила. Но больше уже ничего не могла сделать. Подгорецкий Виктор Борисович, 1929 года рождения, хореограф. Поставил ему подножку, когда он вдруг решил ответить на телефон. Растянулся на полу, стал смешно загребать руками, пытаясь подняться. Сразу ввел ему препарат. Умер в течение минуты. На все мои вопросы отвечал мычанием.
Вопрос (за кадром): Вы так и не смогли заглянуть за черту?
Агеев молчит, вздыхает. Продолжает ровным тоном.
Агеев: Надеялся на Волохова. (Пауза.) Он меня не вспомнил. Вырядился в бархатный костюм, надушился. Оказалось, что Волохов невысокого роста, ниже меня на полголовы. И жуткий запах изо рта. Суетлив, мелок в движениях, на экране этого не видно. Но и он меня разочаровал. Умер сразу, хотя доза была обычная.