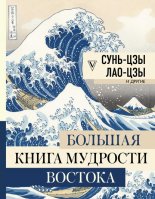#черная_полка Долонь Мария

Это был групповой снимок, предположительно начало 70-х.
— Александр Витальевич? — переспросила нерешительно.
— Ну конечно. А рядом видишь? Подожди! — Александра Николаевна дала ей лупу. — Лучше?
Рядом с Волоховым стоял высокий парень, волосы чуть длиннее тогдашней нормы, фигура спортивная, но поза манерная, голова откинута назад, полуулыбка. Волохов не сводил с него глаз.
— Это Феликс, джазист. Их история наделала шума. — Александра Николаевна покачала головой. — Шурочка так увлекся, что совсем забыл об осторожности. Везде таскал его за собой, во все командировки, даже в отпуск! А ведь уже была Соня.
Инга обескураженно смотрела на черно-белый отпечаток чужой жизни.
— Но как же так?
— А вот так! Запах свободы сыграл с ним злую шутку. Скандал замять удалось, хотя эта тварь Соня даже в профком писала письма. Но, может, и правда хотела вернуть Шуру? Хотя… такие, как она, любить не умеют. Феликс потом пропал. Его выгнали с работы, он уехал из Москвы и, говорят, спился где-то.
— Но я же помню, они жили вместе с Софьей Павловной! — Инга задумалась. — Хотя… У нее всегда была своя квартира.
— Уговор был такой: развода не будет, все имущество отписать ей, за это Соня обещала его прикрывать. Ее за глаза Гагарой звали.
Александра Николаевна бережно закрыла альбом. Рука, скованная артритом, машинально поглаживала темную кожаную обложку.
— «Смерть в Венеции», помните? Висконти.
— Конечно, любимый фильм Шурочки.
— Точно! Александр Витальевич по нему лекцию читал. — Инга замолчала, вспоминая. — Густав фон Ашенбах любит мальчика издалека, даже подойти не решается. Только наблюдает из шезлонга, с балкона, бродит тенью, ловит его запахи, ревнует. Он стар и понимает, что надежды на сближение нет — просто смотрит на Тадзио и страдает. Ощущает несвежее старое тело, ненавидит свои морщины, очки. Этот мальчик для него — последнее дыхание, спустившийся ангел, но ангел смерти, глоток сладкого яда. И он этот яд пьет, отдает жизнь за эти секунды счастья! После такой любви — когда ни поговорить, ни прикоснуться — может быть только смерть. Другого выхода нет.
— Как жизнь иногда рифмуется с кино!
Муки писателя от тайной любви к мальчику, красивому, как греческий Антиной — и смерть!
— А в последнее время, — Инга потерла лоб, — у него никого не было, не знаете?
— Как же! Знаю! — К Александре Николаевне вернулось лукавство.
— Молодой?
— Кто, Инночка?
— Ну, — Инга замялась, — с кем Александр Витальевич встречался.
— Да! И хорош!
— Вы его видели? — У Инги загорелись глаза.
— Они приходили ко мне месяца два назад. Притащили огромный букет роз. Необыкновенных! Я их, знаешь, подрезала, почистила стебли, так они у меня почти три недели стояли. Я их еще на ночь…
— Александра Николаевна, — умоляюще заныла Инга. — А что молодой человек? Кто он? Как зовут? Где они познакомились?
Мог убить из-за книги? Альфонс? Наркотики?
— Дорогая моя, ты как полиция нравов! Давай-ка лучше пить чай. Я-то откуда знаю, кто он? Они пришли ненадолго, вручили цветы. Такие розы, ты бы видела! Я даже имени не спросила, зачем мне? — Она отхлебнула чаю. — Ох, горячий! Достань молока, пожалуйста. В молочнике. Да, спасибо. — Она капнула несколько капель молока, сделала глоток. — Вот, совсем другое дело. Там в цветах была открытка. Посмотри в верхнем ящике секретера.
— Вот эта? — Инга уже держала в руках стильную открытку с аппликацией.
— Раскрой. Видишь? Стихи. Это его. Мальчик, кажется, поэт. — Она подумала. — Или актер? — Александра Николаевна замолчала. По ее щеке, прокладывая дорожку, текла слеза. — Какое это сейчас имеет значение?
Инга прочитала, с трудом разобрав почерк:
- Настанет день — я буду в нем прощен.
- И вместо сада у меня случится море.
- Ну а пока ни слова о покое:
- Цвети мой сад, мой ад,
- Еще,
- Еще,
- Еще.[1]
Глава 9
После затянувшегося похолодания, когда уже стало казаться, что тепло не придет никогда, выглянуло солнце и напомнило всем, что вот-вот начнется лето и наступит размягчающая, полная блаженства жара.
Игорь Агеев молчал довольно долго и вот вчера коротко ответил на ее письмо: «Здравствуйте, Инга. Буду рад видеть вас у себя завтра в 14:00». И адрес. Она приехала на встречу раньше времени и теперь сидела на лавочке, подставив лицо теплым лучам в старом московском дворике между кирпичными пятиэтажками. С детской площадки вперемешку — взрослые окрики и детские взвизги — неслись голоса, иногда сливаясь в общий гул. Перед самым домом были разбиты цветники, в одном из них копалась пожилая женщина в платочке и фартуке. К дереву была прислонена ее палочка. На ветке чирикала какая-то птица, а с балкона долетал нежный перезвон ветряных колокольчиков, превращавших обычный городской дворик в буддистский ашрам. Инга закрыла глаза.
И снизойдет на меня благодать, прана и стопанна, и никудашеньки я не пойду, а буду сидеть здесь и дышать весной — вечно. Стану чаще бывать с Катькой, найду простую работу, буду необременительно встречаться с просветленными мужчинами, заведу лотос в горшочке. К черту — трупы, подозрения, убийц… Буду чистить карму, переводить бабушек с тросточкой через дорогу…
«Помните трость доктора Мортимера у Шеролка Холмса в „Собаке Баскервилей“?» — всплыл в голове у Инги голос ее преподавателя по анализу текста — странный такой был персонаж: долговязый и рассеянный — с улицы Бассейной. Но именно благодаря ему она подобрала ключ к своему цветовому шифру.
«Какие выводы сделал доктор Ватсон при беглом взгляде на нее? Всего лишь, что хозяин трости — пожилой сельский врач. И даже в этом немного ошибся. А сколько ценной информации смог извлечь Шерлок Холмс, изучив все детали! И подробности биографии, и характер! Каждая фраза в нашей речи подобна этой забытой трости. Если не довольствоваться только поверхностным смыслом, как Ватсон, а внимательно исследовать все особенности речи — мы сможем многое понять о нашем собеседнике: его истинные цели, его отношение к нам, его скрытые эмоции и намерения.
Какие тут могут быть улики? Их множество! Порядок слов в предложении: инверсия, постпозиция, использование эмоциональных выражений, сленга или брани. Очень важна интонация. И, наконец, ошибки: оговорки, повторы. Все это неспроста. Вглядитесь в речь, пощупайте ее! И вы сможете считывать не только верхний слой — ее семантику, но и видеть скрытое — прагматику. Например, жена говорит мужу: „Тут невыносимо душно!“ Что значат эти слова? На уровне семантики всего лишь: „Мне тяжело дышать“. Но на уровне прагматики: „Открой, наконец, окно, старый дурак! Ты совсем обо мне не заботишься!“»
Тогда Инга чуть не подпрыгнула на стуле. Она-то прекрасно видела речь, только не могла разобраться в цветных всполохах. Интуитивно она считывала эмоции, но чувствовала, что может пойти дальше. Инга анализировала синтаксис и стилистику реплик, сопоставляла результаты со своими «цветовыми» впечатлениями, рисовала диаграммы, графики. Она заметила, что видит повторения, запутанные конструкции, которые, по словам преподавателя, часто свидетельствуют о лжи, в темно-красном спектре. Именно этот цвет заставлял ее сомневаться в истинности сказанного. Она стала сравнивать свои ощущения с языковыми особенностями. Хотя строгих закономерностей не было, и какие-то впечатления и речевые характеристики можно было трактовать по-разному, Инга убеждалась, что большинство ее выводов оказываются верными. Она уже думала с головой уйти в науку, но не выдержала монотонного сидения за книгами.
Разработанный метод очень пригодился ей в журналистских расследованиях. А вот в личной жизни только мешал: она без труда видела фальшь, зависть, корысть в словах поклонников и подруг. Порой даже приходилось «отключать цветовизор», чтобы не разочароваться разом во всех. Только речь Сергея, бывшего мужа, была кристально чиста от ржавого налета — этим он ее и зацепил.
В «QQ» цветовой слух притупился от обилия буро-дерьмового оттенка, иногда она и запах ощущала весьма явственно. Но заставила себя в этом жить, и дар притупился. Как притупляется нюх сомелье от бормотухи.
Ах, черт! Как бы пригодилась эта способность теперь! Мда… переезд на Гоа пока придется отложить.
Инга открыла глаза. С нетерпением потерла ладони. Ветряной колокольчик как будто подгонял:
«Еще, еще, еще…»
Телефон зазвонил, будто подпевая.
Эдик! Совсем про него забыла!
— Что-то ты опять пропала, — сказал он вместо приветствия.
— Да. Пропала, растворилась в Сети.
— Что-то серьезное? Нужна помощь? — Инга знала, что он немедленно бросится к ней, стоит только попросить.
— Эдик, а ведь нужна!
— Слушаю тебя внимательно.
— Я тебе сейчас прочитаю стихи, а ты скажи, что думаешь об авторе, идет? Ты же со своими соседями и их уважаемыми гостями из Кащенко давно тусуешься, стал профессиональным психологом. — Она услышала, как он улыбается.
— Они психиатры, не путай. В отдельных ситуациях эта путаница может дорого тебе обойтись.
— Запугал! — Инга рассмеялась.
— Читай уже.
- — Настанет день — я буду в нем прощен.
- И вместо сада у меня случится море.
- Ну а пока ни слова о покое:
- Цвети мой сад, мой ад,
- Еще,
- Еще,
- Еще.
— И все? — спросил Эдик.
— Да, а что?
— Это отрывок. Возможно, окончание. Хочу услышать полный текст.
— А как ты понял, что это отрывок?
— Выдает слово «вместо». Если это самостоятельный кусок, то почему море не просто случается с автором, а случается с ним вместо сада? Значит, сад — основной контекст. И он был задан ранее. Вообще-то ты могла бы сама догадаться, ты же увлекаешься… — Эдик замолчал, видимо подбирая нужное определение, — …игрой в слова?
Дразнит, хочет позлить меня. Но я и правда тормоз — конечно, это отрывок!
— Та-ак, отлично. Еще догадки есть?
— Есть. Но раз уж ты записала меня в психологи, то я начну задавать вопросы, а ты, как послушный клиент, сама дойдешь до ответа. Какие у тебя ассоциации со словом сад?
— Дерево, росток, жизнь, плоды, запретный плод, искушение, рай…
— Дошла до рая? Молодец. Пригодится. Дальше идем. Сад — аллегория чего?
— Не знаю, похоже, сад — это главное дело жизни. Вишневый сад Раневской… потеря сада — потеря смысла.
— Хорошо. А еще сад — это то, что человек посадил сам. Сам! Однажды опустил в землю зерно, оно дало росток. Человек трудился — росток окреп, стал деревом, и это дерево…
— Дало плоды?
— И человеку, по идее, надо бы радоваться плодам, насыщаться ими… И вдруг он понимает, что посадил в землю не то зерно…
— Цвети, мой ад!
— Вот именно — ад. Я не знаю, какое значение придавал здесь поэт аду, но это выглядит как противопоставление райскому саду. Автор понимает, что получил наказание вместо блаженства. Но отмотать назад и переиграть уже не может. Сад вырос.
— Но сад еще цветет…
— Видимо, он чувствует — плоды будут горькими.
— Эдик, спасибо тебе. Созвонимся!
Кто же ты такой, Антиной? И где искать тебя?
Накануне Инга перерыла весь Интернет, но безуспешно: по вашему запросу ничего не найдено. Первый подозреваемый в краже либретто не оставил никаких следов, кроме этого короткого стихотворения.
Она скосила глаза на телефон. 13:48. Подумала немного и решилась: открыла ноут, подцепилась к Сети, перебрала закладки и нашла сохраненный линк загадочного Indiwind.
Написала: «Хочешь помочь, найди автора: Цвети, мой сад, мой ад, еще, еще, еще… Это тест».
Потом написала эсэмэс Штейну: «Интервью для „Маскарада“ с Подгорецким подтвердили. По деньгам норм. Жду у Красных ворот в 17:00».
Наконец встала, потянулась.
Как же приятно вернуться к нормальной работе!
Инга набрала на домофоне номер квартиры Агеева. Дверь открылась без лишних вопросов.
— Замечательный у нас дворик, правда? — Он уже стоял в проеме двери, улыбаясь одним голосом. Инга догадалась, что он наблюдал за ней из окна. — Инга, правильно? Я Игорь Дмитриевич! Прошу вас.
Она оказалась в тесной прихожей, совсем темной, похожей на пещерку.
— Спасибо, что согласились со мной встретиться, Игорь Дмитриевич. — Инга остановилась в нерешительности, не понимая, надо ли ей снимать ботинки. На светлом линолеуме не было ни пылинки.
— Проходите в комнату и не вздумайте разуваться. — Он опять улыбнулся. — У меня не так часто бывают гости, особенно такие симпатичные.
Она взглянула на него.
А в жизни он выглядит гораздо старше, чем в кадре. Магия экрана!
Чуть выше среднего роста, худощавый, волосы редкие, с сильной проседью. Он чуть наклонил голову, приветствуя ее, и она заметила обвисшие складки кожи на шее — как у человека, потерявшего вес за короткий срок. Инга протянула ему руку. У него были длинные прохладные пальцы, от рукопожатия осталось ощущение покоя и безопасности.
В комнате был накрыт журнальный столик: две белые фарфоровые чашки с нарисованной сбоку веткой сирени, такой же заварочный чайник, в хрустальной вазочке печенье и пряники. Под блюдцами лежали застиранные салфетки. Инга поблагодарила и села, расправила под собой клетчатый плед, которым был закрыт продавленный диван. Агеев сел в кресло, привычным движением вернул на место деревянный потрескавшийся подлокотник, который, видимо, давно сломался.
Дом, в котором давно не было женщины. И ремонта — в дальнем углу комнаты под потолком отклеились старомодные, с золотым тиснением обои, рамы на окнах были старые, еще с форточкой, на полу затертый паркет елочкой. Из примет века — только компьютер в углу на письменном столе.
А женщина все-таки была — одна, на черно-белой фотографии, с открытым взглядом и темным платком на плечах.
Инга чуть сдвинулась в сторону — она видела свое отражение в зеркале серванта между пожелтевшим хрусталем, и это ей мешало.
— Итак, — сказал он, наливая ей чай. — Я рад приветствовать вас в моем скромном жилище.
Голос мягкий, низкий. Инга представила, как он мог бы петь — под гитару в небольшой компании. Но Игорь Дмитриевич производил впечатление скорее замкнутого человека.
— В ваш голос можно влюбиться, — сказала она. — Вы никогда не работали на радио?
— Нет, вы знаете, после института сразу попал на телевидение. Думал, перекантуюсь недолго. А получилось — на всю жизнь. — Он посмотрел ей прямо в глаза. — Вы хотите взять у меня интервью?
Инга вежливо улыбнулась, но вместо ответа потянулась за печеньем, отломила кусочек, сунула в рот, стала медленно жевать.
Агеев сдался первым, продолжил:
— На телевидение я пришел еще студентом. Никакой работы не боялся, хватался за все подряд. И меня довольно скоро заметили. Мне и тридцати не исполнилось, а я уже снимал серьезные репортажи. В те годы, знаете ли, я был скорее исключением, чем правилом. Это сейчас среди молодых царит вызывающий непрофессионализм! Весь эфир заполонили юные создания со своими гаджетами, снимают черт-те что, черт-те как и черт-те на что! — Он поморщился. — Я-то придерживаюсь старой школы.
— Тут я бы с вами поспорила.
Она опасалась, что Игорь Дмитриевич начнет сетовать на современные нравы, но он остановился и посмотрел на нее, словно передавая ход в игре, смысл которой ему пока был неизвестен.
— И все же, чем могу служить? Должен признаться, ваша просьба удивила меня. Согласился на встречу из любопытства.
— Я понимаю, что свалилась вам на голову. — Она сделала глоток безвкусного чая, подержала в руках чашку. Агеев ждал. — Волохов Александр Витальевич. Незадолго до его смерти вы брали у него интервью.
— Да, верно.
— Интервью вы сделали блестяще. — Инга вгляделась в Агеева. Он был ей симпатичен и чем-то даже напоминал Волохова. — Никак не могу привыкнуть, что его больше нет. Вот и нашла вас, чтобы поговорить о нем. Вы не возражаете? Какой была ваша встреча?
Она изо всех сил напрягла свое внутреннее зрение.
Давай, радар, настраивайся! Ну же!
— Очень интересной. — Игорь Дмитриевич улыбнулся — принял подачу. И заговорил медленно, взвешивая каждое слово. — Вы не представляете, как долго я готовился к этому интервью! Понимал, что иду к эрудиту. Его по праву можно было назвать человеком Возрождения.
— Даже так?
— Да! И я буду настаивать на этом. Он был проводником и переводчиком культурных традиций Франции, Италии, Германии. Сейчас появилось модное слово «культурный код» — так вот, у него был прямо-таки в крови культурный код «новой волны», этого грандиозного прорыва, охватившего западноевропейскую культуру в послевоенные десятилетия.
— А он не показался вам замкнутым или расстроенным? Его смерть была такой внезапной.
Агеев задумался. Инга исподволь рассматривала его. Тонкие морщины у глаз, глубокая складка меж бровей. Но глаза, конечно, были очень хороши. Необыкновенно проницательные глаза.
— У меня сложилось о нем впечатление как о человеке одиноком, даже несчастном. Непонятом — ни близкими, ни окружающими. И он тяготился своим одиночеством. То, что он был профессионально востребованным в свои не юные уже годы — это, конечно, большая удача, но это только часть жизни.
— Вы умудрились уловить такие нюансы во время вашей беседы?
— Я слышу сомнение в вашем голосе. — Он обезоруживающе улыбнулся. — Мне показалось, что Александр Витальевич прожил внешне наполненную жизнь, но с пустотой внутри, как шар. Он жил полуправдой. — Агеев жестом остановил возражения Инги. — Я знаю, о чем я говорю. Лучше вы мне скажите, что для вас правда?
— Правда — это воздух. Которого мне сейчас так сильно не хватает. Вокруг сгустилось слишком много лжи.
— Вот вы говорите — лжи. Но ложь — это тоже путь. Не познав ложь, мы не сможем научиться отличать правду. Это своеобразная прелюдия к правде, если хотите. Как парад актеров перед представлением.
Инга затаила дыхание.
— Как парад?
Он что, читает мои мысли?
— Актеры показывают небольшие номера, зазывают публику в театр. Обещают некое действо. Но прохожий-обыватель слишком ленив — он зевает. Он проходит мимо. Он не желает заглянуть внутрь. Поэтому он никогда не узнает правды. Не узнает, что такое настоящее искусство. Люди нелюбопытны — они выбирают видеть лишь парадную сторону бытия.
Отрывистые фразы, параллельные конструкции, эмоциональная интонация — разговор о лжи его очень задел. К чему бы это? Нужен хотя бы оттенок. Ничего не вижу. Все прозрачно.
— Мы часто довольствуемся незатейливым парадом актеров, — продолжил Агеев с тем же нажимом на сказуемое. — И не хотим увидеть само представление — то, ради чего устроен парад. Разве не об этом думал Жан Кокто, когда писал либретто?
— Вы так думаете? — Инга боялась спугнуть его мысли.
Нужно дать ему высказаться. Пусть накручивает себя. Уже увлекся — сейчас дойдет и до Пикассо.
— Но вот вопрос: если бы не было костюмного, иллюзорного парада — разве мы бы узнали, что театр вообще существует? Выходит, что иллюзия — это бессменный спутник искусства.
— Похоже на то. — Инга беззаботно рассмеялась, скрывая волнение. Внутри все прыгало от предчувствия, что он вот-вот заговорит о главном.
— Кроме того, это был любопытнейший опыт авангардистов — балет «Парад». Кокто писал сюрреалистичные тексты, Сати — эксцентричную музыку, Пикассо все больше уходил в кубизм, чем разочаровывал поклонников. Дягилев и русская балетная труппа были слишком академичны для этой разнузданной компании, но Мясин был с ними на одной волне — он привнес в хореографию карикатурную и грубоватую манеру. Одни Управители чего стоят!
— Да, но балет был освистан на премьере. Французская публика, даже самая передовая ее часть, не станет аплодировать «новому искусству» только за новизну.
Речь усложнилась. Сколько сразу книжных слов: «карикатурный», «эксцентричный», «авангардисты» — будто готовил доклад.
— Безусловно. Он довольно примитивен как балет. Но за это и назван «Парадом» — это не собственно балет, а увертюра без основной части. Или обертка, если хотите.
Философское высказывание группы художников, предвосхитивших поп-арт, массовую культуру, общество потребления. И всю упаковочно-глянцевую культурную тенденцию. Вы как недавний представитель глянца должны очень хорошо это понимать.
Вот ведь старый черт!
— Я вам даже больше скажу, — как ни в чем не бывало продолжал Агеев. — «Парад» и должен был быть освистан публикой. Не могло же французское общество 1917 года разглядеть в нем сатиру на общество 60–80-х годов.
— Вы все знаете про «Парад»!
Докручивай его!
— Я много читал о том периоде. И, кстати, с покойным Александром Витальевичем мы неплохо поговорили на эту тему. Я был потрясен — сам Кокто подарил ему либретто.
— Вы держали в руках эту книгу?
Самый важный вопрос должен был прозвучать как незначительная, брошенная вскользь реплика восхищения — и это ей удалось.
— Нет.
Не прибавил форм вежливости. Но и не сказал резко, как отвечают на подозрение. Все на длинной ниспадающей ноте. В этом досада — вот он! Тонкий блик, легкая морская дымка, честность.
— Но дарственную надпись на титульном листе я заметил: размашистым почерком — Alexandre. Вот счастливчик!
Alexandre нарочито манерно и гнусаво, с грассирующим «р» — зависть искрит в его словах. Сильная зависть, но не ложь. Книга не у него.
Инга откинулась на спинку дивана. От напряжения еще стучало в висках, но главное было позади.
— Игорь Дмитриевич, а можно кофе?
— Давайте тогда продолжим разговор на кухне, если не возражаете.
На кухне было чисто и уютно. Над допотопной газовой плитой было выложено керамическое панно — потрескавшийся итальянский дворик с оливами. У стола два табурета. Агеев всыпал в турку три ложки с горкой.
— Как случилось, что вы стали снимать интервью для Starjest.com? Вы ушли с телевидения?
— Скорее меня ушли. — Агеев нахмурился. — Старая история. Но я ни о чем не жалею.
А в этом мы похожа. Из гордости не показывает обиду.
Он снял кофе с огня, аккуратно налил в керамические чашечки.
— Хотите воды? Я крепкий варю.
— Нет, крепкий отлично. Скажите. — Инга сделала обжигающий глоток. — Хороший кофе. Выделаете прекрасные интервью, как я понимаю, сами снимаете, сами монтируете и потом продаете их порталу? И нормально платят? Извините за бесцеремонность, но я как раз ищу работу.
— Платят неплохо. — Он покивал. — Я даже стал популярен на старости лет! — Игорь Дмитриевич легко рассмеялся.
— Видела, сколько у вас просмотров!
— Потому что у меня необыкновенные собеседники. — Он оживился. — К сожалению, эти люди остаются в тени так называемых «звезд» — дешевых однодневок. Мне интересен истинный талант, настоящее искусство. Всю жизнь я тащил в свою пещеру самое ценное: записи документальных фильмов, спектаклей, даже капустников и встреч со зрителями! В перестроечные времена они оказались никому не нужны, многие могли быть выброшены на свалку. А я их сохранил. У меня чего только нет!
— Вот бы взглянуть!
— Я с удовольствием вам покажу. Что вас больше всего интересует?
— Неужели вы все оцифровали? — поразилась Инга.
— Потратил на это уйму времени. — Было видно, как Агеев гордится своим архивом. — Ноя обязан был все сохранить — для потомков.
— Послушайте! — У Инги загорелись глаза. — Идея! Вам должно понравиться!
— Слушаю вас. — Он склонил голову, демонстрируя внимание.
— Вы помните Александру Цембровскую? В прошлом замечательная актриса…
— Как же, знаю! Ужасная была история.
— Об Александре Николаевне сейчас все забыли. Но так случилось, что я с ней близко знакома. Может быть, сделаете с ней интервью? Для нее это было бы так важно!
— Это интересно. — Агеев задумался. — Она из настоящих, из тех звезд, что светят нам через многие годы.
— Я пришлю вам ее номер телефона. — Инга поднялась. — Спасибо вам за встречу. Отняла у вас уйму времени.
— Вам спасибо. — Игорь Дмитриевич тоже встал и, провожая ее, протянул ей флешку. — А это подарок от меня. Небольшой сюрприз.
У подъезда Подгорецкого Ингу ждал уже порядком злой Штейн с кофром аппаратуры.
— Ну ты, мать, даешь, — Олег бросил окурок в траву, — почти двадцать минут тебя жду, между прочим. Мы на сколько договаривались? Подгорецкий человек не юный, на интервью и так еле согласился. Сейчас взбесится и пошлет. И бабосов не видать!
— Не злись. — Она нагнулась, поднимая его окурок. — Мусорить нехорошо, — ответила упреком на упрек и кинула сигарету в урну.
Они вошли в сумрачный грязный подъезд. Стали подниматься по лестнице с длинными пролетами. Лифт не работал.
— Какой этаж? — Олег тяжело дышал, таща аппаратуру.
— Шестой. Держись, старина!
— Я тут почитал про него, про Подгорецкого, пока ты шлялась неизвестно где, — ворчал он. — Талантливейший хореограф! Мэтр!
— Знаю. Ты его «Анну Каренину» помнишь? Одно из самых больших потрясений моей юности.
— He-а, не помню.
— А говоришь — почитал! Это было событие в театральной жизни! Представь, вся труппа, человек двадцать, изображала поезд. Мне на галерке было страшно, казалось, что эта громада сейчас задавит. Мощь! У него каждый балет был — прорыв и новое слово в танце. Потом он поссорился то ли с руководством Большого, то ли с кем-то из министерства — тайна, покрытая мраком, — и, как это у нас традиционно бывает, двери одна за другой позакрывались. А такому человеку остаться без работы — все равно что лишиться жизни.
Они поднялись на площадку шестого этажа.
— Жми. — Штейн аккуратно сгрузил кофр.
Они отлично слышали бодрую трель звонка за старой дерматиновой дверью. Но никаких шагов. Ни поступи хореографа, ни шарканья тапочек старика, ни тихих медленных шагов степенного пожилого человека. Звонили долго: Виктор Борисович был человеком обязательным и без предупреждения встречу отменить никак не мог.
— Трезвонят тут, чего трезвоните? — За их спиной стояла неопрятная женщина в халате в мелкий голубой цветочек. В руках она держала ведро, из которого торчали пустые коробки и какие-то банки. Инга брезгливо подумала: «А ведь она вполне может быть моей ровесницей».
— Сосед ваш, Виктор Борисович? У нас встреча с ним, — объяснил Олег.
— Встреча! — насмешливо передразнила его соседка. — Умер он вчера, ваш Виктор Борисович.
— Как умер?!? — ахнула Инга.
— Как все умирают, так и он умер. — Женщина спустилась на пол лестничного пролета. — Сердце остановилось, что ли? А там уж я не знаю — инфаркт, удар, приступ. Хрен его разберет. — Она опрокинула ведро в мусоропровод.
В тишине подъезда было слышно, как заскрежетали по трубе выброшенные консервные банки.
Глава 10
Всю дорогу Майкл проспал глубоким ночным сном, хотя день только начинался. Как только такси выехало из Франкфурта и в окне растянулись толстые зеленые бока полей, утыканные исполинскими ветряками, он отключился.
Первое, что он увидел в Лейпциге из окна гостиницы, было грубое угловатое здание из стекла и стали — новый Гевандхаус, ничего общего не имеющий со старым парадным дворцом, который описывал ему отец.
Из-за его подробных рассказов Майкл с детства боялся этого города и никогда бы не приехал сюда по собственному желанию. С семи лет его мучили кошмары, сотканные из чужих воспоминаний. Он ярко представлял себе, как днем по узким средневековым улицам рыщут колдуньи и демоны в черной форме с красной повязкой на руке, готовые растерзать любого, кто прошмыгнет в кино, купит крендель в немецком магазине, заглянет в городской парк или просто ступит на тротуар. А ночью страшные злобные тени бьют витрины, поджигают дома, избивают родителей, а детей швыряют в окна.
Потому Майкла даже разочаровала железобетонная безликость Аугустусплатца. Единственным оставшимся осколком барочной роскоши был фонтан: тритоны, морские кони, нереиды, крылатые пути — напыщенная избыточность, столь любимая немецкими буржуа. Майкл посмотрел на них с ненавистью, как кровный мститель смотрит на своего врага, сжимая рукоятку спрятанного за пазухой ножа, и отошел от окна.
Он с трудом дождался ночи. Окна повсюду погасли уже давно, в девять вечера улицы обезлюдели и померкли. Майкл прошел по бульвару, деревья которого показались ему дряхлыми, хотя едва ли были старше кленов в Центральном парке Нью-Йорка. Отец говорил ему о том, что в Америке все казалось ему новым и искусственным, а в Германии даже здания югендстиля несли на себе какую-то печать древности. Майкл вдруг ощутил, что его жизнь состоит не только из настоящего, что было и есть у нее долгое прошлое, которое незримо продолжается на улицах Лейпцига. И это прошлое шло за ним сейчас по пятам — тяжелым железным маршем штурмовиков.
Совсем рядом раздался вой сирены. Майкл вжался в стену здания: сейчас они его схватят, возьмут за шкирку, как пушного зверя, и поволокут в участок. Но полицейский патруль промчался мимо, его страшный вопль постепенно затих.
— Да что такое со мной! — Он тихо выругался.
Дошел до Готтшедштрассе. По его расчетам, совсем скоро должен был показаться громоздкий профиль синагоги. Майкл огляделся: впереди стояли только серые многоквартирные блоки, обширный квадрат свободного пространства между ними был уставлен стульями. Он принял его за концертную площадку.
Прочел надпись на невысоком столбе посреди улицы: «Мемориал на месте Синагоги, разрушенной девятого ноября 1938 года, 14 000 евреев стали жертвами фашизма в Лейпциге». В Хрустальную ночь здание синагоги подожгли, а одиннадцатого ноября разбирать по кирпичику стены, уцелевшие от пожара, заставили самих членов общины.
— Значит, теперь здесь памятник!
Деревья отбрасывали острые хищные тени на тротуар. От канала поднимался туман, запутывал ноги, утягивал в небытие. Улицы заполнились длинными безмолвными рядами прежних жителей Готтшед-штрассе. Они с одобрением смотрели на Майкла — единственного живого человека среди теней. «Отомсти за нас!» — неистово шептали они, когда он проходил сквозь ледяные толщи призраков.
Он свернул на Томасиус и пошел медленно, ожидая перекрестка с Хельферих-штрассе, но ее нигде не было, Томасиус-штрассе заканчивалась тупиком. Нестерпимое волнение охватило его, похожее на страх разочарования. Линии эмоций скакали вверх-вниз, как кривая электрокардиограммы, — раньше жизнь его тянулась мертвой прямой.