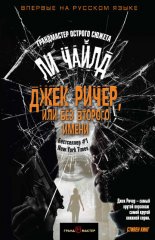Целитель. Двойная игра Большаков Валерий

– Найдём! Они там долго провозятся. Ты же знаешь, какой папа копуша!
– Не-е! – засмеялась сестричка. – Это мама у нас копуша, а папа – копун!
Мы степенно прогулялись вдоль стеклянных стен, расписанных символами химических элементов, свысока поглядывая на суету. Поступавшие и впрямь напомнили мне пугливых гуппи, что носились в Ритином аквариуме, создавая бестолковое мельтешение.
– Так. Идут!
Я живо обернулся к лестнице, что спадала с институтских верхов, от ректората. Отец, небрежно похлопывая по перилам кованой решётки, спускался и внимательно слушал Револия Михайловича – тот что-то оживлённо вещал, помогая себе руками. Подойдя ближе, я разобрал: «…Техпроцесс три микрометра…[63] Шестнадцатибитный проц, два миллиона операций в секунду… Прямая адресация целого мегабайта внешней памяти… Красота!»
Меня подхватило, крутануло волной восторга – Суслов с жаром описывал микропроцессор, инфу по которому я в образе «Михи» отослал ещё в марте. Стало быть, пустили в дело моё послезнание! Ну хоть недаром пыхтел, наговаривая на кассету всякие тонкости и нюансы… Зная хитрые секретики спецов из «Интела» и «Зилога», наши быстро запустят производство «однокристаллок» – лет на десять раньше, чем в «прошлой жизни»! Ну не красота ли?
Продолжая улыбаться, я приблизился к папе.
– Ну как там наша заочница?
– Пленяет! – махнул рукой папа. – Даже внимания на меня не обратила! – Он заворковал, пародируя маму: – «Ах, Геннадий Алексеевич! Конечно, Геннадий Алексеевич!»
– А Геннадий Алексеич цветёт и пахнет! – рассмеялся генерал. – Ну что? Едем?
– Да, да! Конечно! – засуетился отец. – Три микрометра… С ума сойти!
– Поехали, поехали! – потянула меня Настя.
И мы поехали.
Тот же день, позднее
Зеленоград, Солнечная аллея
Лето сияло голубым да зелёным – с безоблачного неба жарило солнце, и живая поросль, млея в тепле, спешила вымахать, отцвести и налиться соком. Белые высотные дома, что завиднелись слева от Ленинградки, не выбивались из летней палитры, а хорошо вписывались в общее полотно, как облачка в лазурной вышине.
«Волга» свернула и покатила широким Московским проспектом, окаймлённым деревьями.
– Как на даче! – хмыкнул папа.
– Лучше! – с энтузиазмом подхватил Суслов. – Зелёный город! Тут и лес несведённый, и парки, и речка Сходня. Даже озёра есть! Где в Москве можно вот так запросто открыть форточку, а оттуда не бензином тянет, а хвоей? Красота! Улицы, и те – аллеи! Ну не все, конечно. Тут недалеко Сосновая аллея, Озёрная, Каштановая, Яблоневая… А нам – на Солнечную аллею. Там сейчас строят «чистые» цеха – гермозона! Воздух прогоняется через кучу фильтров, чтоб ни одной пылиночки, а все работники в белых спецкостюмах, чуть ли не в скафандрах…
– Так… А зачем? – распахнула Настя и без того большие глаза.
– Ну там же микросхемы делают… будут делать. А для них даже крошечная соринка всё равно что булыжник в телевизоре! Брак.
– А-а… – уважительно протянула сестрёнка. – А что, эти ваши… схемы, они такие маленькие?
– Помнишь тетрадку по арифметике? – спросил я, поглядывая на Настю в зеркальце. – А теперь представь, что в одну клеточку напихано тысяч двадцать транзисторов!
Сестричка честно нахмурила лобик, но вскоре вздохнула и покачала головой:
– Не-е… Не представляется.
Все засмеялись. Настя недолго сдерживалась – прыснула в кулачок.
– Приехали! – Револий Михайлович вырулил к кубическому, со всех сторон застеклённому зданию, отчего оно казалось прозрачным. За ним, раздвигая березняк, пластались плоские корпуса цехов – там то и дело вспыхивали фиолетовые искры сварки да погромыхивали листы металла. – За мной, Пётр Семёныч, Михаил Петрович и Анастасия Петровна!
Двери «куба» ещё не навесили, а в просторном холле укладывали плитку строители из злобинской комплексной бригады. Широкая лестница завивалась полукружием на второй этаж, где всё сияло чистотой и ждало новоселья. От центрального атриума разбегались три коридора, и где тут народ кучковался, угадывалось на слух – за настежь распахнутой дверью голосили наперебой.
– Чуть не забыл! – Револий Михайлович звонко шлёпнул себя по лбу ладонью. – Миша! Я же вам ещё зарплату не выдал!
– Зарплату? – Мои брови изобразили домик.
– Ну да! Это наш главбух меня застыдил. Эксплуатируем, дескать, юношеский энтузиазм! В общем, мы вас устроили на полставки программиста как несовершеннолетнего. За четыре месяца вам причитается триста шестьдесят рэ!
– А вот это правильно! – закивал папа с одобрением.
Как чёртик из коробки, выскочил распаренный Старос – встрёпанный, без пиджака, галстук съехал набок.
– Wow! – вскричал он. – Дружище Питер! Как же я рад!
А тут и «старосята» выглянули из дверей – взревели и всем скопом накинулись на отца, стали охаживать его и хлопать по гулкой спине.
– Сдаюсь! – завопил папа, хохоча и давая сдачи.
Дружеская возня пошла на спад, но тут Филипп Георгиевич указал на новую жертву гостеприимства.
– А вот Миша Гарин, конструктор «Коминтерна»! – воскликнул он, топорща усы.
– Маленьких не бьют! – поспешно сказал я.
Весёлый гогот заполнил коридор. На радостях досталось и мне, и Суслову – за компанию. В толчее и круговерти обоих Гариных чуть ли не внесли в обширный кабинет Староса. Настя вцепилась в меня – затащили и её.
– Питер! – с чувством сказал Филипп Георгиевич. – Моя, да и твоя, жизнь была как синусоида – то нас вверх поднимало, то швыряло вниз. Меня – на Дальний Восток, тебя – на юг России. Но сейчас… Принюхайся! Чем пахнет?
– Хвоей… – неуверенно сказал отец.
– Нет! – резко мотнул головой Старос. – В воздухе брезжит запах революции! Ну ты сам посуди – я здесь! Не гляжу уныло с сопки на Японское море, а кручусь-верчусь в самой серёдке грандиозного проекта! Нам КГБ такие роскошные материалы передал, что хоть вой от восторга! – Тут он запнулся. – Револий Михайлович…
– Да я уже растрепал Петру Семёновичу все сов-секретные сведения! – махнул тот рукой, посмеиваясь.
– Ну тем более! – вдохновился директор Центра микроэлектроники[64]. – Могу поклясться чем хочешь, что уже в будущем году мы выпустим процессор на двадцать девять тысяч транзиков – и обгоним Америку! Easy![65]
Тут все загомонили, уходя всё дальше в айтишные дебри. Настя слушала как зачарованная – будто при ней волшебники творили заклинания, собравшись по обмену опытом.
Я же испытывал бесхитростную, незамутнённую радость – и к развитию микроэлектроники она не имела отношения. Нет, я всё понимал – и помнил, просто в данный момент времени меня волновала не эволюция советского общества в целом, а его ма-аленькой ячеечки, моей семьи.
В том прошлом, которое мне памятно, мама так и не выучилась на инженера-химика, как ей мечталось. Даже техникум не удалось окончить – то дети, то возраст… Вечно находились помехи. А ныне всё по-другому, и я уговорил-таки мамульку сбавить накал беспокойства, поделиться с нами валом забот, чтобы выкроить время для себя, красивой, умной и ещё такой молодой женщины. И вот она штурмует «Менделеевку»…
А отец? Каково ему было наблюдать за тихим развалом микроэлектроники в СССР? Он-то в «прошлой жизни» оттого и подался на Дальний Восток, что перспектив – йок. Ныне же всё говорит за то, что переезду быть – сюда, в Зеленоград, в советскую Кремниевую долину. А папа, если уж загорится, генерирует идеи – будь здоров!
Да я и себе «мировую линию» выправил, такую траекторию жизни рассчитал, что горло перехватывает. Осталось ещё Настеньку пристроить…
Фыркнув, я пихнул сестрёнку в бок:
– Насть, может, тебе после школы в электронщики двинуть? А?
– Да куда мне… – затянула Настя с сомнением.
– А чего? По математике и физике у тебя пятёрки. Было бы желание! Если что, мы с папой тебя подтянем.
– Ладно, – серьёзно кивнула сестрёнка, – я подумаю.
Тут из толпы «старосят» вынырнул отец, всклокоченный, как все, и посмотрел на меня – виновато и растерянно.
– Мишка, прямо не знаю! – заговорил он, кряхтя от смущения. – Тут такие шикарные проблемки… Я просто должен в них закопаться!
– Закапывайся, пап, закапывайся! – рассмеялся я. – У тебя же отпуск, вот и отдыхай!
– А вы?
Тут нас прикрыл Револий Михайлович.
– Да вы не волнуйтесь, – успокоил он отца, – детей я к нам на дачу отвезу. Там и повара свои, и лес, и речка! Миша знает.
– Всё будет в лучшем виде, пап, – сказал я. – Помнишь? «Понедельник начинается в субботу, а август на этот раз начнётся в июле!»
Пятница, 4 июля 1975 года, ночь
Великобритания, Лондон, Хитроу
Вакарчук блаженствовал. Выспаться накануне не удалось, но он не в претензии – маленькое счастье распирало его. Бесхитростный восторг провинциала, впервые гостящего в столице.
За какие-то сутки Степан увидел больше, чем за всю свою жизнь. Он наслаждался боем часов с Биг-Бена. Упоённым взглядом провожал красные двухэтажные автобусы. Совершенно терял голову в универмаге «Селфриджес» на Оксфорд-стрит, а потом, на излёте ночи, со всех сил таращил глаза, глядя за окна автобуса № 9[66], когда тот проезжал Пиккадилли.
Даже в аэропорту Лондон не отпускал – зарево огромного мегаполиса дрожало, затмевая половину небосклона. На площади гудели и сигналили сотни юрких машин и неуклюжих «даблдеккеров», огни реклам стекали с их лакированных крыш на стёкла и капоты. В суматоху вплетались разноязыкие крики, обрывки музыки угнетали сознание невообразимой мешаниной, и всё перекрывал вой и тяжкий гул мощных авиамоторов…
Оглянувшись на Максима, агент «Вендиго» улыбнулся – «Миха» тихонько дрых на диванчике, и ропот огромного зала ожидания нисколько не мешал ему.
Забавно… Вакарчуку никогда даже в голову не приходило равнять себя с кем-то из ближних, но именно теперь он, «предатель родины», ощутил некую трепетную связь с Вальцевым. Здесь, за границей, на пугающей и влекущей чужбине, их осталось только двое.
Вздохнув от избытка чувств, Степан поднялся и прошёл ближе к прозрачной стене. Там выруливала маленькая белая «Каравелла» с синей прописью «Эр Франс». Приземистый жёлтый тягач вёл на поводу старенькую, но симпатичную «Комету». А ближе всего поднимал гигантский хвост «Боинг747» с синим глобусом «Пан-Ам» на киле.
– Стив! Майк! – послышался бодрый тенорок Даунинга. – Нам пора!
– Я готов, Джек, – сиплым голосом ответил Вальцев, тяжело поднимаясь.
– О’кей! Вот ваши пейпарс[67], джентльмены.
Вакарчук с опаской взял синий паспорт с распятым орлом. Радости не было. В душе сумбур из обрывков мыслей, чувств, фраз, и вот через эту кашу, сдобренную недосыпом, мироточит сожаление о серпасто-молоткастом. Отныне он Стивен Вакар…
Вроде как это известная белорусская фамилия. Ладно, пускай… «Песняры» ничего так аккорды берут… «Косил Ясь конюшину, поглядал на дивчину, по-огляда-ал…»
Степан сильно вздрогнул. Спать тянуло со страшной силой, и сознание плыло, путая сон с явью.
– За мной! – Джек подхватил чемодан «Самсонайт» и покатил по гладкому блестящему полу. Двое неприметных парней, всю ночь маячивших в поле зрения перебежчиков, будто в воздухе растворились.
А Степан, перехватив сумрачный взгляд, который Максим бросал на свой документ, внезапно успокоился – и градус настроения пополз вверх. «Ты же не эмигрант! – успокаивал он себя. – Ты на задании!»
Пройдя паспортный контроль, все трое неспешно зашагали по стеклянному коридору терминала, миновали «гармошку» – и очутились в утробе «Боинга». Не слишком верилось, что эта громада способна воспарить над землёй и перелететь океан.
Джек, Майкл и Стивен уселись рядом во втором классе. Пассажиры проходили мимо нескончаемыми табунами, но Вакарчук уже плохо соображал – думы и образы вязли черноте дрёмы. Надо, надо отдохнуть – впереди Нью-Йорк! Город жёлтого дьявола!
«Неужто я и вправду советский? – медленно пропечаталась крайняя мысль. – И не предам?..»
Вечер того же дня
Московская область, Сосновка1
Солнце садилось, и надоедливый дневной шум стихал. Обезлюдели пляжи Москвы-реки, убавилось движения на дорогах, даже ветер угомонился – не шуршал хвоей, не заплёскивал волнишки, не раздувал травяной запах и смолистый дух. Эти древнейшие парфюмы щедро вливались в раскрытое окно «Волги», будоража памятное.
– Как раз к ужину поспели! – довольно сказал Револий Михайлович.
Он посигналил, и массивные ворота распахнулись, пропуская во двор. Там уже пластался огромный чёрный ЗИЛ, тускло зеленея бронестёклами.
– Отец уже дома, – сказал Суслов изменившимся голосом. – Здравствуй, Дима!
Охранник приветливо вскинул руку, заглядывая в салон. Узнав меня, он улыбнулся, кивая, как старому знакомому. Его рация невразумительно зашипела, и Селиванов пробормотал короткий доклад, успокаивая начохра.
Я вышел и даже ойкнуть не успел – громадная лохматая псина подлетела ко мне, визжа и метя хвостом.
– Джулька! – выдохнул я. – Тьфу на тебя, напугал! – Потрепав по загривку умильно глядевшую собаку, добавил, словно извиняясь за резкость: – Узнал, чудище? Выходи, Настя, оно сырых девочек не ест!
Сестрёнка боязливо выглянула, и Джульбарс тут же свесил язык, как будто выкидывая флаг.
– Свои, свои, – сказал Револий Михайлович. – Пойдёмте, Настя!
Девушка пошла впереди, часто оборачиваясь, а мы с Сусловым-младшим понесли Настин чемодан и мою огромную спортивную сумку.
Госдача полнилась жизнью. Из-за деревьев доносились детские крики и удары по мячу; полноватый мужчина в роговых очках – вероятно, Сумароков[68] – курил в затейливой беседке поодаль. За освещёнными окнами столовой мелькали женские силуэты, а на кухне гремели тарелки, нагоняя дразнящие флюиды скорой трапезы.
Настя застеснялась, и я первым вошёл в дом. Ничего не изменилось – всё так же книги повсюду, а старинные часы по-прежнему вели счёт вечности, отмахивая секунды медным маятником. Ольга Васильевна и Майя Михайловна хлопотали, помогая «домоправительнице» Нине накрывать на стол.
– Здравствуйте! – сказал я, пряча смущение за бойкостью. – Мы к вам в гости. А то так есть хочется, что аж переночевать негде!
Женщины рассмеялись.
– Проходите, проходите, скитальцы! – засуетилась Майя. – Отец уже трижды о тебе спрашивал! – Она лукаво улыбнулась: – А эта красотка – твоя девушка?
Настя мигом зарделась.
– Та вы шо? – еле выдавила она, от волнения сбиваясь на мову.
– Это моя сестричка. – Я приобнял «красотку» за плечи. – Настенька!
– Совсем засмущали ребёнка, – неодобрительно покачала головой Нина.
– Мы больше не будем! – залилась смехом Майя. – Пойдёмте, я покажу вашу комнату.
Она провела нас на второй этаж, в светлую горницу. Ничего особенного: две кровати, старый шкаф с биркой «Управление делами ЦК КПСС», монументальный стол, помнящий если не Ленина, то Сталина – точно. На бревенчатой стене висела дешёвая литография в простенькой рамке, а прямо за окном шептались две вековые сосны, сплетясь ветвями.
– Тут так здорово! – впечатлилась Настя.
– Тогда давай я покажу тебе дом, – улыбнулась Майя. – Давай?
– Так… Ага!
Проводив обеих глазами, я сел на кровать, покачался – не скрипит. Уже хорошо. Расстегнув молнию на сумке, достал две литровые бутылки с колодезной водой, набранной ещё в Первомайске. Обе я основательно «зарядил», хотя понятия не имею, как это у меня получается.
Покачав бутылки в руках, задумался. Я уже свыкся с мыслью о том, что «отапгрейдил» сознание Суслова и Брежнева, хотя доказательств тому никаких. Все мои подозрения основаны на воспоминаниях о страхах. «Хайли-лайкли»[69], как говорят англосаксы, «доказывая» очередную брехню.
– Ну и ладно, – сказал я вслух и упруго встал. – Пейте на здоровье!
В коридоре никого не было, лишь снизу доносились голоса. Подойдя к дверям кабинета, коротко постучался и вошёл.
– Можно? Здравствуйте, Михаил Андреич!
Суслов-старший резко развернулся на стуле, и его твёрдое, холодное лицо пожилого лорда потеплело, смягчаясь улыбкой.
– Здравствуйте, Миша! Я уж думал, вы совсем забыли старика!
– Семьдесят лет – не возраст, – ухмыльнулся я.
Михаил Андреевич засмеялся, отмахивая седую чёлку. На столе перед ним лежала раскрытая красная папка и пухлая стопка листов, исписанных чётким прямым почерком.
– Всё как обещал. – Я торжественно преподнёс оба сосуда. – Одна – вам, другая – Леониду Ильичу.
– Спасибо огромное, Миша, – серьёзно сказал Суслов, оглаживая круглый бок бутылки. – Даже мой больной глаз выздоровел, я теперь пишу и читаю без очков. Думаю без очков! Без идеологического преломления, понимаете? Смотрю и вижу! И мне бывает очень стыдно. Правда-правда! Вот буквально вчера вернулся из Тулы. Узнал, что медсестричка Тася из нашего партизанского отряда, оказывается, жива. Навестил Тасеньку на даче… – Он покачал головой, горестно поджимая губы. – Такого сраму я не припомню… Забор – из сучьев и веток, на домик пошли обрезки досок, а сверху его покрыли ломаным шифером… Стройматериалу-то не достать! Зато в огороде – ни травинки, грядочка к грядочке, и Тася, скрючившись в три погибели, таскает вёдра, чтобы полить помидорчики…
– Рада вам была? – негромко спросил я.
– Очень! – заулыбался главный идеолог страны. – И чаем напоила, и пирогом угостила… А я тогда пообещал себе, что такие вот Таси не надрываться будут на своих шести сотках, а покупать в овощном хоть помидоры, хоть ананасы! И если я этого не добьюсь, то грош цена всей нашей идеологии… Ох, восемь уже! – подхватился он. – Пошли, тёзка, пошли, нас уже заждались, наверное. Сидят, голодные, облизываются!
Пересмеиваясь, мы вместе спустились в столовую. На ужин подавали пюре с гуляшом, ягодный пирог и чай.
– Мишечка, отвернись, пожалуйста…
Я честно уставился в тёмное окно. Свет из комнаты падал на стволы сосен, и они смутно выделялись на фоне июльской ночи.
– Всё! – Настя поддёрнула ночнушку и юркнула в постель. – А тут и вправду хорошо… Так. Лес красивый, и речка… Вода совсем тёплая!
– Завтра накупаешься, – улыбнулся я.
– А ты?
– А мне надо в Москву.
– Я тоже хочу! – заныла сестрёнка.
– Настенька, я в МГУ застряну на полдня, буду академиков уму-разуму учить, – быстро заговорил я, оправдываясь. – Да ты не волнуйся, маме ещё неделю экзамены сдавать! Я тебе обещаю: послезавтра махнём с тобой в столицу, и я тебе всё-всё покажу!
– И Красную площадь?
– А как же!
– И в метро покатаемся?
– До одурения! – засмеялся я.
– Ну тогда ладно… – успокоенно вздохнула девушка. – Так. А поцеловать?
Я пересел на кровать сестрёнки и ладонями нежно огладил её лицо. Настя улыбнулась, зажмуривая глаза, а мне вдруг вспомнилось, какой она стала в таком далёком, почти неразличимом будущем – усохшей, выцветшей дамочкой с вечно усталыми глазами, в которых размораживалась тоска…
«Не бывать тому!»
Поцеловав мягкие, податливые губки, я сказал тихонько:
– Спокойной ночи, Настенька.
И уловил сбивчивый шёпот в ответ:
– Спокойной ночи, Мишенька…
Глава 9
Пятница, 4 июля 1975 года, утро
Москва, Ленинские горы, МГУ
Я вышел со станции метро, и приставучий ветер начал ерошить мои волосы. Пригладив прядки ладонью, побрёл, жмурясь от нахальных лучей и взглядывая на шпиль универа. Мне туда, в ГэЗэшку[70], обитель мехмата.
Сейчас, «сбежав» из Первомайска, я ощущал не слишком рациональное успокоение – все, кто искал меня, остались на Украине, а я тут, в столице СССР! Мышка юркнула в соседнюю квартиру и радется. Как будто голодный кот не может прокрасться следом…
Свернув, я пошагал прямо на памятник Ломоносову, поглядывая вправо, где высился строгий серый корпус физического факультета, похожий на здание солидного министерства. Я ещё точно не решил, куда буду поступать, но физфак притягивал всё сильнее. Посмотрим ещё…
Сердце не частило, однако я волновался. Иначе не объяснить, почему вдруг шумовка сознания вылавливала из окружающего сущие мелочи – напыжившегося воробья, принимавшего ванну в лужице, короткий взблеск оброненной копейки, едва слышное клацанье штанги троллейбуса, что с ветром занеслось с проспекта.
Поправив на плече ремень подзатёртой сумки «Эр Франс», я храбро миновал монументальные двери главного здания, окунаясь в гулкую прохладу и тень. Изнутри универ напоминает многоэтажную станцию метро – то тема «Арбатской» проскальзывает, то «Кировской» веет.
Вот люблю я сталинский ампир! Мощные колонны и стены облицованы мрамором, увешаны тяжёлыми деревянными панелями, отделаны бронзой. И всё это воистину державное великолепие – для учёбы, ради головастых студиозусов!
Лифт поднял меня на шестнадцатый этаж, в математическое царство. В безлюдных анфиладах гуляли сквозняки, разносившие, чудилось, тени голосов, призрачные фонемы, невесть когда озвученные и выпущенные из лёгких на волю.
Колмогорова я нашёл сразу – академик сидел за тяжёлым коробчатым столом в огромной аудитории, чья торжественная пустота наводила на высокие мысли о храме.
– Здравствуйте, Андрей Николаевич, – сказал я, подходя.
Колмогоров недоумённо глянул на меня, морща лоб, а в его светло-голубых слегка раскосых глазах остывал математический жар.
– Постойте, постойте… – затянул он, выпрямляясь на скрипучем стуле. – Дайте вспомнить… Голос мне ваш знаком… А-а! Миша! Миша Гарин!
– Он самый, – поклонился я.
Академик приподнялся и крепко пожал мне руку. Ладонь его не была мозолистой, но сила в ней жила.
– Рассказывайте! – велел Колмогоров.
– Да рассказывать особо не о чем, – изобразил я скромника. – Закончил девятый класс без четвёрок…
Академик шутливо погрозил мне пальцем.
– Вы статьи свои читали хоть?
– Да, мне по почте прислали номера «Программирования» и «Кибернетики». Штатовский журнал пока что не держал в руках.
– Миша! – засмеялся Андрей Николаевич. – Как, по-вашему, много ли школьников печатается в таких изданиях? То-то же! Да нет, я сам недолюбливаю хвастунов, но и мимикрировать под средний уровень не годится. Вам есть что сказать! Надеюсь, вы ещё не передумали доучиваться в нашей физматшколе?
– Не передумал, – мотнул я головой. – Только, наверное, не получится у меня… раньше зимних каникул. Я в Москву с родителями приехал. Мама поступает в Менделеевский, на заочное, а папа почти уже устроился в зеленоградский Центр микроэлектроники. Ему там обещают квартиру дать, но не раньше декабря. В общем, домой мы вернёмся втроём – я, мама и сестричка Настя. И будет очень некрасиво бросить их одних осенью. Понимаете?
– Понимаю! – серьёзно кивнул Колмогоров. – Конечно, понимаю. Зимой так зимой. – Внезапно воодушевившись, он прищёлкнул пальцами. – Кстати! А высокотемпературные сверхпроводники?
Я молча полез в сумку и вынул из кармашка чёрную «таблетку». Андрей Николаевич осторожно переложил её к себе на ладонь.
– Удалось? – негромко спросил он.
Я кивнул.
– Измеряли?
– Четырёхпроводным методом Кельвина, – сказал солидно. – Образец охлаждался в жидком азоте – и сопротивление падало до нуля.
– С ума сойти… – прошептал Колмогоров и резко поднялся. – Пойдёмте, Миша!
– Куда?
– На физфак! – воскликнул академик. – Явите нам чудо!
Глядя на здание физического факультета, я радовался про себя, что его успели возвести до хрущобной эпохи, когда дали бой красотам архитектуры, и наши города заполонили безликие типовые коробки. А тут ещё есть на что посмотреть со вкусом.
Колмогоров провёл меня сразу в приёмную декана. Попросил обождать и ворвался в кабинет, взывая с порога:
– Василий Степаныч![71]
Тяжёлая дверь замкнулась, и я не услышал диалога. Минуты не прошло, как в приёмную вывалились оба, возбуждённые и малость встрёпанные – седой Колмогоров и лысый Фурсов.
Декан, мимоходом поправив галстук, яростно выпалил, глядя на меня в упор:
– Это правда? При какой температуре фиксировалась сверхпроводимость?
– Девяносто два градуса Кельвина, – чётко отрапортовал я.
– Состав? – резко спросил Фурсов.
– Окись иттрия, углекислый барий, окись меди.
Пожевав губами, декан выпростал руку:
– В физкабинет!
И мы в ногу пошагали в кабинет физических демонстраций, стращая встречных студентов, – те шарахались в стороны, пугливо тулясь к стенам.
Физкабинету не хватало места в двух обширных залах-хранилищах, замыкавших Северную, Южную и Центральную аудитории. Здесь с довоенных лет копилась масса хитроумных диковин, демонстрировавших на лекциях занятные явления вроде брэгговской дифракции света на объёмном ультразвуке в жидкости или прецессии намагниченного гироскопа в магнитном поле.
– Варечка! – трубно взревел Фурсов, врываясь в Южное хранилище.
Из рабочей комнаты выскочила перепуганная девица в больших очках и синем халате.
– Василий Степаныч, здрасьте…
– Варечка, организуй нам… где-то с литр жидкого азота и кювету под него.
– И несколько магнитов, – дополнил я.
– Да! – величественно кивнул декан.
– Сейчас, сейчас, Василий Степаныч…
Минуты не прошло, а Варечка уже неслась с термосом. Освободив мне стол, Фурсов переглянулся с Колмогоровым и выдохнул:
– Удивляйте, юноша!
Я выложил магниты так, чтобы их поля складывались, образуя «ложбинку». Развернув обёрточную бумагу, достал «таблетку» и осторожно наклонил термос. Морозящая струйка азота, лениво паря, пролилась в кювету. Хватит, пожалуй. Подцепив «таблетку» пинцетом, я окунул её в жидкий азот, настудил как следует – и выложил над магнитами. «Таблетка» зависла в воздухе.
Колмогоров звучно клацнул зубами, закрывая рот, и медленно, очень медленно поправил выбившуюся седую прядь.
– Ой, мамочки… – запричитала Варя.
– Эффект Мейснера… – прошептал Фурсов, глядя на подрагивающую «таблетку», словно околдованный.
– Чудо, – пробормотал Андрей Николаевич. – Обыкновенное научное чудо.
– К сожалению, – вздохнул я, – не всё так уж волшебно. Если по сверхпроводящей жиле из такого материала пропускать ток большой силы, то магнитное поле разрушает структуру проводника и сопротивление вырастает скачком…
Василий Степанович, слушая меня, всё шире расплывался в улыбке. Колмогоров откровенно хихикал, и даже Варечка прыснула в ладошку.
– Юноша-а, – ласково проговорил декан, – это всё пустяки, ничтожнейшие пустяки! Интересная инженерная задача, которую мы обязательно решим. Господи… – вздохнул он, хлопая себя по ляжкам, и вскричал тонким голоском: – Да вы хоть понимаете, что совершили открытие мирового уровня?!
– Понимаю, – уныло покивал я головой. – Как раз это и тревожит…
– Объясните, – прищурился Фурсов.
Я обречённо пожал плечами.
– Придётся теперь соответствовать…
Маститые учёные захохотали в голос. Варечка закатывалась от смеха, махая на меня рукой, и я, сдаваясь помаленьку, присоединился к общему веселью.
Тот же день, позднее утро
Москва, улица Большая Черкизовская
Покинув университет, я больше часа катался в метро, совершенно бездумно пересаживаясь, опускаясь или поднимаясь по лестницам-чудесницам. Я будто выключился на это время из реальной действительности – организм сам бросал пятаки, проскальзывая через турникеты, выбирал направление и занимал место. А я привыкал к новой реальности.