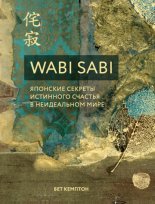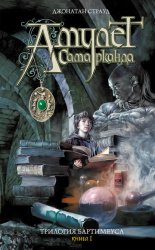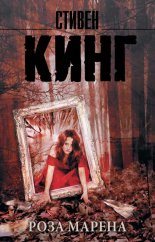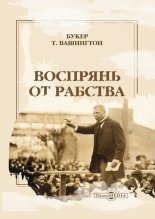Агата и археолог. Мемуары мужа Агаты Кристи Маллован Макс
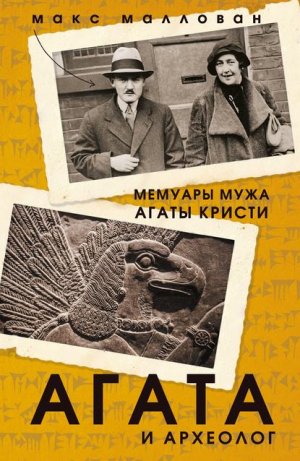
Мы уже говорили о том, что в Шагар-Базар иногда приходили богатые подношения из других населённых пунктов. Например, из города под названием Кир-Дахат по случаю религиозного праздника доставили ячмень для выпекания хлеба и изготовления лёгкого пива. В подготовке подношения приняли участие не меньше двух тысяч семисот семидесяти жителей города. Огромная масса «идолов с глазами» в Телль-Браке наводит на мысль, что в этом священном месте тоже имели место подобные подношения, и люди стекались сюда в больших количествах не только из самого Брака, но и из более отдалённых мест, чтобы принести жертву богу или богине (или обоим), почитавшимся далеко за пределами города. «Идолы с глазами», достаточно маленькие, чтобы их легко было носить с собой, несомненно, делались для того, чтобы каждый мог лично принести дар божествам храма. Каждая из сотен найденных нами фигурок, даже две совсем крошечные, легко помещалась в открытой ладони. Где-нибудь в Браке или неподалёку от него должна была существовать специальная мастерская, занимающаяся исключительно производством «идолов с глазами». Эти подношения ассоциируются у меня со свечками, которые ставит прихожанин римско-католической церкви — в общем, довольно близкая аналогия. Форма и внешний вид этих крошечных фигурок вызывают много вопросов и заставляют теряться в догадках. Кого должны были изображать такие идолы? Сначала мы решили, что они изображают божество, отвечающее за глаза. В этих местах ходит множество разных глазных заболеваний — офтальмия и другие подобные болезни. Вдруг святилище в Браке способствовало исцелению подверженных им людей? Может быть, но я не думаю, что это верный ответ. Вероятнее всего, глаза символизировали всевидящего бога, а изображать его с человеческим телом и лицом запрещалось. Подобные запреты часто встречаются в первобытном обществе.
Возможно, ключом к значению этих идолов может служить гравировка на печати той же эпохи, примерно 3000 года до н. э., найденной при раскопках городища Телль-Аграб на Дияле, притоке Тигра. На этой уникальной печати изображён характерный храм джемдет-насрского периода. По обе стороны от храма торчат два шеста, в текстах выступающие под названием «уригаллу», а в небе над ним мы видим стилизованное лицо, самым выдающимся элементом которого являются непропорционально большие глаза. Брови, нос и рот изображены очень условно. В небе рядом с лицом расположены розетки с восемью лепестками. Розетки явно имеют непосредственное отношение к храму: точно такие же элементы украшали фасады культовых сооружений в Браке и Уруке. Казалось, всевидящее божество управляет храмом с небес, и я думаю, именно это и имелось в виду.
Два идола отличаются от прочих тем, что их головы украшают короны. Судя по всему, они занимают высшую позицию в иерархии. Один из них показался мне особенно интересным, так как его корона отличалась замысловатой формой, и это был единственный случай, когда мне удалось найти близкую параллель, хотя и из гораздо более поздней эпохи. Похожую корону можно увидеть на касситском межевом камне, относящемся примерно к IX веку до н. э. Камень передал правитель приморских земель на юге Вавилонии некоему Гуль-Эрешу. На нём мы находим символы различных богов и храмов. Богов названо не менее десяти, поэтому мы не можем с уверенностью сказать, кому из них принадлежит корона, но четыре из них дважды упомянуты в тексте, а именно: Ану, Энлиль, Эа и Нинмах, Великая госпожа. Очень хочется считать, что украшенная перьями корона, изображённая на камне, имеет отношение к одному из них. Она нарисована стоящей на высоком пьедестале, который может символизировать как сам храм, так и подиум внутри него. Я склоняюсь к мысли, что корни этого изображения нужно искать в Браке.
Очень похожа на «идолов с глазами» другая группа фигурок, названная мной «идолами в очках». Тело у таких статуэток снова плоское, а над ним расположена пара петель с отверстиями. Как правило, отверстия пробиты насквозь, реже они представляют собой углубления, заполненные краской. Я полагаю, что эти фигурки древнее «идолов с глазами». Возможно, они относятся к самому древнему храму последовательности. Есть среди них один очаровательный идол из мыльного камня, изображённый стоящим на пьедестале, словно в храме. Передняя поверхность идола покрыта гравировкой в виде параллельных линий, а метки на пьедестале, несомненно, повторяют орнамент, подобный тому, что мы нашли на алтаре храма. Метки, как считал Андраи, изображают хижины из тростника, но я не вижу причин для такого предположения. В Эшмоловском музее есть интереснейший экспонат, найденный Хогартом в Северной Сирии: это печать из мыльного камня с изображением двух пьедесталов, на которых стоят идолы, увенчанные петлями. Часть статуэток занимает промежуточное положение между «идолами с глазами» и «идолами с петлями»: в них нет сквозных отверстий и петли представляют собой обычные круглые углубления, когда-то, вероятно, заполненные краской. Я думаю, это ранняя стадия развития «идолов с глазами». Также мы нашли фрагменты весьма крупных «идолов в очках» из терракоты. Не сомневаюсь, что это были фигуры, предназначенные для установки в храме. «Идолы в очках» имеют большую зону распространения: их находили в самом Уре, в Сузах на юге Ирана, в Сирии и Вавилонии.
Суммируя наши выводы, я повторю, что форму «идола с глазами» выбрали для подчёркивания всевидящей природы бога, а изображать само божественное лицо запрещалось. Среди фигурок мы, несомненно, видим как личные, так и семейные подношения. Некоторые варианты алебастровых идолов находили в районе Мараша, но они несравнимы с бракскими. Можно считать, они распространены на территории от Северной Сирии до Юго-Восточного Ирана.
За исключением «идолов с глазами», нашими самыми приятными находками стали многочисленные печати и амулеты. В них нашла отражение вся флора этого района и прилегающих гор. Нам встречались львы, медведи, домашние и дикие овцы, козы, обезьяны, зайцы, свиньи, лисицы, ежи, лягушки, утки и орлы, олени с ветвистыми рогами, скорпионы, кошки. Квадратные оттиски печатей украшали загадочные символы. Лучшие из найденных нами амулетов, объёмные животные, сделанные из разноцветных камней, были настоящими произведениями искусства. Роскошный вид и изящная лаконичная форма этих изделий из Междуречья позволяют поставить их в один ряд со знаменитым китайским нефритом. Это были настоящие шедевры в своём роде. Их создатели смогли со всей точностью передать энергию и естественную грацию своих живых моделей. Древние мастера, производившие эти миниатюрные статуэтки, постоянно наблюдали домашних и диких животных в привычной для них среде обитания и обладали прекрасным художественным чутьём, помогавшим им отбросить всё неважное. Форма создавалась за счёт умелого сочетания контрастирующих плоскостей, и в этой простой стилизации были и ритм, и пластика. Особенно интересны изображения обезьян, в том числе павианов, а именно — собакоголовых бабуинов. Они, единственные из всего представленного спектра животных, не водились в данной части мира, но, возможно, были известны в Малой Азии.
Судя по всему, львы тогда встречались в этих местах: об этом свидетельствуют остеологические останки вида Panthera leo, о которых я упоминал, рассказывая о раскопках дворца Нарам-Сина. В том, что в более древние эпохи, ещё до 3000 года до н. э., львы водились и в Вавилонии, и в северных районах, мы можем не сомневаться: немецкие археологи обнаружили скелет молодого льва в Уруке, в закладном коробе джемдет-насрского периода.
Амулеты другого часто встречавшегося типа представляли собой овально-изогнутые объекты, изготовленные в основном из мыльного камня. С плоской стороны на них была нанесена гравировка — письмена или изображения рогатых животных. У меня возникло предположение, что такие амулеты использовались для гаданий. На одном квадратном амулете были изображены два объекта, расположенные валетом. Они напоминали пару человеческих ног, разделённых змеёй. Позже подобное изображение нашёл Ламберг-Карловски на юге Ирана при раскопках известного городища Тепе-Яхья в остане Керман, где были обнаружены таблички периода Урук — Джемдет-Наср. Эта находка указывает на связь, существовавшую между Браком и югом Центрального Ирана до 3000 года до н. э. Симпатичную круглую печать небольшого размера украшали по плоской стороне изображения пяти самок оленя, припавших к земле. Судя по рисунку, мастер обладал настоящим художественным талантом и чувством композиции. Другой диковинной находкой стала печать и её отпечаток, изображавшие вертикальную линию, обрывавшуюся четырьмя закрученными концами. По всей видимости, это был очень важный магический символ. Среди отпечатков того же периода есть один, на котором мы видим человека, сидящего перед такой же магической спиралью. Над человеком расположена антилопа и розетка с семью лепестками. Я бы не удивился, если бы оказалось, что подобные магические символы устанавливались в храмах для почитания.
Вернёмся к амулетам. Мы нашли множество изображений медведя: эти животные часто встречались тогда в горах и вообще водились в этих местах в большом количестве. Сегодня их ещё можно найти в Курдистане. Мы также увидели много поделок из кости — утки, львы и великолепная фигурка барана. Судя по расположению рогов, этот амулет изображал дикую разновидность армянского барана. Одомашненный вариант нам тоже встречался. Сейчас я склоняюсь к мнению, что часть поделок была вырезана из бивней кабана, хотя тогда такая мысль не пришла мне в голову. Я не буду перечислять здесь все замечательные находки. Заинтересовавшийся читатель может обратиться к нашему журналу «Ирак» (Iraq, IX, 1947). Многочисленные иллюстрации полностью вознаградят его за усилия, потраченные на поиск номера.
Может показаться удивительным, что в храме хранилось столько амулетов. Я думаю, разгадка достаточно проста. Денег в то время ещё не было, а от человека, пришедшего в храм и желающего обратиться к Богу с просьбой, требовалось поднести какой-нибудь дар. Теперь в церкви можно оставить денежное пожертвование, а тогда самым ценным подношением были поделки из полудрагоценных камней. Ими постепенно заполнялись сокровищницы храма. Такие поделки, как и «идолы с глазами», являлись личными подношениями прихожан. Примечательно, что амулеты в форме животных, найденные в Браке, очень похожи на такие же поделки из Эреха и других шумерских городов в низовьях Евфрата. Всё же, хотя до сих пор самыми искусными фигурками животных считались поделки мастеров из Урука, они не превосходят по качеству амулеты, найденные в Браке, северной столице.
Многие артефакты из Брака, включая архитектурные сооружения, имеют столько общего с аналогичными объектами из Урука, что возникает вопрос, не подвергались ли оба города какому-нибудь общему влиянию и не чувствовалась ли власть Вавилонии так далеко на севере, в самой долине Хабура. Это чистой воды спекуляция, но архитектурное, художественное и бытовое сходство между двумя городами слишком велико, чтобы объяснить его всего лишь одинаковым развитием искусства. Подобное сходство предполагает наличие между этими великими городами — крупным Уруком и меньшим по размеру Браком, теснейших торговых и личных связей.
Важное место среди наших многочисленных замечательных находок, сделанных в глубоких слоях Храма глаза, занимает великолепная алебастровая голова около семнадцати сантиметров, или почти семи дюймов, в высоту. Скорее всего, она относится к периоду Серого храма. Эта необычная скульптура с большими глазами, условно обозначенными ушами, крупным носом и плотно сжатыми губами была облачена в усечённой формы восточный головной убор наподобие фески. Вероятно, феска держалась на голове за счёт двух отверстий, проделанных по бокам. Глубокий и широкий паз, расположенный вдоль всей задней части скульптуры, говорит о том, что когда-то голова крепилась к дереву. Возможно, скульптура имела деревянное туловище, покрытое металлическими пластинами. Голова удостоилась величайшей похвалы ведущего немецкого археолога, профессора Антона Моортгата.
Мы должны радоваться столь высокой оценке со стороны археолога, который является крупнейшим авторитетом Германии в области восточного искусства и архитектуры. Труд профессора Моортгата, вышедший под названием «Искусство древней Месопотамии», изобилует смелыми и вдохновляющими идеями. Я считаю, что в нашей удивительной голове, в гордом одиночестве стоящей у истоков сирийской скульптуры, смешались абстракционизм и попытка достичь сходства с натурой — её выдаёт округлость лица и полнота шеи. С другой стороны, непропорционально большие глаза, огромный нос, переходящий в брови, полные губы и уши, состоящие каждое из пары концентрических овалов, отражают набор формальных приёмов, принятых у древних мастеров, создававших предметы культа. Водружённая на деревянное туловище, предположительно покрытое листами меди, голова, видимо, приковывала к себе взгляды посетителей храма и была главным объектом почитания в отведённом ей святилище. Мы нашли ещё три подобных головы, поменьше размером.
В других районах Сирии скульптуры этого периода встречаются крайне редко, но Харальду Ингхольту посчастливилось найти исключительно интересную голову при раскопках Хамы (запад Сирии), городища в долине реки Оронт («Sept Campagne de Fouilles Hama en Syrie»[64]). Скорее всего, её создали примерно в то же время, что и голову из Брака. В таком случае, подобный уровень скульптуры мог иметь в то время широкое распространение.
Голову из Хамы высекли в натуральную величину из известняка. Когда-то её покрывал слой крашеного гипса (в некоторых местах сохранились следы красной и чёрной краски). Голову увенчивает высокий полос[65]. У неё крупный нос, небольшой узкий рот и углубления на месте глаз. Скульпторы мучились в то время, стараясь подобрать нужное выражение глаз. Я почти не сомневаюсь, что эта крупная и довольно замысловатая голова из Хамы относится примерно к тому же периоду, что и головы из храма в Браке. В слое, где её нашли, также обнаружили «идола в очках» и грубо сделанную чашу со скошенными краями, типичную для периода Урук — Джемдет-Насра. Такие похожие находки на западе и востоке Сирии соответственно показывают, что нам предстоит отыскать ещё много примеров ранней монументальной скульптуры в Западной Азии.
Ниже самого глубокого Храма глаза шли еще более древние доисторические слои. Среди глиняных черепков попадались неплохие образцы горшков цвета сургуча с ободками, явно имитирующими металл. Горшки относились к ранним слоям урукского периода. Подобные им можно увидеть в самом Уруке, в Уре и в Сузах в Иране. Найденные черепки указывают на богатый потенциал глубоких доисторических слоёв, которые ещё предстоит раскопать.
Пока точно неизвестно, какая именно часть убейдского периода, или 5-го тысячелетия до н. э., представлена в Браке, но мы знаем, что убейдские черепки находили на других окрестных теллях. Предыдущий же период, халафский, особенно поздний его этап, ознаменовавшийся производством многоцветной и раскрашенной белым керамики, оставил здесь многочисленные следы. Перед самым завершением раскопок мы затронули слой, относящийся практически к 5000 году до н. э. В этих местах ещё предстоит совершить много находок, и не только под Храмом глаза, но также в недрах высокого хлма на противоположной стороне Брака. Сорока или даже пятидесяти лет раскопок вряд ли хватит, чтобы добраться до его основания. Эту задачу я завещаю будущим поколениям.
Глава 9. Раскопки в долине Балиха
Мы решили свернуть раскопки в Телль-Браке раньше времени из-за нарастающего давления и вымогательств со стороны шейхов племени Шаммар. Шейхи явно подстрекали наших рабочих к восстанию, и мы подумали, что лучше не будем дожидаться неприятностей и заблаговременно покинем телль. Мы знали, что время — деньги, и не собирались рисковать. Закончив работу в Храмах глаза, экспедиция приступила к сборам.
Уже перед самым отъездом из посёлка мы пригласили к себе нашего старого знакомого, курдского шейха Ахмада, и вручили ему прощальный подарок. Конечно, самым главным подарком был дом из сырцового кирпича, который мы построили на земле шейха, но также я обещал подарить ему лошадь. Увы, почему-то все мои подарки этому достойному человеку оказывались неудачными. У лошади была белая отметина над копытом, и, когда мы обменивались последними приветствиями, шейх сказал: «Белая отметина… смерть… поцелуй смерти». На этом мы простились навсегда.
Покинув Брак, мы проехали более ста миль на запад и переместились в долину Балиха, болотистую и труднодоступную местность, но настоящий рай для археолога. Множества и множества артефактов разных периодов таятся здесь под землёй в ожидании исследователей. Некоторые из них совершенно новые, для некоторых можно проследить связь с другими объектами, историческими и доисторическими, найденными на востоке или на западе, и именно это придаёт им дополнительный интерес.
В долине Балиха мы устроили экспедиционный штаб в Телль-Абьяде, деревне, расположенной в верхней части долины, возле сирийско-турецкой границы. В ясный день вдали можно разглядеть величественный Харран, где довелось поработать многим археологам. Последним из них был Сетон Ллойд. Как часто я мечтал перебраться на другую сторону границы и устроить там раскопки.
Телль-Абьяд знаменит тем, что в нескольких километрах от него находится источник, известный как «Родник суженых». Именно здесь, по общепринятому мнению, берёт своё начало Балих. Родник расположен в самых верховьях реки, и хотя некоторые утверждают, что дальше на север, в Турции, есть и другие источники, летом они превращаются в тонкие струйки, и я думаю, «Родник суженых» может по праву считаться истоком Балиха. Предание гласит, что именно здесь слуга Авраама встретил Ревекку, и здесь же познакомились Иаков и Рахиль. Сама же река петляет, прокладывая свой путь по болотистой местности, и, должно быть, её русло неоднократно меняло форму. Длина основной дороги, ведущей по западному берегу, составляет около шестидесяти пяти миль. Она идёт до слияния Балиха с Евфратом, то есть от Телль-Абьяда до Ракки, чьё название переводится как «трясина». Река, без сомнений, никогда не была судоходной, и проехать вдоль неё можно было только по берегу. Благодаря обилию воды, земля в этих местах отличалась плодородием, но болотистая почва не способствовала появлению крупных городов. Хотя среди здешних археологических находок встречаются объекты, типичные для запада Сирии и для долины Оронта, очевидно, что в целом Балих на протяжении всей своей истории находился под влиянием Месопотамии; он был в основном связан с востоком и в меньшей степени — с севером. Ниже я коротко расскажу о пяти обследованных нами поселениях.
Наше знакомство с этой относительно неисследованной территорией было интересным, но отнюдь не безболезненным. Небольшой дом, где мы поселились, отличался комфортной обстановкой, но, увы, стоял на болоте. Я просыпался по утрам совершенно разбитый ревматизмом, и порой мне с трудом удавалось выбраться из походной кровати. В самой деревне, судя по всему, царила полная антисанитария. Вдоль главной улицы — или вдоль того, что можно было с натяжкой назвать главной улицей, — проходила основная сточная канава, и мы часто видели, как хозяйки моют в ней посуду. Однажды я попытался воззвать к их разуму, и они признались, что по деревне действительно постоянно бродят болезни, но как-то удаётся выживать. В общем, удалось и нам.
Нам очень повезло иметь доброго и покладистого помощника — повара Димитрия, сирийца родом из Антиохии или её окрестностей. Кормил он нас превосходно. Этого прекрасного человека донимали домашние проблемы. Следуя обычаю левирата, он содержал семью своего покойного брата, оставившего после себя жену и добрую дюжину детей. Другим ярким персонажем среди прислуги был наш старший бой, Субри. Субри, христианин, когда-то жил в Турции, но вынужденно её покинул, когда к власти пришёл Мустафа Кемаль. Человек дикий и необузданный, он часто спал с ножом в зубах. Обученный полковником Бёрном, Субри показал себя образцовым камердинером, дворецким и слугой, и я с большим удовольствием взял бы его в Англию. В Телль-Абьяде он как-то раз нарвался на неприятности, потому что склонил к побегу лучшую проститутку местного борделя и навлёк на себя гнев его хозяйки, по совместительству благочестивой христианки. Насколько я понял, из-за страстной влюблённости Субри хозяйка борделя лишилась своей самой ценной девушки, и мне пришлось пережить несколько неловких моментов, когда она явилась ко мне жаловаться на непристойное поведение моего слуги и требовать компенсацию. Агата великолепно описала наш разговор в романе «Расскажи мне, как живёшь», и я советую читателям обратиться к этой книге. Эта встреча потребовала от меня всей возможной находчивости, так как я не имел опыта в такого рода делах и не знал, как следует себя вести в подобной ситуации. В конце концов мне пришлось признать правоту хозяйки борделя. Я решил удержать необходимую сумму из зарплаты Субри и надеяться, что это отвратит его от дальнейшего посещения подобных заведений. Впрочем, больше всего мне запомнилась благочестивая набожность этой добродетельной христианки и невероятное достоинство, с которым она держала себя во время нашей беседы. Я неоднократно возвращался мыслями к данному эпизоду.
В Телль-Абьяде к нам присоединился мой добрый друг Джон Роуз. С ним мы работали в Уре и Арпачии, и я рекомендую читателю ознакомиться с его превосходными планами и зарисовками различных исследованных нами холмов. Джону приходилось работать в высоком темпе, но он мастерски зарисовал все поселения, которые мы успели посетить за шесть недель экспедиции. Его рисунки — в высшей степени информативные, понятные и выполненные в профессиональной манере — могут служить образцом подобной работы. Территория, ограниченная с запада Балихом, имеет форму параллелограмма, заключённого между двумя реками, Балихом и Евфратом. В северном её конце находится Харран, в южном — Ракка. Эта земля была известна римлянам как провинция Осроена, и соседствовала она с другой провинцией, Адиабеной, что значит «непроходимая» — земля, через которую нет пути. Действительно, пройти сквозь эти жуткие топи было непросто. Тем не менее эти земли привлекали выходцев из более развитых районов — вероятно, дикарей, не способных найти пристанище в более цивилизованных столичных городах. Это была исключительно богатая территория. Здесь были представлены практически все периоды, найденные нами восточнее, на Хабуре, а кроме того — богатейшее наследие эллинистических, римских и византийских руин, настоящая находка для медиевиста. Некоторые телли состояли исключительно из средневековых слоёв и при этом достигали впечатляющей высоты. Если бы в моём распоряжении имелись ещё две или три дополнительные жизни, я бы непременно их исследовал. Когда я думаю о том, сколько всего интересного для историка и археолога таится под землёй и над землёй, я замираю, заворожённый, и ясно сознаю, как ничтожен наш вклад в копилку знаний о прошлом по сравнению с огромным объёмом данных, которые ещё предстоит найти.
Вряд ли здесь уместно приводить подробные описания пяти исследованных нами теллей, поэтому я постараюсь рассказать о каждом в нескольких словах.
Первым был Телль-Асвад, лежащий примерно в пятнадцати километрах к югу от Телль-Абьяда на одном из рукавов Балиха. Телль-Асвад очень высок, он поднимается над уровнем равнины больше чем на двадцать метров, а площадь его основания около тридцати акров. Это невероятно древний холм: здесь мы нашли множество кремнёвых наконечников для стрел эпохи неолита, а также многочисленные следы халафской культуры и более ранние последовательности. На самой вершине этого замечательного телля нам повезло обнаружить руины небольшого доисторического храма. Храм состоял из длинной комнаты, судя по всему, его основного помещения, и смежной комнаты меньшего размера, на пороге которой лежал череп быка, магическая жертва в дверном проёме. Когда-то храм защищала плоская крыша из тростника и глины, утяжелённая гравием. Внутри и снаружи храма мы нашли кости животных, несомненно, одомашненных: свиней, овец, коз, быков и некрупных лошадей. Судя по всему, древние обитатели долины Балиха занимались различными видами сельского хозяйства, в том числе животноводством. Также они, несомненно, выращивали пшеницу и ячмень: многочисленные образцы этих культур нашли при раскопках другого телля, Мефеша, и о нём я расскажу ниже. Я предположил, что постройка на вершине Телль-Асвада относится к халафскому периоду, но не исключена её принадлежность и более поздней эпохе: не уверен, что найденные в том слое черепки относились к тому же времени. В любом случае внушительные толщи халафских руин обнаружили в других холмах. Если я не ошибся с датировкой постройки, то Телль-Асвад — действительно очень древний холм, и ниже лежит длинная последовательность слоёв халафского периода. Если же храм на самом деле относится к более позднему периоду, чем я предположил, он всё равно представляет немалый интерес для археолога, изучающего доисторическую эпоху.
Осмотрев Асвад, в основном состоявший из руин раннего халафского периода, мы решили найти холм, который мог бы дать нам представление о более поздних последовательностях, и в итоге остановились на Телль-Мефеше, что по-арабски значит «разлившийся». Несомненно, поселение получило такое название, потому что было расположено рядом с вади[66]. Теперь вади большую часть года представляет собой высохшее русло и только во время зимних дождей заполняется водой. Вполне возможно, что когда в поселении ещё жили люди, последними его жителями были представители убейдской культуры. Здесь текла довольно важная река. Говорят, в северо-западном направлении русло можно проследить до самого арабского Пунара, откуда оно уходит на юго-восток, в направлении Балиха. Телль-Мефеше расположен примерно в двадцати пяти милях к югу от Телль-Абьяда и в семи с половиной милях к западу от реки Балих, недалеко от дороги, ведущей в Ракку. Высота холма составляет пятнадцать метров, а площадь — около восьми с половиной акров, довольно много для небольшого провинциального поселения. И конечно, Телль-Мефеше, как и прочие телли, хранит в себе гораздо больше данных, чем нам удалось извлечь за пять дней работы — максимальное время, которое мы могли здесь провести.
Мысленно возвращаясь к этим дням, я понимаю, как просто и беззаботно мы тогда жили. Нам было достаточно доказать, что мы профессиональные археологи, и запросить разрешение на раскопки в любом понравившемся районе. Никто нас не задерживал и не чинил препятствий, только просили указать поселения, где мы хотим работать, и по завершении раскопок представить письменный отчёт. Рабочие находили наши поездки интересными и бодрящими, и порой шла настоящая борьба за место в небольшом грузовике, который каждое утро отправлялся из Телль-Абьяда к тому или иному поселению в долине, иногда на значительные расстояния. Их энтузиазм слегка угасал, если шёл дождь и когда приходилось отправляться в дорогу на рассвете, по темноте и холоду. Особенно тяжело приходилось беднягам в декабре. Цель была ещё далека, а они уже напоминали партию замороженных уток. Впрочем, работа кайлом и лопатой быстро их согревала, и в итоге они получали не меньшее удовольствие от этих коротких поездок, чем мы сами. За пять дней, посвящённых осмотру Мефеша, мы не имели возможности раскопать какое-нибудь здание целиком, но нам удалось найти последовательность из четырёх небольших комнат со стенами из сырцового кирпича. Кирпичи были гораздо крупнее, чем те, что мы находим в постройках халафского периода. Уже по одной этой причине обычно не составляло проблемы определить, к какому из двух соседних периодов относится та или иная кладка. Во внутреннем дворе по соседству с комнатами мы нашли несколько круглых резервуаров для зерна, а в них — солидные запасы ячменя. В одной из комнат сохранились обломки упавшей крыши, сложенной из овальных в сечении брусьев из тополя. Раз брусья когда-то доставали от одной стены комнаты до другой, они должны были иметь не менее двух с половиной метров в длину. Сохранились и следы тростника, которыми была покрыта деревянная основа крыши. По всей видимости, тополя, тростник и ивы во множестве росли в долине Балиха в эту эпоху. И дома, и зёрна ячменя сохранили следы пожара. Наше наблюдение подтвердила мисс Д. М. Э. Бейт: она исследовала образцы останков животных и обнаружила, что они также подверглись воздействию огня. Так как вся керамика, обнаруженная в этих слоях, относилась к убейдскому периоду, можно сделать вывод: убейдское поселение, пришедшее здесь на смену халафской культуре, погибло в огне и прекратило своё существование. Мы не знаем, что за враг его уничтожил. Среди обнаруженных нами останков животных были кости крупного козла с закрученным спиралью рогом, крупного быка и небольшой лошади. Керамика, найденная в доме, нас особенно заинтересовала: она несомненно принадлежала к убейдскому периоду, но обладала некоторыми чертами, характерными для халафа. Очевидно, в области керамики на убейдских жителей Мефеша оказали значительное влияние их предшественники. Формой изделий, использованием чёрной краски и традицией закрашивать кольцо вокруг основания сосуда расписная керамика из Мефеша напоминала образцы убейдского периода, найденные в Арпачии. Мы обнаружили убейдский горшок, выполненный в халафской манере, и халафский черепок, украшенный букраниумом и пунктиром. Мы можем быть абсолютно уверены, что телль хранит руины обеих культур. Исследователя, занимающегося этими периодами, здесь ждёт настоящий маленький рай. Холм, кроме всего прочего, скрывает многочисленные образцы животных и растительных останков, и это позволило бы получить ценнейшие сведения об экологии региона. Я очень жалею, что, когда мы проводили раскопки в этих местах, ещё не изобрели радиоуглеродный метод датирования: органические останки попадались нам в избытке. Теперь будущие исследователи знают, где искать материал для анализа.
Напоследок, перед тем как распрощаться с Мефешем, я хотел бы рассказать об одной интересной находке. Это фрагмент фигурки матери-богини из высушенной на солнце глины, найденный в руинах дома. Кажется, что на богине невысокий головной убор, хотя не исключено, что фигурка наделена рогатой головой и человеческим телом. Я склоняюсь ко второй интерпретации. Общей идеей статуэтка напоминает богинь-матерей в высоких головных уборах и с головами животных, найденных в Уре, в убейдских слоях раскопа со следами потопа. Это интересный пример смешения форм, характерного для доисторических изображений богов и богинь.
На склонах Телль-Шувейха, доисторического поселения, расположенного неподалёку от Мефеша, нам попался восхитительный образец самого раннего типа халафской керамики — крупная чаша довольно грубой формы, украшенная тремя горизонтальными каймами из образованных штрихами ромбов. Одна из чаш убейдского периода была оформлена изображениями длинношеих птиц, склонивших головы к земле. Скорее всего, это были дрофы. Наверное, в то время, как и сейчас, они часто встречались в этих местах. Вот и всё, что я хотел рассказать о Мефеше. Он прекрасно иллюстрирует богатый археологический потенциал этой части долины Балиха. Большой интерес представляют ранние доисторические последовательности, скрытые в недрах телля, а нападение, произошедшее в конце убейдского периода, сохранило для потомков многочисленные продукты ремёсел этой эпохи: по всей видимости, они не представляли ценности для захватчиков.
Третьим холмом, куда мы отправились, стал Телль-Сахлан, расположенный в крайне болотистой местности на западном берегу Нахр Аль-Туркмана, притока Балиха, примерно в полумиле вверх по течению от Телль-Асвада, который, в свою очередь, как я уже говорил, находится недалеко от Телль-Абьяда. Доступ к Телль-Сахлану был затруднён, и мы провели здесь всего два или три дня. Рабочим часто приходилось добираться до холма вплавь, и мы тоже попадали на раскоп с большим трудом. Сахлан стал самым массивным из всех холмов, где мы проводили разведку. Его высота составляет не менее сорока метров, а площадь основания — около двадцати шести акров. По моим оценкам, огромная толща культурных слоёв, сформировавшая телль, покрывает в общей сложности более шести тысяч лет истории. Исследователь любой эпохи найдёт здесь материал для изучения, так как поселение появилось в ранний доисторический период и просуществовало до нашей эры. Наверное, самой важной находкой стал осколок клинописной таблички, к сожалению, нечитаемый, который я подобрал на склоне холма. Можно предположить, что где-нибудь в глубинных слоях обнаружатся и другие письменные источники.
Верхние слои Сахлана состояли из римских, римско-византийских и исламских руин. Их общая толщина достигала десяти или пятнадцати метров. На противоположном от реки склоне, на восьмиметровой горизонтали, мы обнажили участок стены, окружавшей холм. Стена была сложена из грубых гипсовых кирпичей и имела не менее четырёх метров в толщину. В кладке мы нашли черепок глиняной бутылки с красной каймой, идущей под горлышком, — очевидно, фрагмент материала, которым заполнялось пространство между кирпичами. Так как керамический черепок принадлежал хабурскому периоду, мы можем утверждать, что стена не могла быть построена раньше Первой вавилонской династии. Её можно датировать приблизительно 1800 годом до н. э.
Суммируя сведения, полученные при изучении Телль-Сахлана, можно сказать, что это телль с очень долгой историей, труднодоступный, так как находится в болотистой местности, и что в течение какого-то времени во 2-м тысячелетии до н. э. городище было обнесено массивной стеной, обеспечивающей надёжную защиту. Мы не знаем, когда именно здесь образовалось первое поселение, но можно предположить, что это случилось в период, последовавший за временем последнего, халафского поселения в Телль-Асваде. Вероятно, люди стали селиться в районе Сахлана, когда расположенный по соседству Телль-Асвад стал слишком высоким и неудобным для жизни. Возможно также, что под конец его полностью окружило болото. Возникает вопрос: почему же в таком случае люди продолжали жить на Сахлане, когда он вырос на такую высоту? Возможно, дело в том, что, когда здесь прошла граница Римской империи, огромный заброшенный холм оказался подходящим местом для постройки небольшого форта. Позже турки по той же причине устраивали на древних теллях полицейские посты. Так повторяет себя история.
Четвёртый из раскопанных нами холмов назывался Телль-Джидль — если я не ошибаюсь, это слово переводится как «корни». Он очень удобно располагался, всего в двух с половиной милях к югу от Айн Аль-Аруса, в верховьях Балиха, на западном берегу реки. Мне редко приходилось видеть столь красивые и столь живописно расположенные телли. Это был небольшой аккуратный холм с крутыми склонами. Он поднимался на пятнадцать метров в высоту и занимал площадь около четырёх с половиной акров. С вершины холма мы могли заглянуть прямо в прозрачно-голубую воду реки, кишевшую рыбой и такую чистую, что видно всё до самого дна. По берегам росли редкие ивы, и единственным признаком присутствия в этих местах человека был маленький домик одинокого мельника, который молол ячмень и пшеницу для жителей окрестных деревень. Я всей душой надеялся, что холм окажется удачным. Тогда мы могли бы спокойно обосноваться здесь и несколько лет работать в этом очаровательном месте. Увы, нам не повезло. Мы получили много новых данных в результате раскопок, но с точки зрения архитектуры телль меня разочаровал. Некоторые поселения были заброшены и занесены песком, но последовательность представляла для нас интерес, а один из слоёв, пятый сверху, содержал любопытные руины укреплений саргонидского периода, которые можно датировать приблизительно 2400 годом до н. э.
Верхний метр холма составляли римско-византийские руины примерно 300–600 годов н. э. Здания этого слоя были сложены из сырцовых и из грубых гипсовых кирпичей. Судя по всему, где-то поблизости имелось обширное месторождение не очень качественного гипса, и поселенцы разрабатывали его, чтобы добыть строительный материал. В этом слое мы обнаружили ряд захоронений в сосудах для кремации, содержавших кости детей, несколько осколков глиняных ламп и какое-то количество неизвестных бронзовых монет. Изображение единственного глиняного горшка, найденного нами целым, я включил в свой отчёт, опубликованный в журнале «Ирак» (Iraq, VIII, 1946).
Два следующих слоя, если идти сверху вниз, получили названия «Джидль-2» и «Джидль-3» соответственно. «Джидль-2», нижняя граница которого проходила как минимум в тринадцати с половиной метрах над уровнем реки, можно отнести к периоду между 1450 и 1350 годами до н. э. Этот слой отражает заключительный этап существования процветающего поселения. Здесь мы нашли черепки расписной керамики с белым орнаментом, нанесённым на красный и чёрный фон в манере, характерной для хурритов. Поселение умерло своей смертью вместе с окончанием хурритского периода. Хурриты, занятый земледелием северный народ, также неплохо воевали. Они объединились под властью индоарийской династии Митанни и процветали в этой части Месопотамии в течение нескольких веков, вплоть до 1400 года до н. э. Некоторое внешнее давление, вероятно с востока, свидетельствовало о нарастающей мощи среднеассирийского царства, которое понемногу начинало вытеснять здешних поселенцев, но, вероятно, ассирийцы не хотели тратить силы на эти отдалённые и потенциально ненадёжные районы.
Самое процветающее поселение мы находим ниже, в слое «Джидль-3». Здесь мы также обнаружили образцы характерной хурритской керамики. Это поселение интересно тем, что в какой-то момент оно было полностью уничтожено огнём и разграблено захватчиками — об этом свидетельствовали обильные следы золы поверх всего слоя. Аналогичная судьба постигла Телль-Хаммам, поселение того же периода на противоположном берегу реки, в полумиле вверх по течению. Относительное расположение Телль-Джидля, Телль-Хаммама и протекающего между ними Балиха наглядно отражено на плане, составленном Джоном Роузом. Нам неизвестно, когда точно и почему разорили «Джидль-3», но не исключено, что причиной этого события стало давление на династию Митанни со стороны Сирии или какой-то другой части Малой Азии. Опираясь на археологические данные, можно предположить, что поселение прекратило своё существование в середине XV века до н. э. Большая часть слоя «Джидль-3» занесена песком, следовательно, это место оставалось заброшенным в течение нескольких лет. Затем люди вернулись сюда и, как мы видели, безуспешно пытались продолжить историю старого поселения. Вероятно, перерыв между двумя эпохами составил немногим более десяти лет, о чём свидетельствует и неразрывность развития керамики. Здания слоя «Джидль-2» построены некачественно, и всё здесь несёт на себе следы вырождения и упадка. Вопрос о датировке нижней границы слоя «Джидль-3» представляет собой археологическую проблему, и я не стану утомлять читателя излишними деталями. По всей видимости, поселение образовалось не ранее 1700 года до н. э. Здесь мы обнаружили несколько интересных объектов. Терракотовая фигурка богини-матери, кормящей ребёнка, и цилиндрическая печать кипрского типа указывают на широкие торговые связи, в том числе с отдалёнными районами.
Ниже слоя «Джидль-3», примерно в одиннадцати с половиной метрах от вершины холма, мы наткнулись на основания стен слоя «Джидль-4». Пол храма располагался на высоте двенадцати метров над уровнем реки. От самого храма остались только три стены продолговатой комнаты, сложенные из сырцового кирпича, и расположенный вдоль длинной стены алтарь из того же материала, возвышающийся на три фута над полом. На прихрамовой территории мы нашли любопытную расписную фигурку, изображавшую богиню-мать Иштар. Разрисованная красной краской фигурка была сделана ненамного позже Третьей династии Ура, я бы сказал — между 2100 и 2000 годами до н. э., в период, когда статуэтки, изготовлявшиеся в Месопотамии, отличались натуралистичностью. В том же слое мы обнаружили некоторое количество черепков хабурской керамики и образцы некрашеных сосудов, подобные найденным в слое периода Третьей династии Ура в самом Уре. В качестве материала для строительства по-прежнему часто используются грубо отёсанные гипсовые глыбы, и этот факт снова указывает на то, что где-то поблизости было месторождение. Некоторые данные раскопок заставляют предположить, что более ранняя Третья династия Ура пересеклась здесь с более поздней Первой вавилонской династией, но я не стану вдаваться в излишние подробности в рамках этой книги. Скорее всего, между слоями «Джидль-3» и «Джидль-4» существовал перерыв длиной около ста пятидесяти лет, и я бы предварительно отнёс это четвёртое по счёту поселение к периоду между 2100 и 1800 годами до н. э.
Самым интересным слоем поселения оказался «Джидль-5». Фундаменты здесь не лежали на одном уровне, а повторяли рельеф холма. Постройки располагались внутри овального контура мощной городской стены, которая плавно поднималась по мере удаления от воды. Нижняя точка стены располагалась напротив родника, на восточном склоне холма, и пока стена добиралась до противоположного, западного склона, откуда открывался вид на Балих, она успевала подняться как минимум на четыре метра. Это трёхсотпятидесятиметровое кольцо прочной кладки, имевшее на всём протяжении толщину не меньше метра, служило надёжной защитой от нападений. Любому врагу, пожелавшему захватить город, пришлось бы ломать стену или переправляться через реку — естественное препятствие, затруднявшее подступ к Телль-Джидлю с севера и с востока. По качеству строительства «Джидль-5» превосходил все прочие слои телля. Стены построек покрывали побелка и цементная штукатурка, кирпичи по размеру напоминали те, что использовались в Браке в саргонидский период. Некоторые секции городской стены были усилены грубыми гипсовыми кирпичами, а с восточной стороны встречались целые участки кладки, полностью состоявшие из гипса. На горизонтали в десять с половиной метров мы обнаружили каменную мостовую.
Создаётся впечатление, что главные городские ворота в этот период располагались с южной стороны холма. Вероятно, на этом участке стена была полностью сложена из камня, а по обе стороны ворот располагались сторожевые башни, которые разрушили при переустройстве города в следующий исторический период. Возможно, через болота, подступавшие практически к городской стене, в то время вела насыпная дорога, начинавшаяся у главных ворот.
Судя по найденным черепкам, городская стена существовала в период правления аккадской династии, возможно, во время царствования Римуша или Нарам-Сина, построившего дворец в Браке и закрепившего тем самым завоевания Саргона, основателя династии, о чём я уже рассказывал в главе, посвящённой Браку. Если вспомнить, какое обширное строительство происходило в Браке под властью саргонидов, то совершенно естественно, что мы находим мощные защитные сооружения этого периода на берегах Балиха. Их строили, чтобы ещё больше укрепить линии сообщения с Малой Азией.
Возле стены с внутренней стороны в юго-западной четверти холма мы наткнулись на остатки разрытой могилы саргонидского периода. В могиле лежало ожерелье, составленное из фаянсовых амулетов в форме уток и бусин-колечек из сердолика. Похожие украшения попадались нам в слоях саргонидского периода в Шагар-Базаре, в долине Хабура. Мощной овальной стене, окружавшей поселение «Джидль-5», вероятно, предшествовала последовательность городских стен Раннединастического периода, о чём свидетельствуют типичные для более древних эпох плоско-выпуклые кирпичи, напоминающие формой диванные подушки. Исходя из полученных данных, можно предположить, что поселение «Джидль-5» существовало большую часть аккадского периода, приблизительно с 2400 по 2200 год до н. э., и пришло в упадок в смутные времена, когда гутии вторглись в Месопотамию. Это вторжение отразилось и на Сирии. Сильное и централизированное управление, существовавшее на протяжении двух столетий в аккадский период, ослабло, и здесь начались беспорядки.
В слоях с шестого по восьмой мы не нашли ничего древнее артефактов периода Урука. Из этого можно сделать вывод, что первое поселение в Джидле было основано вскоре после того, как последние жители покинули Телль-Мефеш, где мы не нашли никаких следов пребывания человека позднее убейдского периода. Первые поселенцы предположительно появились в Джидле в последней четверти четвёртого тысячелетия до н. э., в раннеисторический период.
Последним теллем, который мы посетили, стал Телль-Хаммам. Крутая вершина этого небольшого холма, имевшего около трёх акров в основании, поднималась над равниной на высоту одиннадцати метров, а под ней одна за другой располагались все основные последовательности, обнаруженные нами в других местах. Первое поселение было основано в халафский период, а возможно, и раньше, в эпоху неолита, потому что в соответствующих слоях встречались искусно сделанные кремнёвые орудия, наконечники копий и стрел и другие подобные объекты. Кроме этого, на склонах холма и в его глубинных слоях мы собрали некоторое количество изделий из обсидиана, и среди них присутствовал один клинок, сделанный из его зеленоватой, ванской разновидности, происходящей из Малой Азии.
Представление о расположении Телль-Хаммама можно получить, обратившись к весьма наглядной контурной карте, составленной Джоном Роузом. На карту нанесены два холма, Джидль и Хаммам, стоящие на противоположных берегах реки: Хаммам — на северном берегу, чуть выше по течению, а Джидль — на южном. Эти два города дополняли друг друга и, вероятно, составляли единый оплот защиты от врага: каждый защищал свой берег и свои подступы к реке. Это особенно явно следует из данных, полученных в слоях Хаммама, расположенных ближе к его вершине и соответствующих по времени слоям «Джидль-2» и «Джидль-3».
Под руинами последнего римско-византийского поселения на вершине Хаммама, как и в Джидле, располагались постройки середины 2-го тысячелетия до н. э., и нам удалось восстановить план здания из сырцового кирпича, куда входили четыре комнаты и несколько печей для хлеба. Непосредственно над слоем, содержащим комнаты, шла прослойка золы, но, судя по всему, после разрушения поселения здесь снова ненадолго поселились люди — этот период соответствует слою «Джидль-2». Очень скоро поселение опустело, и его руины заполнял эоловый песок. В этих слоях мы нашли осколки неглубоких мисок из глины насыщенного розоватого цвета, украшенных по краю широкой красной каймой. Такую же посуду нашёл Леонард Вулли во время раскопок в долине Оронта, во дворце в четвертом слое городища Алалах, и несколько аналогичных осколков мы собрали в соответствующих слоях Телль-Джидля. Эти наблюдения показали, как важно найти тип керамики, характерный для того или иного слоя. В данном случае мы смогли не только установить соответствие между слоями двух холмов в долине Балиха, но также соотнести их со слоем, открытым далеко на западе, в знаменитом городище Алалах, в долине Оронта, история которой известна сравнительно неплохо.
Среди прочих находок, сделанных в Хаммаме, в слое, содержавшем руины дома, была цилиндрическая фаянсовая печать с двумя различными узорами. Нижний изображал ряд газелей или, может быть, коз. Они группировались попарно, и между каждыми образующими пару животными возвышался шест, увенчанный звездой — религиозный символ. Верхнюю часть печати украшали концентрические круги и звезда. Я предполагаю, что это были изображения животных, содержавшихся в то время в храмах. Согласно более ранним табличкам, найденным в Шагар-Базаре, святилищам часто принадлежали газели.
Как видно из нашего отчёта о раскопках на Балихе, металлические предметы здесь встречались редко. Это верный признак того, что сырые и болотистые земли долины Балиха привлекали более примитивных, менее состоятельных и менее приспособленных для городской жизни поселенцев, чем берега Хабура. Напротив, многие орудия из кремня и обсидиана отличались хорошей выделкой и заслуживали большего внимания, чем мы могли им уделить.
Наше путешествие по долине продолжалось не больше шести недель. Мы работали с большим интересом и чувствовали себя первопроходцами. До нашей экспедиции этот регион изучали очень мало, разве что покойный профессор Олбрайт[67] в 1926 году раскопал Телль-Зайдан, один из доисторических теллей в нижней части долины. Насколько нам известно, ни один профессиональный археолог не задержался здесь больше, чем на несколько дней, и не оценил невероятный потенциал здешних поселений. Отчёт о короткой разведке У. Ф. Олбрайта был опубликован в 1926 году в журнале «Man». Мы не должны забывать и о двух других исследователях, интересовавшихся долиной. Первый из них — великий французский археолог Рене Дюссо, в чьей книге «Topographie Historique de la Syrie Antique et Mdivale» («Историческая топография античной и средневековой Сирии») приводятся крайне интересные рассуждения об истоках Балиха. Во-вторых, римские укрепления, расположенные по берегам реки, упоминаются в подробнейшем исследовании отца А. Пуадебарда, озаглавленном «La Trace de Rome dans le desert de Syrie» («Римский след в пустыне Сирии»).
На мой взгляд, самое интересное в теллях долины Балиха — это данные, содержащиеся в их римско-византийских слоях. Исследователя здесь ждёт огромное количество никем не исследованных объектов. Впомним смелое высказывание отца А. Пуадебарда: «Целью всей наступательной политики Месопотамии со времён Траяна было установить границу на Хабуре. В результате отступлений граница всегда возвращалась к излучине Евфрата». Эта закономерность подтверждается восточными кампаниями императоров Траяна, Септимия Севера и Юлиана и временным отступлением с восточного фронта после смерти последнего.
Я был бы рад, если бы кто-нибудь из археологов, интересующихся романо-византийским периодом, исследовал этот район и высказал своё мнение о том, как завоевания того периода завершились установлением удивительного pax Romana[68], который стремился следовать принципу «parcere subjectis et debellare superbos»[69].
Нам повезло, что мы смогли выбраться из долины Балиха в конце года: с началом зимних дождей дороги в этих местах становятся непроходимыми. К нам судьба была благосклонна: мы добрались из Телль-Абьяда до Алеппо практически без происшествий, и только один раз, на малознакомом участке пути через степь, безнадёжно увязли в грязи. День, как нарочно, выдался жаркий, а воды с собой было в обрез. К счастью, мы наконец достигли берега Евфрата, переправились на другую сторону на старом расшатанном судёнышке и явились в дом нашего бригадира в Каркемише прямо к завтраку, совершенно изголодавшиеся.
Мы рассчитывали слегка перекусить: съесть несколько кусков хлеба и, может быть, запить их чашкой чая или кофе, — но хозяин дома, один из сыновей Хамуди, немало удивился нашей неслыханной просьбе и заявил, что никуда нас не отпустит, пока семья не приготовит роскошную трапезу. Это значило, что кто-нибудь отправится в деревню, забьёт барана и зажарит его. Нам не хотелось огорчать хозяев, а отказаться от подобного приглашения было бы очень грубо. Прошло не менее шести часов, пока нам наконец-то подали огромный обед, в том числе целого фаршированного барана и гору риса. К этому времени мы уже так проголодались, что кусок с трудом шёл в горло. В конце концов, бурно заверяя наших гостеприимных хозяев в признательности и дружеских чувствах, мы выдвинулись в Алеппо. Преодолев семьдесят миль пути, к вечеру мы добрались до отеля «У Барона» в Алеппо, где нас принял радушный Коко, армянин, которого на самом деле звали Мазлумьян. С тех пор как мы познакомились с ним сорок лет назад, я получаю от него открытки на каждое Рождество.
Коко Барон был plus anglais que les anglais[70] и какое-то время служил в военно-воздушных силах. Гостей он принимал с исключительным радушием, особенно археологов, которым приходилось останавливаться в Алеппо. Мы с глубокой признательностью вспоминаем его щедрость, приветливость и доброту. Он был человек, многое переживший. Женат Коко был на англичанке.
В Алеппо жил и ещё один прекрасный человек, наш добрый друг доктор Эрнест Алтунян, наполовину ирландец, наполовину армянин, женатый на сестре философа и историка из Оксфорда, Р. Дж. Коллингвуда. Отец Эрнеста Алтуняна был совершенно удивительным человеком и известным во всём мире нейрохирургом. В детстве он служил уборщиком у каких-то американских миссионеров в Мараше. Заметив блестящие способности мальчика, хозяева отправили его учиться в Стамбул. Оттуда он отправился в Париж, а потом основал некогда знаменитую больницу в Алеппо, которая выстояла благодаря его сыну. Теперь её, к сожалению, больше нет. Старик никогда не лечил пациентов бесплатно, и в Сирии любой с радостью заплатил бы, сколько смог, только чтобы им занимался этот человек. Его считали волшебником, почти что бессмертным. Этому замечательному старику уже перевалило за девяносто, когда он женился на англичанке, на добрых шестьдесят лет его младше, и успешно вырезал ей опухоль мозга, за которую не брался ни один хирург.
Часть 2. Война (1939–1945)
Глава 10. Лондон и Каир
В конце 1938 года, после третьего, невероятно успешного, сезона в Браке мы собрали огромное количество данных, которые теперь необходимо было подготовить к публикации. В общем, с археологической точки зрения было очень удачно, что политическая ситуация мешала дальнейшим раскопкам. Не нужно было обладать исключительным умом, чтобы понять, что мы движемся к войне. По этой причине летом 1939 года я отклонил приглашение на археологический конгресс в Берлине. Действительно, конгресс пришлось прервать до его запланированного окончания.
В течение этого последнего года мирной жизни я значительно продвинулся в работе, и всё благодаря принципам, вбитым мне в голову Леонардом Вулли, твердившим год за годом, что копать и не публиковать результаты — страшное преступление.
Я работал над отчётами о раскопках в Браке и Шагар-Базаре, когда мне улыбнулась удача. Агата, частично уступив моим просьбам, решилась продать Эшфилд, дом своего детства в Торки, и купить Гринвей, усадьбу в георгианском стиле, расположенную в совершенно очаровательном месте в четырёх с половиной милях от Дартмута, на левом берегу реки Дарт, напротив Диттисгема.
Я прекрасно помню, как в сентябре 1939 года мы сидели на кухне в Гринвее и слушали по радио объявление войны. Глуповатая миссис Бастин, чей муж занимал живописный коттедж с соломенной крышей у пристани в Гэлмптоне, горько рыдала над овощами, хотя она-то уж могла себя чувствовать в относительной безопасности.
В первый год войны нам удалось провести прекрасное лето в мире и спокойствии «странной войны», хотя в это время произошло несколько важных событий. Во время эвакуации Дюнкерка в 1940 году весь рыболовный флот Бельгии встал на якорь у нас на реке. Это было живописнейшее зрелище. Такого количества оснащённых кораблей Дарту не приходилось видеть со времён Елизаветы.
В то время у нас гостила Дороти Норт, чей сын лорд Норт, лейтенант Военно-морских сил Великобритании, потерял жену, когда в его его корабль попала торпеда.
Это были дни, когда Черчиллю хватило смелости объявить стране, что «из Франции поступили очень плохие новости». Это признание обеспечило ему авторитет и доверие людей до конца войны. Каковы бы ни были прегрешения Уинстона, он был одним из гигантов, воплощением английской храбрости, и очернить его пытаются люди гораздо меньшего масштаба. Его будут чтить в веках.
Также с началом нашей жизни в Гринвее у меня связаны воспоминания о Тэнксе Чемберлене, который жил в Бриксгеме и плавал на собственном траулере. Тэнкс осуждал свою жену, оплакивавшую начало войны. «Наконец-то, — аявил он, по словам очевидцев, — наступил тот радостный день, когда мы сможем сразиться с немцами». К моменту нашего знакомства Тэнкс Чемберлен командовал Тридцатой эскадрильей Королевских ВВС Великобритании в Мосуле. Он прокатил меня на самолёте над Ниневией и Арпачией, когда я захотел посмотреть на рельеф с воздуха, и именно в этом полете я заметил, что северная часть Арпачии выглядит очень перспективно.
Мне не терпелось принять участие в войне, но мы были так слабо подготовлены, что с моими навыками меня не брали ни на какую службу, и меньше всего им был нужен востоковед. В 1940 году я получил несколько смешное утешение: мне выпало служить в бриксгемском отряде самообороны.
У нас было так мало оружия, что на первых порах на десять человек приходилось не больше чем по две винтовки, да я и сомневаюсь, что они могли бы нам помочь в случае вражеского вторжения: одного из наших дозорных нашли мертвецки пьяным посреди дороги возле сторожки. Когда зазвучал сигнал к полной боеготовности и одному из наших местных фермеров приказали занять позицию для обороны, он воскликнул: «Не волнуйся, дорогой, мне надо сначала подоить корову».
В начале 1940 года я наконец-то нашёл возможность принять более активное участие в событиях. Минувшим летом Эрзинджан, город в восточной части Турции, был практически полностью уничтожен землетрясением, и те его жители, кому удалось выжить, остались под открытым небом и в страшной нищете. Руководствуясь гуманистическими и политическими соображениями, наша страна решила прийти на помощь. Британцам было важно заручиться поддержкой Турции, так как мы полностью зависели от их поставок хрома, необходимого компонента стали — в то время его больше негде было взять. Обычными же гражданами двигало искреннее сострадание к людям, попавшим в беду и взывавшим о помощи.
Случилось так, что профессор Гарстанг, один из моих друзей-археологов, знал, что и я мог бы отозваться на этот призыв. Профессор давно был известен своим интересом к Турции. В частности, именно он основал Британский институт археологии в Анкаре. Гарстанг незамедлительно приступил к созданию Англо-турецкого комитета помощи совместно с группой могущественных меценатов, среди которых лорд Ллойд Долобранский был президентом, а сэр Джордж Клерк, бывший посол Великобритании в Анкаре, — председателем. Меня пригласили на должность почётного секретаря, и я с готовностью согласился, хотя не имел ни малейшего представления, во что именно я ввязываюсь.
Гарстанг обладал особым чутьём, помогавшим ему находить источники помощи с большим потенциалом, но не мог предвидеть, что впереди ждёт море проблем, грозящее накрыть его с головой. Он сразу проявил находчивость и попробовал занять для секретариата небольшое подсобное помещение в здании Королевского института на Албермарль-стрит, но закончилось всё тем, что мы чувствительно потеснили эту незадачливую организацию, и секретариат разместился в большой комнате на первом этаже.
Вскоре после того, как я занял должность секретаря, лорд Ллойд попросил меня подготовить набросок обращения к гражданам, призывавшего их жертвовать деньги и вещи. Мы нарисовали мрачную картину страданий турецкого народа в разгар зимы и вставили в текст отрывок из письма, полученного от одной бедной женщины из трущоб: «У меня всего два пальто. Одно я посылаю вам». Отклик на наш призыв можно назвать фантастическим. Центральный почтамт совершенно завалили посылками, их приходилось складывать на улице, потому что внутри они уже не помещались.
С Англо-турецким комитетом помощи связано много забавных эпизодов. В некоторых фигурировал наш сотрудник, ответственный за связи с общественностью, спортивный обозреватель и известный журналист. Он поведал публике о волках, завывающих в сельской местности Турции, и по спинам неискушённых слушателей прошёл холодок. В начале нашей деятельности лорд Ллойд решил устроить большой приём в официальной резиденции и пригласить полдюжины послов. Он предупредил меня, что мероприятие непременно должно пройти на уровне.
В те дни можно было запросто наполнить автобус бедствующими джентльменами, одетыми в сюртуки, и при необходимости увеличить аудиторию любого мероприятия по цене в один фунт за голову. Мы так и поступили, а наш журналист Уэнтворт-Дэй вызвался набрать привлекательных дам для продажи программок. Он справился с этой задачей, призвав на помощь компанию женщин лёгкого поведения с Лестер-сквер. Эсме Николс, на чью находчивость всегда можно было положиться, поспешно проводила дам на задние ряды.
Приём прошёл с невиданным успехом, и я помню, что Невилл Хендерсон, наш посол в Берлине, сказал тогда: «Только глупец возьмётся предсказывать, но я осмелюсь предположить, что война продлится не больше шести месяцев». Несмотря на это пророчество или, возможно, благодаря ему, деятельность Англо-турецкого комитета началась с блестящего старта, и нам удалось собрать огромную сумму пожертвований в деньгах, натурой и в виде услуг.
В конце года наш фонд закрылся, но я думаю, что лорд Ллойд оценил мои усилия. Во время нашей последней встречи он предложил мне свою помощь во всём, что я пожелаю. «Только скажите, что вам нужно, — заверил он меня, — и вы это получите». Я ответил, что единственное моё желание — устроиться в военно-воздушные силы. Лорд очень удивился и спросил, зачем мне это нужно. Я сказал, что авиация — самый прогрессивный и поэтому самый привлекательный род войск. Мой отец родился в Австрии, был, по сути, иностранцем, поэтому мне было непросто туда попасть, но для влиятельного члена кабинета министров не было ничего невозможного. Лорд Ллойд выполнил своё обещание: не прошло и недели, как я был зачислен в службу разведки Королевских военно-воздушных сил.
Через неделю после этого Ллойд скончался от гриппа, перешедшего в двустороннее воспаление лёгких. Я с теплом вспоминаю последнего из наших великих проконсулов.
В ВВС меня ожидал совершенно другой коллега — майор авиации, а позже профессор, С. К. Р. Глэнвиль, которому было суждено стать ректором Королевского колледжа в Кембридже. Он был талантливым и, наверное, самым обаятельным человеком из всех моих знакомых. Глэнвиль, или Стивен, как я буду его называть, был моим давним другом ещё с 1925 года, когда он поступил на работу в Отдел египетских древностей Британского музея.
Теперь Стивен имел звание майора авиации и служил в подразделении министерства ВВС, которое получило известность как Управление по союзническим и иностранным связям. Будучи моим старым другом, Стивен знал, что мы близки по духу, и полагал, что мой опыт работы за границей поможет ему в нелёгком деле общения с союзническими военно-воздушными силами. Нам предстояло преодолеть множество препятствий из-за отчаянной нехватки оборудования в Королевских ВВС, да и многие офицеры регулярной армии категорически не хотели снабжать им иностранцев, полагая, что иностранцы не понимают и, соответственно, не ценят наших методов лётной подготовки, поэтому ими трудно управлять. Вскоре, однако, чехи согласились, что их эскадрилья должна войти в состав Королевских ВВС, и без промедления с нами объединились. Увы, даже после этого нам было трудно обеспечить их оборудованием. К счастью, мы обнаружили лаконичный документ, написанный премьер-министром. Он гласил: «Дайте чехам то, что они хотят». Мы стали ссылаться на этот документ в случае жестокой необходимости, и эффект был мгновенный.
Моей обязанностью было представление министерства ВВС в комитете лорда Хэнки, занимавшимся координацией поставок оборудования для всех трёх родов войск наших союзников. Армия и флот присылали на эти собрания офицеров старшего командного состава, генералов и адмиралов, но необщительным военно-воздушным силам было достаточно, чтобы их представлял офицер более низкого звания, и сделать это предстояло Глэнвилю, который тогда был всего лишь майором авиации. Как только я появился в министерстве ВВС, он перепоручил мне эту задачу, и я пришёл в ужас от мысли, что мне придётся предстать перед столь высокопоставленным обществом. Лорд Хэнки восседал во главе длинного стола в окружении всех мыслимых экспертов, гражданских и военных, а на другом конце сидел я, офицер ВВС самого низшего из существующих званий.
Я очень хорошо помню своё первое заседание. Помню, как лорд Хэнки произнёс: «А что по этому поводу могут сказать военно-воздушные силы?» Все взгляды обратились к моему концу стола, и в них явственно читалось удивление тем обстоятельством, что человек с таким скромным количеством нашивок оказался единственным присутствующим экспертом от ВВС. Обсуждался вопрос оборудования эскадрильи «Томагавков», американских истребителей, которые мы передавали русским, и о том, какое для них полагалось вооружение. Я получил весьма поверхностный инструктаж и совершенно растерялся, хотя и отчаянно зубрил материал перед заседанием. Меня выручил какой-то добрый генерал. Возвращаясь к Стивену Глэнвилю, я чувствовал, что похвастаться перед ним мне нечем. Каково же было моё удивление, когда любезный лорд Хэнки, постоянно загруженный работой, тем не менее нашёл время написать в мой департамент, что офицер, представлявший ВВС, неплохо справился с поручением. Я был тронут и удивлён этим щедрым и предупредительным жестом.
Мой первый год в военно-воздушных силах, 1942 год, был насыщенным, интересным и часто забавным. Мы с Агатой тогда жили в Хэмпстеде, в квартире на Лон-роуд, и мне приходилось часто добираться домой на свой страх и риск в разгар первых бомбёжек. Однажды я шёл по Стрэнду во время жестокого воздушного налёта. Бомбы падали на землю дождём, многие здания горели. Я был удивлён, увидев, что один безмятежный полицейский нашёл укрытие на входе в магазин, между двумя стеклянными окнами. Тогда ещё никто не относился к налётам серьёзно. Когда я шёл на работу на следующее утро, вся дорога была усыпана мусором, в том числе бумагой — документами из разрушенного банка, причём в основном налоговыми декларациями; ни одной купюры я не заметил. Все были поражены, когда я явился в офис. Дело в том, что мой пессимистично настроенный коллега успел всем сообщить, что накануне я отправился домой под градом бомб и наверняка был убит. Это был не первый случай, когда поступало сообщение о моей смерти, а я оказывался жив.
Я уже проработал в министерстве около двенадцати месяцев, когда наше управление попросили выделить двух офицеров для поездки на Средний Восток. Требовалось открыть филиал Управления по союзническим и иностранным связям в Каире. Когда Глэнвиль спросил меня и ещё одного нашего сотрудника, не хотим ли мы взять на себя эту роль, мы немедленно согласились. Нам обоим не терпелось оказаться ближе к центру событий и увидеть в действии наших союзников в Северной Африке. Мне присвоили звание майора авиации, и я отбыл в Каир, чтобы присоединиться к штабу Королевских военно-воздушных сил на Среднем Востоке. Но перед тем, как продолжить повествование, я должен отдать должное человеку, которого покидал, — Стивену Глэнвилю.
Карьера Стивена складывалась для него весьма характерно. Он так и не нашёл времени глубоко изучить свой предмет и неважно учился в университете, но при этом ему без вопросов дали пост профессора египтологии в Университетском колледже Лондона, и он блестяще проявил себя на новом посту. Широта интересов не позволяла ему заслужить авторитет в какой-то конкретной области науки, и, по правде говоря, люди и гуманитарные науки интересовали его гораздо больше, чем египтология. Когда Стивен узнал, что одна знакомая, мисс Пью, пишет книгу по оптике, он просто обязан был всё за неё переписать. Это был единственный человек, которому удалось убедить Агату изменить финал книги, совершенно, как она потом утверждала, против её воли. Первоначальный финал был гораздо драматичнее. Речь идёт о романе, действие которого разворачивается в Древнем Египте — «Смерть приходит в конце». Стивен вовсю наслаждался жизнью и никогда не отказывался от нового опыта, будь это спиритический сеанс или раскопки в Египте.
Были у Стивена и враги, и он не тратил времени на тех, с кем ему было не по пути, но для друзей был готов на всё и никогда не увиливал от решения чужих проблем. Охотно помогая друзьям улаживать семейные конфликты, он часто обнаруживал, что полностью сочувствует как одной, так и другой стороне и пользуется их безграничным доверием.
После четырёх или пяти лет работы в Королевском колледже Кембриджа его, несмотря на плохие успехи во время учёбы, единогласно выбрали на пост ректора. Когда он умер, весь колледж, начиная от заслуженных профессоров и заканчивая последним уборщиком, погрузился в траур.
Моей задачей в Каире было поддержание эффективных рабочих связей с чешскими, польскими и свободными французскими авиационными частями. Польские ВВС вызывали у меня безграничное восхищение. Из всех подразделений Королевских военно-воздушных сил их эскадрилья была самой умелой и отважной. Они сыграли решающую роль в Битве за Британию, и нам несказанно повезло, что бравые польские лётчики с боем добрались до нашей страны, считая нас последней надеждой на свободную Европу. Если бы мы проиграли эту решающую битву в сороковом году, Британия и сама была бы во власти Гитлера. Будем же помнить, что каждый двенадцатый пилот в этом эпическом сражении был поляком.
Многие из моих знакомых поляков были достойнейшими людьми, солью земли, а их дисциплина вызывала восхищение. Один из моих польских друзей, капитан авиации, сказал мне как-то: «Возьми завтра увольнительную на двадцать четыре часа. Я приглашаю тебя на ужин». Я спросил, почему нельзя прийти на ужин без увольнительной, и он объяснил мне, что к концу трапезы все присутствующие будут пьяны в стельку и что того, кто не успеет протрезветь перед службой, ждёт военный трибунал и казнь. Действительно, в Дартмуте, где пьяная ватага польских моряков окружила однажды полицейский участок, поговаривали, что на следующий день в море были не одни похороны. Должен признать, что я не пил ничего лучше самогонки, которой угощали поляки, и я скоро понял, что не стоит приходить на польский ужин, предварительно плотно не подкрепившись. Тот же самый офицер, который приглашал меня на эти застолья, сказал мне при прощании: «Ты был мне хорошим другом, и я хочу за это дать тебе совет. Если тебя посадят в тюрьму, постарайся, чтобы это была манчестерская тюрьма. Там кормят лучше, чем в любой другой тюрьме в Англии». Разумеется, всё это я сейчас говорю шутя и специально представляю поляков с забавной стороны. На самом деле, как я уже говорил, многие из них были прекрасными людьми, чувствительными (приходилось соблюдать осторожность, чтобы не обидеть их специально или ненароком), трудолюбивыми и выносливыми, и таких очаровательных и весёлых друзей ещё надо поискать. Мне рассказывали об одном водителе трамвая из Варшавы, который, несмотря на шестидесятилетний возраст, устроился перегонщиком самолётов в Северной Африке, садился и тут же взлетал снова. Это были самоотверженные люди. Насколько я знаю, после войны где-то полмиллиона-миллион поляков получили британское гражданство за заслуги перед Короной. Думаю, наша страна не знала более достойных граждан. Когда мне случается встретить поляка, я сразу проникаюсь к нему расположением.
Вы спросите меня, каково было участие союзников — поляков, чехов, «свободных французов» и греков — в наших сражениях и стоила ли эта помощь всех жертв с их и с нашей стороны. Совершенно очевидно, что их эскадрильи сильно проигрывали по размерам нашему военно-воздушному флоту и составляли лишь малую часть общего целого, но их поддержка была неоценима. Они пришли нам на помощь, все, как один, в наш самый трудный час, когда все вокруг верили, что мы, совершенно не подготовленные к войне, падём жертвой ужасной нацистской тирании и гитлеровской Германии. Наши друзья пришли, несмотря ни на что, и стали для нас лучом света, бесценной моральной поддержкой. Более того, этим своим шагом они показали остальным странам, что многие ещё готовы сражаться с врагом и что захваченные государства ещё не совсем побеждены. Мы должны быть вечно благодарны всем этим людям, которые, кто руководствуясь патриотическими, а кто личными мотивами, приняли это важное решение в отчаянно тяжёлый для них и для нас момент.
В оперативном отношении — хотя здесь меня могут обвинить в пристрастности — поляки сыграли самую важную роль. Дело не только в их численном превосходстве, но также и в том, что благодаря своему профессионализму и храбрости они стали правой рукой наших ВВС как в Европе, так и на Среднем Востоке и постоянно нас поддерживали.
В Каире я первое время жил в отеле «Континентал», а потом стал снимать жильё вместе со своим братом Сэсилом. Мы отыскали дом с видом на Нил напротив спортивного клуба «Газира» и могли из своих окон видеть, как Уолтер Хаммонд играет в крикет.
С братом я встретился совершенно случайно. В первый же день в Каире я обнаружил его на террасе отеля «Континентал» с чашкой кофе. В 1940 году он добровольцем отправился в Финляндию, чтобы противостоять вторжению русских, а когда эта доблестная страна потерпела поражение и вскоре после этого была вынуждена присоединиться к Германии, попал к финнам в плен. Впрочем, благодаря маршалу Маннергейму, с иностранными добровольцами они обращались безупречно. Отработав небольшой срок в Британском совете, Сэсил был эвакуирован в Швецию и трудился там лесорубом. Через несколько месяцев нашему послу в Хельсинки Гордону Верекеру удалось договориться об обмене, и британские добровольцы были переправлены из Швеции домой, в Англию. Кстати, я слышал, что Верекер получил от финнов официальный выговор за то, что напевал русскую «Дубинушку», катаясь по озеру в Финляндии. Его спросили, как бы ему понравилось, если бы какой-нибудь иностранец вздумал во время войны петь «Deutschland ber alles», плывя по Темзе.
Сэсил вместе с другими добровольцами вернулся на родину после полного событий двухдневного путешествия на поезде по территории Франции и Германии. Он стал свидетелем необычного для англичанина зрелища, ночной бомбёжки Гамбурга Королевскими ВВС Великобритании, и, проведя ещё шесть месяцев в нейтральной Португалии, добрался наконец до Англии, откуда по поручению Британского совета затем отправился в Египет в качестве директора отделений в Мансуре, Махалле и Минье. Встретить его было настоящей удачей. Сэсил всегда был приятным в общении. Он легко сходился с людьми и прекрасно устраивался на любом новом месте работы. После войны он женился на Долорес Кавалёфф, финской девушке, с которой познакомился в Хельсинки. У них родились два сына: Джон, учёный-эколог, и Питер, адвокат. Сейчас они оба уже женаты, и дела у них идут хорошо.
В Каире я стал участником двух эпизодов, по которым можно судить о работе нашей «секретной службы». От официанта в отеле «Континентал» я услышал ужасную новость о взятии Тобрука через несколько часов после этого события, то есть раньше, чем весть о нём официально достигла штаба ВВС Среднего Востока. В другой раз я услышал от водителя трамвая, что Черчилля видели в Каире курящим сигару. За ланчем я встретился со своим приятелем, египтологом Эйддоном Эдвардсом, служившим тогда в посольстве Великобритании, и спросил, есть ли в этом слухе доля правды. Он посмотрел на меня с удивлением и посоветовал не верить слухам. Позже я узнал, что тем самым утром сотрудников посольства собрали и велели хранить в строжайшем секрете новости, уже известные водителям каирских трамваев.
Я пришёл к выводу, что во время войны ничего нельзя было долго хранить в секрете, но при этом в обществе ходило столько ложных слухов, что даже если правда доходила до ушей врага, он вряд ли мог отличить её от вымысла. Лучший тому пример — высадка в Нормандии. Немцам удалось узнать о назначенной операции, но они не могли поверить, что мы собираемся нанести решающий удар, используя для высадки такие неожиданные плацдармы.
В 1943 году, прослужив год в штабе ВВС Среднего Востока, я вызвался поехать в Триполитанию в качестве офицера по связям с гражданской администрацией и населением: там не хватало людей, знакомых с арабским миром. Я был рад уехать из жаркого и пыльного Каира, хотя жизнь там была довольно интересной.
Пройдя собеседование в Администрации оккупированных вражеских территорий, я в начале лета покинул Каир и отправился в Триполитанию, в Триполи. Туда я должен был добираться своим ходом, сначала поездом до Дабы, где была конечная станция, а оттуда по воздуху. Офицер транспортного отдела сообщил, что там меня будет ждать самолёт. Подобно многим другим таким офицерам, он явно поцеловал камень Красноречия. Как водится, меня отправили в путь, даже не дав времени на подготовку, без котелка и провианта, но я питался вкуснейшими похлёбками, сваренными итальянскими военнопленными на безлюдных железнодорожных станциях, а добрые попутчики всегда были готовы поделиться со мной посудой. Каким требовательным становится человек с годами и как приятно вспоминать, что было время, когда я действовал согласно принципу: «Ни сумы не бери на дорогу, ни посоха и не заботься о завтрашнем дне».
Сравнительно просто я добрался до Триполитании: где-то неподалёку от Дабы нашёл судно, везущее военное оборудование в Триполи. Это был старый корабль, служивший в мирное время для доставки замороженного мяса из Ванкувера, и я, оказавшись старшим офицером на борту, должен был убедить капитана кормить этим мясом всех военных, потому что команда отказывалась разделить с нами паёк. В Средиземном море тогда орудовали немецкие подводные лодки, и часть нашего конвоя затонула. Наверное, именно это послужило причиной слуха, что я утонул на подводной лодке — эту новость я услышал от одного коллеги, когда, к его величайшему удивлению, предстал перед ним во плоти.
Глава 11. Триполитания
По прибытии в Триполитанию меня с комфортом разместили в гостинице «Ваддан», освобожденной за день или два до этого Роммелем. В первый вечер я с удовольствием съел приличный ужин под аккомпанемент небольшого гражданского оркестра, игравшего на галерее. Несколькими днями ранее они так же играли для немцев. Я едва закончил ужин, как вдруг началась суровая бомбёжка. Немцы атаковали наш флот на морском фронте и начали бомбить здания. Некоторые из моих сотрапезников перепугались и устремились в бомбоубежище в подвале, но я успел привыкнуть к воздушным налётам в Лондоне и уверял их, что не происходит ничего страшного и что я лично собираюсь спать в своей кровати. Мои прогнозы не оправдались: одна из бомб угодила прямо в расположенную по соседству мечеть, и мы провели за работой полночи, пытаясь вызволить людей из-под обломков. Да ещё помощь пьяных моряков, затеявших с нами соревнование, отнюдь не облегчала эту задачу.
Моим первым назначением в Триполи была должность помощника полковника Рота, старшего офицера по связям с гражданской администрацией и населением «западной провинции», которая простиралась от Завии до Зуары, что возле границы с Тунисом.
Штаб провинции находился в Сабрате, древнем финикийском городе на берегу моря. Здесь было множество римских руин: храмы, бани, жилые дома и — главное — превосходный театр. Итальянцы восстановили его и ставили там античные пьесы. Должно быть, какой-нибудь добрый ангел-хранитель привёл меня в это божественное место, где прохладными вечерами я мог читать древние надписи, заходить в небольшой музей полюбоваться прекрасной мозаикой с павлинами и рыться в библиотеке, где был хороший выбор античной литературы, а также книг по истории и археологии.
Именно здесь родился император Септимий Север. Он был провозглашён императором во время военной кампании в Паннонии, а умер в Йорке. Нельзя представить себе места более романтичного и более наполненного воспоминаниями, затрагивающими прибывшего из Англии. Как и всегда, итальянцы оформили музей и прилегающую территорию со вкусом и изяществом. Посетителей встречал ковёр мезембриантенума, отдых для глаз после окружающего песка, а когда он цвёл, получалась ярко-голубая лужайка.
Мы жили на итальянской вилле. У нас был внутренний двор, вымощенный плиткой, и терраса с видом на море, воды которого плескались у самого дома. До войны здесь была резиденция сицилийского князя по имени Патерно, которому принадлежал расположенный неподалёку рыбзавод «Тунец». Периодически мы выходили в море с огромными сетями для ловли тунца и смотрели, как наши жертвы бьются в своих комнатах смерти, но тунец в сочетании с местными оливками вносил приятное разнообразие в наш ежедневый рацион из мясных консервов.
Самой интересной из наших обязанностей была обязанность распределять зерно среди жителей нашей нуждающейся провинции. Рот мастерски справлялся с этим делом. Он поручил мне провести первое инспектирование зерна в прибрежном районе Джефара, за Зуарой, и это задание показалось мне очень интересным. У меня не было никакого опыта в подобных делах, но мне помогал советом умный и очаровательный человек — Мифта Эль-Аргейб, мэр Сормана, и, думаю, с его помощью я справился неплохо.
Мы решили отправиться в путь на машине и ехать на юг, сколько получится, пока окончательно не застрянем в песке. Затем мы пересели на лошадей, которые были высланы заранее и ожидали нас вместе с двумя верблюдами, несущими большие оплетённые бутыли итальянского кьянти и палатку, где можно было укрыться от палящего полуденного солнца. С нами была комиссия, включавшая четверых слуг, экспертов по оценке ячменя, эксперта по налогообложению и нескольких местных чиновников. Пришло время жатвы, и нам было поручено предварительно оценить урожай для Британской военной администрации. Владельцы всех земельных участков, несколько сотен человек, должны были присутствовать лично или прислать представителя для получения налоговой квитанции.
Мы подъезжали к очередному участку и просили хозяина оценить предстоящий урожай. Хозяева неизменно называли заниженную оценку. Затем эксперты называли свою оценку, обычно завышенную. Мы с мэром Сормана должны были решить, какую цифру считать справедливой. Среди членов комиссии был один старый и опытный человек, который, как я скоро понял, лучше оценивал урожай, чем все остальные эксперты, вместе взятые. Его оценка неизменно была близка к истине, потому что он был не только экспертом, но ещё и честным человеком. Как я это понял? Я просил команду жнецов снимать ячмень с некоторых участков для выборочной проверки. Мы косили, молотили и взвешивали зерно и таким образом за день получили точные данные по многим участкам в Джефаре и дали приблизительную оценку сотням других.
Наш старик, настоящий волшебник, мог также с удивительным мастерством предсказать потери урожая, связанные со ржавчиной. Он проходил вокруг поля и сквозь него, в процессе проверки пропуская колосья сквозь пальцы, и затем выдавал заключение. Я скоро узнал, что хозяева урожая раздавали свою землю направо и налево — и чтобы обезопасить себя от локальных неудач, и для того, чтобы затруднить оценку. Но методы, которые я описал выше, позволили нам минимизировать возможности для подкупа и фальсификаций, потому что никто из комиссии не знал, когда и где будет проведена следующая проверка. Таким образом, наша пёстрая процессия собрала для администрации все необходимые сведения о первом урожае.
Тогда же я обратил внимание на одно интересное явление. Большая земледельческая равнина, известная как Джефара, постепенно заполнялась песком, и итальянцы несколькими годами ранее заменили стальные плужные лемехи на старые, деревянные. Они не так хорошо резали и позволяли оставить больше местного кустарника, который останавливал распространение песка.
Я успешно осваивался в Триполитании, но через шесть месяцев моя служба здесь была прервана по приказу главы военной администрации, бригадира Мориса Лаша, который хотел, чтобы я возглавил сторожевой отряд в Восточной провинции в одиноком оазисе под названием Хон — возможно, правильнее записывать его как «Хун», — расположенном на границе с Феццаном. Отряд прикрывал Сахару и им руководили итальянцы из форта с огромным гарнизоном, насчитывающим несколько тысяч человек. Наша администрация гордилась тем, что самого факта присутствия британского офицера хватало, чтобы навести там порядок.
Мой перевод из Западной провинции в Восточную включал в себя приятное путешествие через Триполитанию и Хон. По пути я уже не в первый раз посетил прекрасный город императора Антонина, Лептис, или Лепсис-Магна. Прямая мощёная дорога почти в милю длиной идёт от северной границы города к морю, а по обе стороны от неё возвышаются грандиозные здания с колоннадами и надписями, подаренные городу его берберскими покровителями. В одном из магазинов сохранилась мерка римского портного, в другом месте был огромный рыбный рынок. Другим интересным памятником древности была светская уборная под открытым небом, совсем как в Сабрате. Здесь горожане справляли нужду и обменивались утренними новостями. В марте, проезжая мимо развалин двух бордюров, украшенных парой крылатых ангелов, мы увидели прекрасную аллею, идущую вдоль главной улицы, затопленную, словно водопадами, волнами белого ракитника по обеим сторонам. В дальнем конце была дамба грандиозного порта, а на причале ещё сохранились швартовые тумбы.
Неподалёку от Лепсиса находился Злитен, красивый римский город, затенённый переплетающимися виноградными лозами, где итальянцы обнаружили мозаичный пол, изображающий охоту на диких зверей и битву гладиаторов: мужчина с сетью, ретиарий, выступал против воина с мечом.
В Мисурате, где был штаб провинции, я встретился с начальником, а потом направил свой грузовик сквозь пустынный каменистый пейзаж на юг, в оазис Хон.
Преодолеть эти двести пятьдесят километров было непросто: приходилось пробираться сквозь минное поле, границы которого были обозначены отрезком ржавой колючей проволоки, растянутой по земле. К счастью, я неплохо знал дорогу и даже однажды вызвался провести по ней ночью конвой.
Хон и сам был усеян минами — их оставили итальянцы, прежде чем эвакуироваться, — и жить здесь было довольно опасно, этот факт я однажды смог обернуть себе на пользу. Из штаба в Триполи пришло сообщение: они интересовались состоянием аэродрома. Какой-то высокопоставленный офицер пожелал нанести мне визит, несомненно, в сопровождении должного количества подчинённых, но я не хотел, чтобы меня беспокоили в моём убежище: я прекрасно справлялся с руководством без постороннего вмешательства. Я ответил телеграммой: «Аэродром Хона заминирован с трёх сторон, с четвёртой — кладбище». В принципе, это было близко к правде. Больше незваные гости мне не докучали.
Мне очень нравилась планировка города. Это был маленький аккуратный оазис. Мой дом и штаб располагались со стороны Феццана, в конце длинной улицы, усаженной по краям олеандрами. Я прекрасно жил там в одиночестве и без охраны, пока какой-то офицер в Триполи, не посоветовавшись со мной, решил, что меня должен охранять отряд полицейских. В первую ночь на посту недалеко от моего офиса стоял молодой полицейский из Триполитании — верх бдительности. Как-то раз я неожиданно вышел из офиса, и он выстрелил прямо в меня с расстояния двенадцати ярдов, но, по счастью, оказался плохим стрелком, и пуля просвистела у меня над плечом, не причинив вреда.
Хон был расположен между двумя другими оазисами: Сокной в четырнадцати милях к западу и Вадданом на таком же расстоянии к востоку. Ваддан — это древняя берберская крепость. В расположенном там замке много лет назад археологи нашли несколько массивных золотых туарегских украшений.
Жители Хона и Ваддана были довольно приятными людьми и почти не доставляли мне беспокойства, но больше всего мне понравились обитатели Сокны. Удивительно, но хотя Ваддан и Сокна были, как я уже говорил, всего в двадцати восьми милях друг от друга, их жители не общались уже лет десять. Причиной невероятного отсутствия контакта между двумя населёнными пунктами, первыми обитаемыми точками в двухстах пятидесяти милях от побережья, была давняя кровная вражда. Оказывается, когда здесь у власти были итальянцы, дюжину человек из Хона подвергли пыткам и казнили за участие в тайном сговоре, а на жителей Сокны, справедливо или нет, легло обвинение в доносе. С тех пор между двумя оазисами и прекратилось всякое сообщение.
Во время моей жизни в Хоне произошло одно драматическое событие, затмившее собой все остальные. Всё произошло в результате спора за источники между двумя племенами, которым принадлежали примыкавшие друг к другу пастбища: племенем Мегара, насчитывающим около восьми тысяч человек и живущим немного западнее, и племенем Авлад-Сулейман, гораздо меньшим по численности и родственным жителям Сокны. К моменту нашего прибытия в Триполитанию этот спор за право на воду продолжался уже как минимум лет двадцать, выигрывала то одна сторона, то другая, и теперь дело собирались передать на рассмотрение Верховного суда в Риме. Я тогда был безрассудным и неопытным и полагал, что смогу решить эту проблему с помощью французских властей, которые контролировали соседнюю территорию, где проживало племя Мегара. Авлад-Сулейман жили на земле, подконтрольной британцам. Мне казалось, что если оба племени увидят, что британцы и французы достигли полного согласия по вопросу, касающемуся как властей, так и местных жителей, то примут наше решение.
Я провёл много недель за планированием совещания в Хоне, на которое решил пригласить шейхов всех заинтересованных племён. Роль судей престояло играть мне и французскому офицеру из оазиса, где было много людей из племени Мегара. Моим французским коллегой был молодой и довольно развращённый лейтенант, весьма тяготившийся жизнью в изгнании в этом богом забытом месте. Единственным, что делало его жизнь более или менее сносной, было сожительство с местной женщиной, но я постарался донести до него, как важно положить конец этой многолетней вражде, а его полковник, прекрасный и отзывчивый человек, чьё имя я забыл, назначил лейтенанта ответственным.
В течение нескольких дней представители племён стягивались в Хон. С собой они привели около сотни верблюдов. Дождавшись прибытия всех заинтересованных участников, я собрал их вместе и дал им два или три дня для обсуждения вопроса между собой и выработки приемлемого решения. Я сказал, что после принятия решения им следует прийти ко мне, мы с французским офицером поставим печати под договором, и тогда он вступит в силу. В конце я добавил, что если они не смогут прийти к соглашению, то мы сами примем решение, определим расположение источников и условия их использования. Я подчеркнул, что наше решение, спущенное сверху и, возможно, менее приятное, будет тем не менее окончательным.
В течение трёх дней представители племён дискутировали в жарком зале для собраний, но к решению не приблизились ни на шаг. К концу третьего дня до меня дошли слухи, что более крупное племя Мегара собирается сбежать из Хона, чтобы не попасть ко мне на суд. Тогда я запер всех их верблюдов и, таким образом, отрезал пути к отступлению: они не могли уйти без своих драгоценных животных.
К этому времени вся ситуация начала внушать мне беспокойство. Мой французский коллега до сих пор не появился, и это было серьёзной проблемой, потому что успех операции напрямую зависел от демонстрации согласия между англичанами и французами.
Я уже отчаялся, когда в двенадцатом часу объявился мой равнодушный коллега. Я тут же показал ему мой план распределения драгоценной воды и доступа к источникам: некоторые доставались племени Мегара, некоторые — Авлад-Сулейман, а некоторыми им предстояло пользоваться совместно. Молодой француз был неглуп и прекрасно понимал ситуацию, но был настроен весьма цинично. Его отношение к происходящему можно было выразить одной фразой — je m’en fiche[71]. Он сказал, что готов уже на следующий день подписать со мной вместе договор в присутствии всех собравшихся.
Зал суда был полон, и после того, как главные шейхи обоих племён заявили, что не смогли договориться, я попросил своего переводчика зачитать англо-французскую резолюцию. Заслушав наш вердикт, старейшина племени Мегара заявил, что отказывается от должности, так как не может предстать перед собственным племенем после подписания подобного договора. «Прошение об отставке отклонено, — ответил я, — вы будете следить за исполнением этого указа».
Я объявил, опять же с согласия французского офицера, что если члены племени Мегара не согласны с вынесенным приговором, они смогут обжаловать его у главы администрации в Триполи, бригадира Лаша, и его слово будет уже последним. Пытаясь найти справедливое решение, я советовался с несколькими независимыми авторитетами, мудрыми стариками из Хона и Мисураты, и когда мой предшественник, Пикард Кембридж, уже живший в то время на территории племени Мегара, назвал мой вердикт пристрастным, я смог сослаться на их независимое мнение.
Узнав условия договора, главный шейх меньшего из племён, Авлад-Сулейман, вечно притесняемого более многочисленным племенем Мегара, сказал, что теперь я его друг на всю жизнь. Шейх огорчился, когда я объяснил, что не могу принять от него никакого подарка, даже овцы. Любопытно, что я без труда понимал диалект этого племени, хотя смешанный арабский, на котором говорили в Триполитании, был мне незнаком. Мне стало интересно, почему я так спокойно разговариваю с представителями племени Авлад-Сулейман. Я навёл справки и выяснил, что это племя за двести или триста лет до того пришло в эти края из Неджда и говорило на диалекте арабского, к которому я привык в Уре. Многие из наших рабочих даже были в близком родстве с недждцами. Языки арабских племён сохраняются благодаря женщинам, на протяжении первых четырёх или пяти лет жизни воспитывающим детей в гаремах и прививающим им традиционную манеру речи. Это позволяет сохранять чистоту племенных диалектов.
Менее чем через месяц после совещания в Хоне наш совместный англо-французский вердикт был утверждён бригадиром Лашем в Триполи, и я получил официальные поздравления. Не могу сказать, насколько я их заслужил, потому что не имею ни малейшего представления, как долго племена соблюдали условия договора и как там обстоят дела сегодня. Дело в том, что арабские племена не выносят, когда власти вмешиваются в их споры за воду и земельные участки, и чаще всего предпочитают продолжать споры.
Несмотря на это, в конце концов я наладил дружеские отношения даже с шейхом племени Мегара, которому нанёс тяжкую обиду. Несколько месяцев спустя, когда я уже занимал пост советника по арабским вопросам в Триполи, он нанёс мне визит и спросил, не могу ли я обменять крупную сумму в вышедших из употребления итальянских деньгах на новые денежные знаки, выпущенные Британской военной властью. Хотя срок обмена давно прошёл, я убедил начальника нашей финансовой службы обменять деньги и провёл нашего мегарского шейха в начало длинной очереди. Такое отношение к нему произвело впечатление, и больше он нас не беспокоил.
Во время визита шейха я слетал на самолёте проверить спорные источники и, попросив его задержаться в Триполи ещё на одно утро, сказал, что полностью удовлетворён и не заметил никаких нарушений. Это были последние дни британской «империи», когда наши указы ещё соблюдались.
Примерно через год меня выслали из Хона, и я покинул его с сожалением, потому что там у меня уже было много друзей. Но всё-таки жизнь там была довольно одинокой и мне не хватало общения на родном языке. Я был рад, что моим преемником стал один из моих друзей, капитан Фрэнклин Гарднер, весьма сочувствующий арабам человек. Не сомневаюсь, что именно по настоянию Фрэнклина главную площадь Хона назвали в мою честь — «Майдан Милван». Вскоре, правда, власть сменилась, и это название ушло в прошлое.
Я уже не служил в Хоне, когда город оказался в серьёзной опасности: там нашли нефть, однако, наверное, к счастью, проверка показала, что бурить там скважины невыгодно и что единственное месторождение, которое имело бы смысл разрабатывать, находится в окрестностях Себхи, в регионе Феззан. Оттуда стали качать нефть на побережье. Разумеется, обогащение Ливии в результате интенсивного бурения не могло не затронуть жизнь когда-то простых и безыскусных жителей Хона, Сокны и Ваддана. Население стало стягиваться в крупные города на побережье, и сейчас оазисы практически заброшены. «Aurum irrepertum sic melius situm» («Невыкачанная нефть — самая лучшая»), как сказал бы сегодня Гораций.
После отъезда из Хона в 1943 году меня временно направили в прибрежный город Мисурату, где я замещал на посту бывшего в отпуске полковника Оултона. После аскетичной жизни в Хоне было приятно оказаться в сравнительно цивилизованном городе, но я с трудом выносил бумажную работу, необходимую для функционирования большой и сложно устроенной административной структуры. Особенно мне запомнился один пикантный эпизод. Сын лорда Гоури, бывшего генерал-губернатора Австралии, пал в бою и был похоронен на военном кладбище, расположенном на побережье, в миле или двух от Мисураты. Отец пожелал иметь фотографию могилы сына, и это дело было поручено капралу из Триполи. На беду, капрал обнаружил, что с многих могил кто-то убрал деревянные кресты, и сообщил в Триполи, что могилы осквернены. Новости дошли до ушей фельдмаршала Джамбо Уилсона, главнокомандующего в Каире. Фельдмаршал приказал немедленно найти и наказать виновных и представить отчёт в течение сорока восьми часов. Бригадир Трэверс Блэкли был тогда главным в Триполи, и мне без лишних церемоний приказали во всём разобраться и представить доказательства, что я принял эффективные и должные меры.
Съездив на кладбище, я убедился, что некоторые деревянные кресты действительно исчезли, но не заметил ничего, что могло бы считаться осквернением могил. Дело в том, что племенам, кочующим в этих местах, отчаянно не хватало дров. Всё до последней веточки унесли с собой разнообразные армейские подразделения, которые останавливались здесь, отправляясь на битву или возвращаясь с неё, и, в частности, Пятая индийская дивизия. Это совершенно не удивительно, потому что сражаться им приходилось по страшному холоду, и часто им не хватало топлива на ночь. Они даже сняли деревянные двери с пустующих домов и срубили деревья, все до единого. Бедные местные жители остались совершенно без топлива. Я уверен, что, снимая кресты с могил, они не отдавали себе отчёта в том, что делают что-то дурное. Вряд ли они были знакомы с христианской традицией погребения.
Тем не менее я понимал, что подобным преступлениям следует положить конец. Убедившись в том, что пастбища в этой части муниципалитета Мисурата принадлежат двум определённым племенам, владеющим верблюдами, я вызвал шейхов этих племён к себе в офис.
Мы устроили заседание, на котором, кроме шейхов, были шесть британских офицеров — сколько мне удалось собрать, — и в присутствии выдающегося ливийца, Садика Мунтассера, который был нашим советником, а много лет спустя служил послом Ливии в Вашингтоне, я выступил с торжественной речью. «Вам следует знать, — сказал я, — что храбрый сын одного из выдающихся сынов Англии пал в бою и покоится на военном кладбище у моря, у границы Мисураты. Крест с его могилы, как и другие кресты, был, несомненно, унесён вашими соплеменниками, а вы знаете, что Коран, по слову вашего Пророка, запрещает осквернять любые захоронения». В зале раздался согласный ропот. «Я торжественно заявляю в присутствии всех этих офицеров, что отныне вы сами будете следить за тем, чтобы в вашем муниципалитете не совершались подобные преступления. Оба ваших племени заплатят мне коллективный штраф в размере одного миллиона лир в семидневный срок. В противном случае вас ждёт серьёзное наказание». Шейхи, пристыженные, покинули мой офис.
Я стал ждать, чем же кончится дело, а тем временем официальные лица позвонили из Триполи узнать, что я предпринял. Выслушав мой отчёт, они запаниковали. «Что вы станете делать, если они не заплатят?» — «Я подумал об этом, — ответил я. — Нет ничего проще. Мясо в муниципалитете сейчас в большом дефиците и так дорого стоит, что за одного верблюда дают полмиллиона лир. Я могу поехать к племенам и изъять двух верблюдов». Этого не потребовалось. Через четыре дня миллион лир — в основном в перепачканных банкнотах — был у нас в офисе, и ещё несколько дней нам понадобилось, чтобы его пересчитать. Я встроил в стену сейф и запер всё там. Когда прошло шесть месяцев, а новых нарушений не случилось, я вернул деньги назад. Уже позже я узнал, что шейхи, никогда раньше не слышавшие о коллективных штрафах, решили, что это отличный способ добывать деньги, и мне стоило некоторых усилий убедить их, что не стоит это делать по собственному почину.
Проведя несколько месяцев в Мисурате, я получил должность советника по арабским вопросам в Триполитании, сменив на этом посту майора Кеннеди Шоу, ранее служившего в Группе дальней разведки пустыни. Отслужив пять лет за границей, майор наконец-то возвращался домой. Следующий год я провёл среди администрации высшего звена и в итоге был назначен заместителем главного секретаря, получив звание подполковника авиации.
Работа, которую я выполнял в Триполи, позволила мне взглянуть на страну в целом, но всё же мне больше нравилось вести дела в провинциях в более скромном качестве. На новом посту мне не хватало кочевников, мелких землевладельцев, крестьян, бесхитростных сельских жителей. Вначале, когда британцы только пришли в эти места, в наших отношениях с местными жителями был настоящий «медовый месяц». Нас считали освободителями: мы прогнали ненавистных итальянских «империалистов», руководивших страной с 1911 года, после того как в свою очередь вытеснили турок-османов.
Говоря о наших предшественниках, сложно вынести им справедливый приговор. Итальянцы много сделали для страны: наладили управление, занимались развитием Триполи и других, менее крупных городов, налаживали торговлю в относительно непривлекательном в этом смысле районе Африки. В то время здесь ещё не нашли нефть, и не было никаких надежд на радикальное улучшение экономической ситуации. Прекрасно это понимая, итальянцы не жалели сил на поддержку сельского хозяйства и бурили артезианские скважины. Они развели множество новых садов и увеличили производство оливкового масла, следили за состоянием пальмовых рощ и предотвратили сокращение численности пальм, ограничив производство «легби». «Легби» — это алкогольный напиток, получаемый в результате брожения сока пальмы, а сбор сока иногда приводит к гибели деревьев.
В прибрежных районах итальянцы устраивали фермы двух видов. Одни были в частной собственности у опытных итальянских фермеров, другими занималось государство. На государственных фермах — они назывались «энте»[72] — дела шли хуже. Некоторые «энте», небольшие земельные участки, Муссолини передавал разным отбросам общества, которых хотел выслать из Италии. Многие подобные хозяйства быстро обанкротились и были оставлены хозяевами, а пустующие дома и заброшенные поля остались напоминанием о несработавшей схеме.
Среди достижений итальянского правительства — установление правовой системы, основанной на итальянском своде законов. Дела рассматривали итальянские судьи. Суды работали честно, но, судя по всему, не было сделано ни одной попытки как-то объединить свод законов, полностью основанный на римском праве, с привычным для страны африканским племенным кодексом, или хотя бы найти компромисс между двумя системами. С другой стороны, основное, за что критикуют итальянскую власть, — это то, что за тридцать лет режима не было сделано ничего, чтобы привлечь к управлению коренных жителей.
Большой заслугой итальянцев я считаю то, с каким вниманием и заботой они отнеслись к поддержанию древних городов и исторических памятников, в первую очередь Лептиса, Триполи и Сабраты. Также они произвели несколько важных раскопок, положивших начало интенсивной исследовательской работе в этих местах. И в заключение стоит отметить тонкий художественный вкус, с которым были оформлены памятники Лептиса и Сабраты, — с искусным использованием возможностей ландшафта.
Последним и далеко не самым лёгким заданием, которое я получил, прежде чем срок моей службы в Триполи подошёл к концу, было провести полную ревизию зарплат арабских и берберских чиновников, в том числе служащих судов и кади. Я справился с этой работой меньше чем за три месяца. Мне помогал молодой офицер финансовой службы, которого, если я правильно запомнил, звали Падфут. Падфут был человеком здравомыслящим и прекрасно умел обращаться с цифрами. Моей задачей было проследить за справедливым присуждением премий, учетом мнения старших офицеров в провинциях, чтобы люди, занимающие те или иные посты, пользовались должным уважением и чтобы все изменения зарплат основывались на честных и мотивированных подсчётах. Госслужащим уже давно следовало поднять зарплаты, и если бы правительство не осознало, что меры нужно принять срочно, могли бы начаться проблемы, и причем серьёзные. Теперь же мятежей удалось избежать: сознание, что начинают проводиться реформы, заставило потенциальных бунтовщиков замолчать. Собирая необходимые сведения, мы объехали несколько провинций, и мой опыт службы за пределами Триполи очень пригодился.
Хоть мы и принимали во внимание общественное мнение, пересматривая систему зарплат в стране, все госслужащие были оценены согласно занимаемой должности, в каком бы населённом пункте они ни работали, без поправки на высокую стоимость жизни в более крупных городах. При подсчётах нужно было учесть множество факторов, но мы справились с задачей, к общему удовлетворению, просто немного подняв всем жалование. Сегодня такая прибавка вызвала бы только возмущение, но в те годы арабские служащие приняли её с искренней благодарностью.
Во время недолгой службы старшим офицером по связям с гражданской администрацией и населением в Сук-Альджуме мне удалось поучаствовать в разгоне действа, которое должно было обернуться массовым походом на Триполи. Раньше, чем подстрекатели успели организовать шествие, нам с небольшой помощью полиции удалось разогнать начавшую собираться толпу, причём без единого ареста.
Также во время службы в Сук-Альджуме мне посчастливилось спасти Триполи от еще более серьёзной опасности. Мне доложили, что в одном из домов человек заболел чумой, и я безотлагательно пошёл разбираться. Дом оказался большой и невероятно грязной постройкой из сырцового кирпича. Чтобы предотвратить распространение заразы, всё здание вместе с мебелью и постелью следовало сжечь, а обитателей на какое-то время изолировать. Этот метод может показаться слишком радикальным, но зато больше уже никто не заболел чумой, а это вполне могло случиться, если бы мы медлили. Зараза может быстро распространиться в крупном торговом городе, в центре которого каждую пятницу собираются тысячи человек.
Наконец мне пришла пора отправляться домой после трёх лет службы в дальних странах. Я очень устал и с нетерпением ждал дня отъезда.
Я улетал из аэропорта «Кастел-Бенито». Моё комфортное отправление из Триполитании разительно отличалось от неприятного прибытия — я въезжал сюда через огромный транзитный лагерь в Киренаике, где даже не было питьевой воды. Мы приземлились на Сицилии. Нас встретил разорённый, обветшалый и потрёпанный Палермо. Многие храмы пострадали в результате беспорядочных американских бомбёжек. Мы были в форме Королевских ВВС Великобритании, и наше появление ни у кого не вызвало энтузиазма. Затем мы полетели в Англию и сели в Суиндоне. Стоял весёлый месяц май, и первым, что я увидел, выйдя из самолёта, были высокие конские каштаны, радостно поднявшие к небу свечи своих соцветий, чтобы приветствовать вернувшегося домой солдата. Небо наконец-то было скрыто облаками. Как же я соскучился по облакам под вечно синими небесами Ливии! Это было совершенно незабываемое возвращение домой. Оно напомнило мне одно стихотворение Гейне, которое часто приходит мне на ум в это время года:
- Чудесным светлым майским днём,
- Когда весь мир в цветенье, —
- В душе моей раскрылась
- Любовь в одно мгновенье…[73]
Шатаясь под весом вещевого мешка, с помощью доброго попутчика я добрался до квартиры на Лон-роуд, в Хемпстеде, которую мы сняли в начале войны. Чудесным образом там оказалась Агата. Она не ждала меня, но как раз за несколько минут до моего прихода вернулась из Уэльса, где гостила у Розалинды. Так мы встретились вновь после долгой и тяжкой разлуки. Думаю, Агате выпала более трудная военная служба, чем мне: она работала фармацевтом в больнице Университетского колледжа в Лондоне, и не раз ей приходилось пробираться по городу среди планирующих авиабомб. Как бы то ни было, Бог был милостив к нам обоим, и нам довелось испытать ни с чем не сравнимую радость воссоединения.
О последних шести месяцах военной службы, прошедших до моей демобилизации в 1945 году, рассказывать почти нечего. Оставшееся время я служил в Министерстве ВВС под началом коммодора авиации, который показался мне достаточно неприятным человеком. Его ум и такт, как мне казалось, сильно отставали от его храбрости. Со мной работали несколько очаровательных представительниц Женской вспомогательной службы ВВС, в частности, офицер лётно-подъёмного состава Элисон Уолтерс, которую, к сожалению, я потом потерял из виду, и офицер административно-хозяйственной службы, которая, получив от коммодора авиации приказ выдать прославленному иностранному офицеру несколько сотен талонов на одежду, решительно, к её чести, отказалась повиноваться. Офицер самого низкого из возможных рангов, она не испугалась ярости могущественного коммодора.
По случаю демобилизации в Аксбридже мне подарили гражданский костюм превосходного качества, и я принял эту награду с благодарностью.
Часть 3. Агата (1930–1975)
Глава 12. Личность Агаты
Демобилизовавшись, я снова приступил к работе над книгой о Браке и Шагар-Базаре: она была написана лишь наполовину, когда разразилась война. Как и раньше, значительную часть работы я делал в Гринвее, в Девоне.
Наш белый дом стоит на небольшом плато над рекой. Перед ним поднимается крутой травянистый берег, позади него темнеют хвойные деревья. Благодаря мягкому климату здесь рай для магнолий и рододендронов. Могучие дубы закрывают дом со стороны реки, а неподалёку расположен обнесённый стеной сад камелий с одним пробковым дубом. По одну сторону подъездной аллеи выстроились буки, которым насчитывается по полторы сотни лет, с другой растут эукрифии, магнолии, рододендроны и азалии. Общая площадь имения составляет тридцать пять акров, и ещё никто из посетителей не устоял перед очарованием этого небольшого райского сада.
Агата, гений в области оформления домов, сделала Гринвей действительно прекрасным местом. Вспоминая счастливые дни, которые мы провели здесь вместе, я должен рассказать немного о своей семейной жизни и посвятить несколько глав Агате и её писательской карьере.
С самых ранних лет Агате была свойственна неуловимость — защита против настойчивого любопытства, врождённая броня, от которой любые расспросы отлетали, как от настоящей брони отлетают стрелы. И, несмотря на это, она рассказала о себе больше, чем большинство писателей: написала пространные мемуары, пока не опубликованные, и роман под псевдонимом Мэри Уэстмакотт, озаглавленный «Неоконченный портрет», где мы становимся свидетелями многих глубоко личных впечатлений её жизни с раннего детства и до начала среднего возраста. Роман не относится к лучшим произведениям Агаты, потому что в нём, в порядке исключения, реальные люди и события перемешались с воображаемыми. Только посвящённым известно, какие именно из описанных в романе событий имели место на самом деле, но в Селии мы видим наиболее точный портрет самой Агаты.
С первых дней жизни Агата купалась в любви двух преданных родителей. Воспитывала её мать, наделённая исключительным воображением и служившая постоянным источником вдохновения. Дом Агаты был уютным гнёздышком, где заправляла старушка-няня, проповедовавшая самые благородные нравственные стандарты и традиционные суждения, которые порой было сложно примирить с действительностью.
В романе «Неоконченный портрет» ребёнка зовут Селия, и нам даётся уникальная возможность понаблюдать украдкой за её счастливой детской жизнью, увидеть ткань её юности, в которой реальность смешивалась с мечтами. Частью реальности была, например, большая, величественная кухарка, пекущая вкуснейшие булочки с патокой, и самостоятельное изучение азбуки. Мать считала, что не стоит обучать детей чтению слишком рано, по крайней мере до шести лет, но Агата к пяти годам сама разобралась, что к чему, и научилась читать, просто глядя на разные слова, а не изучая их по буквам. «Няня, скажи: это слово „скупой“ или „жадный“? Я забыла». Правописание Агате давалось с трудом, но она ворвалась в новый мир — мир эльфов, домовых, троллей, — а реальная жизнь занимала её меньше. Скоро девочка уже жила в мире фантазий, населённом плодами её собственного воображения. В этих играх был элемент секретности, отчего они становились ещё интереснее и веселее. Однажды Агата позволила няне узнать о существовании компании, главными персонажами которой были миссис Бэнсон и Котята, а та выдала секрет. Агата услышала, как няня открыто рассказывает о её тайной игре, пришла в ужас и больше никогда никого не допускала в свой волшебный мир фантазий. Отец обучил Агату элементарной математике и обнаружил у неё математический склад ума. Думаю, что это качество — способность как к синтезу, так и к анализу — находит отражение в книгах Агаты, в том, как чисто разрешаются самые запутанные сюжеты. Агата в основном была на домашнем обучении, разве что однажды непродолжительное время посещала уроки арифметики. Думаю, что в этом смысле она не была исключением: в то время многие девочки из хороших семей обучались дома. Необычным было то, что она вообще не получала формального образования, пока не отправилась в пансион для девушек в Париже. Я думаю, не исключено, что, если бы её отдали в школу и втиснули в беспощадное прокрустово ложе образования, это не принесло бы ей ничего, кроме вреда. Школа стала бы препятствовать естественному творческому порыву и загонять в рамки свойственное Агате удивительное воображение.
В «Неоконченном портрете» показаны две характерные черты, присущие Агате и её матери: внутренняя чувствительность и интуитивное понимание вещей, недоступных простым смертным. Сложно сказать, было ли живое воображение следствием или причиной этих черт.
Мама Агаты призналась, что в юности, совершенно в духе викторианской моды, она развлекалась тем, что представляла, как лежит на диване и умирает от неразделённой любви. «Все эти фантазии… Это было так глупо, но, не знаю, почему-то помогало!» Не менее характерен эпизод, произошедший, когда маленькая Агата была на экскурсии в горах возле Котеретса. Когда все уже сидели на мулах и собирались отправиться в обратный путь, погонщик приколол к её шляпе живую бабочку, машущую крыльями. Крупные слёзы текли по её лицу всю дорогу домой, и никто не мог понять, что случилось. Агата словно оцепенела. Она хранила мучительное молчание и не могла открыть причину своего огорчения, потому что боялась обидеть гида. Плачущую, её отвели к матери, и та моментально поняла, в чём дело, и отцепила бабочку от шляпы. О, какая радость, какое облегчение, что не нужно ничего объяснять! Мне кажется, Агата так и не избавилась от своей внутренней застенчивости, и это качество помогало ей понимать других людей, таких же застенчивых, как она сама. Эта способность сочеталась в ней с живым воображением.
Образование, полученное Агатой в Париже, вывело на первый план её любовь к музыке. Способности и техника игры позволяли девочке достичь профессионального уровня: она была готова проводить за инструментом по шесть часов в день и исключительно хорошо играла Брамса, Бетховена и Моцарта. Но хотя наедине с собой Агата была превосходным исполнителем, когда дело доходило до выступлений на публике, она волновалась и совершенно теряла самообладание. Проницательный учитель музыки скрепя сердце объяснил, что лучше ей отказаться от мысли стать профессиональной пианисткой, потому что артисту недостаточно быть хорошим исполнителем, он должен обладать темпераментом, чтобы увлечь слушателей за собой.
Любопытно, что стеснительность, свойственная Агате-пианистке, полностью исчезала, когда ей приходилось петь. Пела она без малейших признаков волнения и была абсолютно уверена в себе. У Агаты было чудесное сопрано, и она могла бы, наверное, стать профессиональным концертным исполнителем, тем более что она была исключительно красивой девушкой — светлокожей, голубоглазой, по-скандинавски светловолосой, обаятельной и с привлекательной внешностью. Агата считала, что голос не был частью её существа, что он находился вне её, был безличным, и поэтому она нисколько его не стеснялась. Её заветным желанием было стать оперной певицей, но учителя дали ей понять, что её голос недостаточно силён для оперы. От этой артистической карьеры также пришлось отказаться. Но, несмотря на грёзы об искусстве, Агата была реалисткой и смогла здраво оценить свои возможности. Этот здравый смысл очень ей пригодился, когда она в конце концов встала на карьерный путь, для которого и была предназначена.
В Париже Агата сочетала музыкальное образование с посещением художественных галерей и с уроками живописи. Принудительные походы в Лувр, несмотря на любовь к цвету и форме, вызвали в ней отвращение к старым мастерам, которое она смогла преодолеть только много лет спустя. Это лишний раз доказывает, что формальное образование могло нанести ей только вред. У Агаты не было способностей к живописи: она не могла разглядеть тень от цветка и не понимала, зачем раскладывать его на составляющие и подвергать ботаническому анализу.
После Парижа Агата вернулась в Девон, в свой любимый дом, Эшфилд, безмятежный рай с его высокими буками, зелёными лужайками и небольшой рощей. Её мать, обедневшая после смерти отца, была теперь стеснена в средствах, но жила сравнительно комфортно, и Агата нигде не ощущала такого счастья и гармонии, как в её компании. Кое-как удалось найти денег на сезон в Египте, и там Агата смогла хотя бы отчасти преодолеть свою природную робость. С ними в Эшфилде провела свои последние годы викторианская бабушка Агаты. Ей было девяносто девять лет. Она была властной, зорко следила за своим имуществом, была непоколебима в убеждениях, твёрдо знала, что хорошо, а что плохо, любила командовать, была доброй, но непреклонной, была предана своим родным, но частенько критиковала их действия. Агата оставила нам точный портрет этого замечательного персонажа, типичной представительницы середины Викторианской эпохи, воспроизведённый с любовью и юмором.
Итак, Агате было за двадцать, и она счастливо жила в Эшфилде. До нас дошёл список поклонников — богатых, вполне состоятельных, бедных, как церковные мыши, — искавших её руки. Она отличалась сияющей красотой и естественным очарованием, ей были свойственны чувство юмора и доброта. В конце концов она обручилась со своим верным товарищем, доброй душой, мягким и неторопливым человеком. С ним её ждало надёжное и спокойное счастье. В книге этот молодой человек носит имя Питер Мейтланд. Он изображён как мягкий и скромный человек, считающий себя недостойным своей невесты — так он объяснил матери Агаты. «Не будь слишком скромным, женщины этого не ценят». Молодой человек был военнослужащим, и ему предстояло на два года вернуться в Индию. Он решил, что будет справедливо дать Агате возможность найти более достойного жениха. Агата же хотела, чтобы они поженились немедленно. «Если бы ты действительно меня любил, ты женился бы на мне сейчас же и взял бы меня с собой». — «О, любимая, моя любимая малышка, разве ты не понимаешь, что я поступаю так потому, что очень тебя люблю?» Пятнадцать месяцев спустя она вышла за другого.
Началась война 1914 года. За Агатой стал ухаживать своенравный лётчик, очень обаятельный и крайне решительный человек, привыкший добиваться своего. Это был стремительный роман. Во время войны сложно было что-либо загадывать, лётчика могли убить в любой момент, и очень скоро они поженились. Питер принял эту новость с грустью, но без обиды. Он трогательно признал своё поражение. Агата отказалась от шанса на прочное счастье и променяла его на захватывающее чувство приключения. Обаяние Арчи, его привлекательность, ум и решительность производили впечатление на всех, кто был с ним знаком, но мать Агаты встревожилась, моментально разглядев в его характере определённую долю жестокости. Будущее дочери вызывало у неё опасения, потому что она очень хорошо знала ранимую и чувствительную натуру Агаты, не созданную для того, чтобы стойко принимать удары судьбы и терпеть несчастье. Арчи (в книге его зовут Дермот) был ошеломлён её красотой. «Селия, ты такая красивая, такая красивая! Обещай мне, что всегда будешь красивой». — «Но если бы я не была красивой — ведь ты любил бы меня точно так же?» — «Нет, не совсем. Не точно так же. Обещай мне, скажи, что всегда будешь красивой…»
В «Неоконченном портрете» ярко описаны счастливые годы замужества, радость построения планов и постепенный рост благосостояния, скромность и невероятная застенчивость Агаты, проявлявшиеся, когда ей приходилось разбираться с домашней прислугой, рождение дочери, столь же практичной и реалистично глядящей на вещи, как и её отец, и совершенно не унаследовавшей живое воображение матери. Через какое-то время между супругами встал нелепый барьер — игра в гольф, повлекшая за собой несовпадение интересов. Это развлечение заняло выходные и положило конец прошлым весёлым субботам в компании друг друга, и даже воскресеньям. Думаю, игру в гольф следовало бы упомянуть в общественном договоре — в слабой надежде, что этот вид досуга удастся как-нибудь усовершенствовать или модифицировать. В те дни, о которых идёт речь, бытовало мнение, что мужчины видели в своих жёнах только домохозяек и соседей по постели. Теперь же, с появлением феминизма, мы видим другую расстановку сил. Как бы то ни было, гольф был началом конца, и только прочтя книгу Агаты, я понял наконец, почему она с таким жаром вытаскивала из меня обещание никогда не играть в эту игру.
Для Агаты, как и для большинства жён, товарищеское общение в браке было необходимым элементом счастья. Ей было важно делиться впечатлениями и чувствами, делиться радостью. Её мужу, Арчи, было достаточно получать удовольствие от того, что делаешь. Он считал, что как-то нелепо и неловко постоянно говорить о своих чувствах. Дружескую беседу и непосредственное веселье в гостях он называл глупым поведением, хотя сам обладал живым чувством юмора. Но причиной расставания стала именно потеря товарищества. Агата попробовала себя в писательстве. Эти ранние, совсем ещё сырые истории, действие которых происходило в Уэльсе, были от начала и до конца плодом её воображения. «Может, тебе попробовать писать о том, в чём ты разбираешься? — таков был совет мужа. — Или сначала попробовать разобраться. Ты же ничего не знаешь об Уэльсе». Более проницательный потенциальный издатель высказал противоположное мнение. «Вы — прирождённая рассказчица, — сказал он. — Вы можете заставить читателя поверить во что угодно. Лучше пишите о мире, о котором ничего не знаете». Это был правильный совет, и скоро Агата уже прилично зарабатывала детективными историями. Поначалу она писала, чтобы спастись от скуки, сбежать из реальности — это желание было порой столь же сильным, как и желание отправиться в путешествие — в Персию, в Исфахан и в Шираз, даже в Белуджистан. Но в такие далёкие края, считала она, ей никогда не удастся поехать. И всё же это была простая неудовлетворённость, обычное дело для большинства браков. Агата и подумать не могла о жизни без мужа, в браке с которым она прожила одиннадцать лет и от которого девять лет назад родила любимую дочь.
Внезапно грянул гром. Агата была в отъезде, когда умерла мать, которую она так любила и на которую так полагалась. Сестра просила Агату приехать как можно скорее, но та всё равно не успела проститься. Она ехала в поезде в сторону дома, как вдруг почувствовала уверенность, что мамы больше нет — абсолютный холод и одиночество. Агата посмотрела на часы. Позже она узнала, что мать её действительно умерла в это время. Кроме ужасающего чувства одиночества, на плечи Агаты легла печальная и трудная задача — освободить дом в Девоне от хлама, копившегося не одно поколение. Именно в это время Арчи страстно полюбил другую женщину.
Есть один мрачный и грустный закон жизни: беда не приходит одна. Убедиться в его правдивости довелось и Агате. Она была полностью захвачена горем своей потери, когда Арчи сообщил, что полюбил другую и пути назад нет. Новость стала для Агаты неожиданным, сокрушительным ударом: она абсолютно ни о чём не подозревала. Это была личная и социальная трагедия, сюжет в духе драм Ибсена. Законы о порядке расторжения браков тех времён кажутся нам теперь почти невероятными, и я считаю, что покойный А. П. Герберт сыграл решающую роль в осуществлении их реформы. Ситуация улучшилась, но остается пагубной для стабильности брака.
Для Агаты с её крайней чувствительностью шок оказался слишком сильным. Она погрузилась в полное отчаяние, перенесла потерю памяти и чуть не дошла в своих действиях до саморазрушения. Я не вижу необходимости пересказывать события, описанные в «Неоконченном портрете». Эта история до сих пор пробуждает у читателя глубочайшее сочувствие. Скажу только, что горе не может длиться вечно. Поддержка преданных друзей и свойственный Агате интерес к жизни понемногу исцелили раны, хотя следы от глубоких шрамов полностью так никогда и не исчезли. Четыре года спустя Агата снова вышла замуж, и мы вместе испытали всю радость дружбы, которая росла и крепла на протяжении сорока пяти лет нашего союза.
За трагическим концом первого брака Агаты следует любопытный эпилог. Арчи, нужно отдать ему должное, был прирождённым военным, человеком исключительных способностей. Он получил звание полковника Королевского лётного корпуса, стал кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия и был награждён орденом «За выдающиеся заслуги». Останься Арчи на службе, он мог бы достичь высших чинов, но он хотел зарабатывать деньги и предпочёл Сити, где сделал в итоге неплохую карьеру. Жена Арчи умерла после шестнадцати лет брака, и Агата, в то время уже живущая собственной счастливой жизнью, написала ему доброе письмо, выражая соболезнования. Он ответил на письмо — написал, что очень тронут тем, что она не держит на него обиду за эти шестнадцать лет, проведённые не с ней. Так, на этой дружелюбной ноте, и завершился их тяжёлый разрыв.
Единственная дочь Агаты и Арчи, Розалинда, вышла в 1940 году за Хьюберта Причарда. Прирождённый солдат с поэтической жилкой, он трагически погиб в Нормандии вскоре после Дня высадки союзных войск.
В 1949 году Розалинда счастливо вышла замуж за Энтони Хикса, и тот стал добрым отчимом и советчиком её сыну Мэтью, прирождённому спортсмену. Мэтью был капитаном команды по крикету в Итоне, и ему не хватило всего нескольких очков до сотни, когда они играли на стадионе Лорда против Хэрроу. За игрой с восхищением наблюдал знаменитый директор Итона Роберт Бирли. Сейчас Мэтью уже за тридцать и у него трое детей. Он был самым молодым шерифом графства Гламорган, а по стечению обстоятельств и последним, так как это графство было впоследствии разделено на три части. Мэтью унаследовал гостеприимство и весёлый нрав своей матери Розалинды, чьё обаяние, дружелюбие и прекрасные манеры в сочетании с художественным вкусом и талантом вести хозяйство эффективно и без суеты сделали Гринвей по-настоящему счастливым домом.
Но я должен вернуться к Энтони Хиксу. Энтони напоминает мне Дэви, очаровательного ипохондрика, персонажа двух романов Нэнси Митфорд — «В поисках любви» и «Любовь в холодном климате» — единственного, кто мог безнаказанно возражать дяде Мэтью и которого этот старый бык почитал за оракула. Дэви так и сыпал самыми неожиданными малоизвестными фактами, особенно в области предметов антиквариата, и всегда был готов распознать упадок в вещах, а также в себе самом и своих необычных разговорах, служивших постоянным развлечением тем, кто с ним общался. Всё это очень похоже на Энтони.
Ухаживая за Розалиндой, Энтони навещал её в Гринвее. Он проводил большую часть времени за чтением огромного тибетского словаря — книги, из-за которой я потерял немалую сумму денег. Мой друг Родни Каннройтер, бывший в то время у нас в гостях, поспорил со мной на пять фунтов, что такая огромная книга наверняка представляет собой пособие по тибетскому языку для кладовой дворецкого. Он угадал правильно, и я не перестаю этому удивляться. Как бы то ни было, Энтони в то время изучал тибетский язык и санскрит в Школе востоковедения и африканистики, и если бы он захотел, то мог бы преподавать эти предметы. Проведя во время войны какое-то время в Индии, он начал глубоко интересоваться восточными религиями. По образованию Энтони был адвокатом, но мысль о практике была ему противна. Он был достаточно умён, но, думаю, для этой профессии не подходил по характеру. Ему недоставало быстроты реакции, а это качество очень полезно в суде. Энтони был прирождённым учёным, человеком глубоких и широких интересов, и в некоторых областях он разбирался лучше многих профессионалов, но, наделённый блестящими способностями, он был начисто лишён честолюбия. Думаю, что Энтони — самый добрый человек из всех, кого мне довелось встречать в жизни. Он не обидел бы и муху, в буквальном смысле, потому что его привлекал буддизм. В конце концов он занялся садоводством и принёс немалую пользу Гринвею, не только благодаря своему знанию растений, но и благодаря врождённому деловому чутью.
Поселившись в Гринвее, мы поначалу столкнулись со множеством проблем: ни я, ни Агата понятия не имели, как ухаживать за этим редким садом, который был заброшен около двух лет и за это время частично превратился в джунгли. Единственный наш садовник, Хэннафорд, родившийся и выросший в Девоне, не отличался трудолюбием, но он шёл вместе с домом, упомянутым еще в Книге Страшного Суда[74], и должен был умереть на этой земле, как и его терьер-полукровка, на которого он был, кстати, очень похож.
В Гринвее прекрасен каждый уголок, и особенно приятно знать, когда было посажено то или иное редкое растение. В 1921 году была высажена в землю великолепная Magnolia delavayi (Магнолия Делавея). С тех пор это прекраснейшее растение прибавляет примерно по футу в год. Перед домом растёт восхитительная белая Magnolia Conspicua (Магнолия голая), она ещё старше, а ароматной Magnolia Grandiflora (Магнолии крупноцветковой) с листьями цвета красного дерева, растущей за окном гостиной, уже сравнялось сто лет. В 1950 году мы сами имели удовольствие посадить замечательную Magnolia Veitchii — она радует глаз смотрящих от парадного входа — и, возле теннисного корта, самую прекрасную из всех — Magnolia Campbellii (Магнолию Кэмпбелла), на которой, если февраль выдаётся мягкий, распускается тысяча тёмно-красных бутонов. Как мы и рассчитывали, она зацвела на двадцать пятом году. В 1945 году, на момент посадки, ей было около семи лет. Но все наши редкие кусты и деревья уступают по красоте зелёным берегам, покрывающимся в положенное время примулами и колокольчиками — это воистину божественное зрелище. Не знаю, долго ли продержится Гринвей в условиях сегодняшней мрачной экономической ситуации, но кто знает, возможно, как сказал Китс, прекрасное пленяет навсегда.
Агата описала Гринвей, дав ему другое название, в романе «Причуда мертвеца»; видевший сад читатель найдёт в книге знакомые объекты. И именно о книгах Агаты я расскажу в следующей главе.
Глава 13. Книги Агаты
На момент написания этих строк из-под пера Агаты вышло уже восемьдесят пять книг — по одной на каждый прожитый год. Мало кому удавалось побить этот удивительный рекорд. В чём причина такой плодотворности? Я думаю, что дело в постоянной работе воображения. С самого раннего детства Агата жила в собственном придуманном мире, населённом плодами её фантазии. Почти с младенческих лет ей периодически снился страшный Человек-с-ружьём, и маме и заботливой няне приходилось её утешать. Но, к счастью, Агату окружали и другие многочисленные воображаемые персонажи — добрые друзья, вместе с которыми она переживала захватывающие приключения. Мать Агаты тоже была прекрасной рассказчицей. Она постоянно придумывала и рассказывала увлекательнейшие истории, правда, потом никогда не могла их вспомнить. «Мама, расскажи мне сказку про свечку!» — «Я её не помню, милая», — и она тут же придумывала совершенно новую, не менее странную историю. Агата, когда пришёл её черёд, с такой же находчивостью сочиняла сказки для своего внука Мэтью: «Расскажи мне, пожалуйста, что ещё приснилось кролику!»
Когда Агата стала знаменита, ей время от времени стали писать фанаты, предлагая сюжет — кто даром, а кто и из корыстных побуждений. Она отвечала всем одно и то же: самое большое удовольствие писатели получают, придумывая сюжеты; всё остальное — тяжёлый труд. Если вы придумали хороший сюжет, оставьте его себе. И действительно, в блокнотах Агаты можно найти краткие наброски по меньшей мере полудюжины заброшенных сюжетов, не законченных, потому что она увлеклась уже новой идеей. Жизнь Агаты была безграничным полётом фантазии. Неудивительно, что иногда ей хотелось писать стихи и что её первый стихотворный сборник назывался «Дорога грез». Последний сборник, «Стихотворения», вышел в 1973 году.
Наверное, самое очаровательное произведение Агаты и одно из самых необычных — это небольшой цикл историй на религиозную тему, написанный на святки, озаглавленный «Звезда над Вифлеемом» (1965). Эти добрые истории доставили многим читателям чистое удовольствие. Их справедливо можно назвать библейскими детективами. Не менее удачным получился экскурс в жизнь археологов — «Расскажи мне, как живёшь». Это рассказ о буднях археологической экспедиции, работавшей в Северной Сирии в 1935–1938 годах. В книге описаны сцены, которые покажутся знакомыми любому археологу-востоковеду, причем описаны в высшей степени комично. В этом романе сполна проявился присущий Агате талант рассказчика и умение с юмором пересказывать диалоги, происходящие между самыми разными людьми в разных необычных ситуациях. Эта исключительно интересная книга переиздавалась много раз, в очередной раз — в 1975 году. Многим людям довелось принять участие в раскопках на Востоке, но мало кто смог рассказать об этом в такой увлекательной форме.
Другие жанры, в которых пробовала себя Агата, представлены, в частности, рассказами, объединёнными под общим названием «Таинственный мистер Кин», впервые опубликованными в виде сборника в марте 1930 года. Это детективные истории с долей фантастики, граничащие со сказкой, — самобытный продукт удивительного воображения Агаты. Таинственный мистер Кин, невидимо присутствующий в рассказе и вмешивающийся в сюжет в самый ответственный момент, появляется словно из ниоткуда и, не оказывая явной помощи, вдохновляет мистера Саттерсуэйта, помогая ему найти выход из любой занимающей его ситуации. Мистер Саттерсуэйт, настоящий сноб, вращающийся в основном в высших аристократических кругах, ценитель искусства, в нужный момент появляется на месте событий, обычно — убийства. Его любимое занятие — «открывать ставни и смотреть сквозь оконное стекло в самую суть человеческих жизней».
Два моих любимых рассказа — «Душа крупье», повествующий о гордости и унижении, и «Человек из моря», в котором приводится серьёзный довод, почему следует предотвращать любые самоубийства. Та же тема затрагивается и в романе «Час ноль». Самый очаровательный рассказ — «Тропинка Арлекина», он завершает эту серию. В историях о мистере Кине нашла отражение любовь Агаты к музыке и её зарождающийся интерес к современному искусству. Последний рассказ из этого цикла, «Чайный сервиз „Арлекин“», был опубликован отдельно в третьем томе антологии «Детективы Винтера» (Macmillan, 1971).
Ещё один удачный тип художественного рассказа, опробованный Агатой, представлен циклом историй, собранных под общим заглавием «Расследует Паркер Пайн» (1934).
Мистер Паркер Пайн — уникальный консультант, умеющий с помощью научного подхода улаживать сердечные дела. Одна из моих любимых историй — «Случай с женщиной средних лет», в которой успешное вмешательство со стороны мистера Пайна помогает даме не потерять мужа, хотя, казалось, всё было против неё.
Два рассказа посвящены конкретным, реально существующим местам. Один из них — «Дом в Ширазе», художественное воспоминание о нашем посещении этой одинокой обители в 1933 году. Дом удивляет посетителей совершенно неожиданным расписным потолком. Часть панелей на потолке иллюстрирует поездку хозяина в Англию в восьмидесятых годах XIX века, на одной из них изображён Холборнский виадук. Мне кажется, сейчас этот дом использует шах в качестве летнего дворца. Посвящённый ему рассказ Агаты отличается оригинальностью и может считаться шедевром психологического рассказа. Другой рассказ о реально существующем месте называется «Ценная жемчужина». Он написан по мотивам поездки в Петру, которую мы совершили приблизительно в то же время. Серия, посвящённая мистеру Паркеру Пайну, также демонстрирует невероятный диапазон воображения Агаты.
Мужу не подобает выступать в роли критика книг жены, и я не ставлю перед собой такой цели, тем более что не обладаю достаточными знаниями для этой роли, хоть и прочёл все её произведения и получил от чтения не меньше удовольствия, чем среднестатистический читатель. Что касается критики, то мне кажется, литературный критик, пишущий о детективах, находится в невыгодных условиях, потому что перед ним стоит задача ни за что не выдать разгадку. Основные составляющие хорошей детективной истории — постановка задачи и умелое, шаг за шагом, распутывание клубка, часто очень сложного. Литературный анализ может испортить читателю всё удовольствие от чтения. У меня есть подозрение (возможно, я не прав), что критик детективных произведений либо жулик, либо дурак. Поэтому я позволю себе ограничиться несколькими замечаниями о том, какое влияние оказали рассказы на меня лично и о моём отношении к некоторым из них.
Поклонники часто пишут Агате и, назвав свои любимые произведения, спрашивают, какие из них больше всего нравятся ей самой. Она отвечает, что часто меняет своё мнение, но, как правило, упоминает «Убийство Роджера Экройда» (1926), «Бледного коня» (1961), «Указующий перст» (1943) и «Ночную тьму» (1967). Последняя книга относится также и к числу моих любимых: в какой-то степени из-за построения сюжета и глубокого понимания извращённого характера персонажа, который имел возможность обратиться к добру, но выбрал путь зла. Неявное исследование добра и зла присутствует в большинстве произведений Агаты — в сочетании с самобытным и интуитивным пониманием психологической подоплёки. В «Ночной тьме» драма усиливается благодаря атмосфере «Цыганского подворья» — участка земли, на который наложено проклятье. Агате показали такой участок среди валлийских пустошей, и это произвело на неё глубокое впечатление. По книге сделали множество красивых фотографий и сняли фильм, но постановка, на мой взгляд, вышла сложной, персонажи утратили глубину, и для Агаты, как и для многих её читателей, всё впечатление испортила вставленная в конец эротическая сцена, абсолютно далёкая от авторского замысла.
Работая над другим своим любимым романом, «Бледным конём» — название отсылает к Откровению Иоанна Богослова, — Агата получила специфическое удовольствие, использовав яд, подсказанный ей одним американским врачом. Смерть от этого яда могла выглядеть совершенно по-разному, но был один неизменный симптом, позволяющий догадаться, как именно была убита жертва. Чтобы узнать, что это за симптом, вам придётся прочитать книгу, в основе сюжета которой лежит научный факт. История получила редкое и необычное продолжение в реальной жизни, о чём Агата узнала из письма своей поклонницы, пришедшего из одной латиноамериканской страны и датированного 15 июня 1975 года. Отправительница письма, чьего имени я называть не стану, догадалась, что на её глазах предпринимается попытка убийства: молодая жена пыталась свести в могилу своего мужа, на протяжении долгого времени давая ему яд в небольших дозах. Письмо завершалось так: «Но в чём я совершенно, совершенно уверена, так это в том, что, если бы я не прочла „Бледного коня“ и не узнала бы оттуда о признаках отравления таллием, Х не был бы сейчас жив. Его спасло только немедленное медицинское вмешательство. Даже если бы он обратился в больницу, врачи не успели бы вовремя понять, что с ним происходит. Примите моё искреннее уважение и восхищение».
В романе «И, треснув, зеркало звенит» мы снова встречаем необычное применение профессиональных медицинских знаний — сознательное и подлое заражение человека краснухой при необычных обстоятельствах.
Действие романа «Указующий перст» происходит в отдалённой английской деревушке, в небольшом закрытом обществе людей, проводящих дни за простыми и почтенными занятиями. Сплетни, конечно, необходимы им как воздух. И вот мы погружаемся в эту среду и обнаруживаем, что здесь поработал автор злых анонимок, и его письма обернулись трагедией. Серия загадочных убийств раскрывается благодаря помощи «кого-то, кто знает всё о человеческой злобе», а именно благодаря аналитическому уму мисс Марпл. Дополнительную прелесть роману придаёт необычная любовная линия. Как это часто бывает в произведениях Агаты, запутанное преступление раскрывается с помощью оригинального и абсолютно неожиданного сюжетного хода. «Указующий перст» заслуженно остаётся любимым романом многих читателей.
«Убийство Роджера Экройда» я уже упоминал в одной из предыдущих глав. Это, наверное, одна из самых известных книг Агаты благодаря элементу неожиданности, а также благодаря тому, что действительно чрезвычайно сложно вычислить преступника. Как ни странно, основную идею романа предложил Агате в письме не кто иной, как только вступивший тогда в зрелый возраст лорд Маунтбаттен. Ещё раньше подобная мысль возникла у зятя Агаты, Джеймса Уоттса, ещё одного почитателя её таланта.
Действие двух романов разворачивается в Египте, в том числе и потому, что мы вместе посещали эту страну. В этих романах совершенно не упоминается археология, хотя некоторые места, где мы останавливались, например, Зимний дворец, и одна из наших спутниц, пожилая леди Вернон, очень любопытный персонаж, напоминают мне о нашем путешествии. Леди Вернон изображена в «Смерти на Ниле» (1937), романе, где фигурирует Пуаро. В 1946 году по этому роману была написана пьеса «Убийство на Ниле». Другая история, произошедшая в Египте, называется «Смерть приходит в конце» (1945).
Гораздо большее отношение к нашей работе имеет «Убийство в Месопотамии» (1963). Чтобы написать этот роман, Агате понадобились её знания об Уре Халдеев, а на главные роли она взяла покойного Леонарда Вулли и его авторитарную жену Кэтрин. Шаг был довольно рискованный, и Агата впервые в жизни переживала, как отреагирует прототип. К счастью, и, наверное, вполне предсказуемо, Кэтрин не узнала в персонаже черты своего характера и не обиделась. Я в этой книге выступил в роли Эммота, второстепенного, но приятного персонажа.
Если взглянуть на длинную последовательность детективных историй, вышедших из-под пера Агаты, мы увидим, что все их объединяет завораживающая читателя захватывающая манера повествования. Количество поклонников творчества Агаты исчисляется миллионами, хотя далеко не всем из них интересна собственно детективная составляющая. Романы написаны обычным разговорным английским языком, совершенным в своей простоте, прямым и непретенциозным, порой неправильным, как это часто бывает в беседе, и очень метким. В них есть юмор, драма, напряжённое ожидание — повествование захватывает читателя и не отпускает до конца. Характеры персонажей изображены умело и решительно. По мнению некоторых критиков, им недостаёт глубины, но, как метко выразился один француз, «Ce ne sont pas des caractres, ce sont des traits de caractres» — это не характеры, а наброски характеров, и тем они интереснее, потому что читателю предоставляется возможность самостоятельно заглянуть в глубину. И главное, романы отличаются невероятной изобретательностью, в них обязательно присутствует элемент неожиданности. Так часто они разочаровывают читателя, вводят его в заблуждение, а потом вдруг предлагают неожиданное и абсолютно убедительное объяснение. Агата неизменно заботится о технической стороне дела и выверяет медицинские факты, и всё, что она пишет о ядах и противоядиях, соответствует истине. Когда-то она обучалась фармацевтике, работала в больницах и профессионально разбирается в предмете. Кроме того, она всегда с не меньшей аккуратностью подходила к описанию полицейской практики, юридических вопросов и тонкостей судебного процесса и советовалась со специалистами, поэтому её книги с интересом читают даже люди со специальным образованием. За свою жизнь Агата получила тысячи писем от поклонников. Некоторые корреспонденты были настроены критически, но подавляющее большинство выражало благодарность. Большое удовлетворение получила Агата от переписки с одним адвокатом, упрекнувшим её в незнании законов наследования. Всегда очень внимательная в таких вопросах, Агата смогла доказать, что сам адвокат обладает устаревшими сведениями, закон успел измениться и её утверждения справедливы. Через минуту я расскажу об этическом кодексе, которого придержвается Агата, но коль скоро мы затронули тему характеров её персонажей, посмотрим сначала на неё в другом обличье и поговорим о Мэри Вестмакотт.