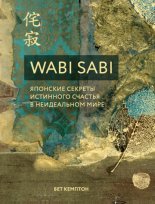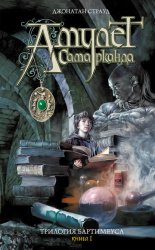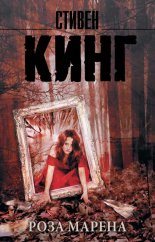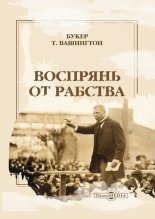Агата и археолог. Мемуары мужа Агаты Кристи Маллован Макс
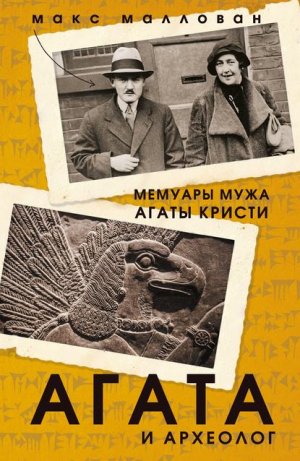
Успех Агаты в качестве автора детективных историй повлёк за собой одно неудобство: любые её попытки попробовать себя на новом литературном поле натыкались на неодобрение издателей. Ни один автор детективов не работал так долго на этом поприще. Дороти Л. Сэйерс, самая, пожалуй, известная её современница, сдалась после семи или восьми весьма успешных книг и переключилась на религию, Данте и на другие литературные жанры.
Но всё же пришло время, когда Агата вырвалась на свободу и начала писать под псевдонимом Мэри Вестмакотт. Она настолько талантливый рассказчик, что эти книги тут же были признаны удачными и приобрели широкую известность. Много лет Агате удавалось сохранять анонимность. Под именем Мэри Вестмакотт она могла рассуждать на многие интересовавшие её темы: говорить о музыке, театре, о психологии амбиций, о проблемах творческих людей. Все эти вопросы затрагиваются в «Хлебе великанов». Но я думаю, что настоящим освобождением, которое давал Агате этот новый жанр, была возможность создавать глубокие характеры, не оглядываясь на структуру детективного сюжета, которой должны быть подчинены все персонажи. В детективе, где читателю предлагается вычислить убийцу, сложно посвятить много времени изучению одного и того же характера, тем более нескольких. Под новым именем Агата была свободна от подобных ограничений.
Первым романом под псевдонимом был «Хлеб великанов» (1930); Агата посвятила его памяти матери. Это книга о композиторе, о гении, которому пришлось освободиться от всех любовных и человеческих уз, чтобы достичь цели и создавать свои шедевры. Слишком ли это высокая цена? Решать предстоит читателю. Думаю, в какой-то степени эта трагичная история была навеяна общением с музыкантом, чьи родители были хорошими знакомыми сестры Агаты — с Роджером Коуком, давно покойным. Следующим шёл «Неоконченный портрет» (1934) — частично автобиографическое, частично художественное произведение, о котором я уже подробно рассказал в предыдущей главе.
Далее вышел роман «Вдали весной» (1944). Его действие снова переносит нас в знакомые места. Главная героиня — женщина, которая возвращалась домой, побывав в гостях у дочери в Ираке, и застряла в пути из-за затопления железнодорожных путей. Сюжет построен на самоанализе персонажа. Это история о переоценке собственных убеждений, о том, как опасно всегда «знать, как лучше». Роман удостоился высшей похвалы в «Нью-Йорк таймс» от Дороти Хьюз. Она написала так: «Ни одна история не трогала меня так сильно после незабвенной „Короткой встречи“… „Вдали весной“ — настоящий шедевр, когда-нибудь он станет классикой».
Темой романа «Дочь есть дочь» (1952) стала известная жизненная проблема — скрытые отношения любви-ненависти между матерью и её единственным ребёнком, закончившиеся, к счастью, осознанием существующей между ними связи и итоговым примирением.
Роман «Бремя любви» (1956) рассказывает о том, как тяжело любить и быть любимым, о том, как запросто можно пренебречь мудрым советом. Это ещё одна история, рассказанная в интроспективе, в конце которой оказывается, что полное спасение невозможно.
«Роза и тис» (1947), на мой взгляд, самый сильный и драматичный из романов, его называли любовно-приключенческим. Центральная фигура истории — некий Гэбриел, храбрый и чрезвычайно амбициозный человек, способный сотворить много добра и принести много зла, воин, награждённый Крестом Виктории, умеющий страдать и готовый к высшему самоотречению. В этой книге мне очень понравился образ аристократичной леди Трессилиан и чётко показанный контраст между ней и столь же аристократичной Изабеллой, с одной стороны, и ухажёром-простолюдином — с другой. Эта книга тяготеет к классике, и ей не суждено кануть в прошлое.
Романы Мэри Вестмакотт неоднородны по качеству, но каждый из них достоин внимания читателей, и в каждом присутствует исследование человеческих характеров, неизменно увлекательное благодаря удивительному таланту Агаты рассказывать истории. В любом случае все эти книги отличаются драматизмом, и сюжет их построен вокруг решения проблем, возникающих в моменты наивысшего напряжения. Жаль, если они потеряются на фоне всеми любимых детективов. Впрочем, думаю, что этого не случится.
Вернёмся к детективам. В чём секрет их сногсшибательного успеха, чем они покорили около двух миллиардов читателей[75]? Во-первых, тем, как умело рассказывается история, как держит читающего в напряжении непрерывная нить рассказа: закончив главу, вы не можете остановиться и открываете следующую, отложить книгу невероятно сложно. Я знаю только одного писателя, наделённого этим даром в той же мере, что и Агата, — это Грэм Грин. Стиль её повествования разговорный, как и в реальной жизни, и я осознавал это со всей ясностью, когда мне приходилось слышать, как Агата работает с диктофоном. «Кто зашёл к нам сегодня?» — спрашивал я себя, когда из маленькой столовой на нижней площадке нашего дома в Уоллингфорде до меня доносилась оживлённая беседа.
Именно такое впечатление у меня было, когда Агата работала над своим последним романом, «Вратами судьбы» (1973). Сыщикам Томми и Таппенс, которые были напарниками во время Первой мировой войны, теперь перевалило за семьдесят, и они вернулись, чтобы снова радовать многочисленных читателей. Хронология этого романа была не очень хорошо продумана, но ещё одно удовольствие от чтения книг Агаты заключается в том, что иногда (довольно редко) проницательный всезнайка, не способный ничего написать сам, может обнаружить ошибку в тексте.
Дополнительную прелесть романам придают сыщики, давно уже ставшие кумирами любителей детективного жанра — Пуаро и Гастингс, его друг и партнёр, исполняющий при нём ту же роль, что Ватсон при Шерлоке Холмсе. Лучше всего их отношения описал сам Пуаро: «Иногда, Гастингс, я жалею, что у меня такие твёрдые принципы. Было бы интересно для разнообразия поработать не на закон, а против него». «Как я скучаю по своему другу Гастингсу! У него такое богатое воображение, он такой романтик! Конечно, его заключения всегда ошибочны, но этим он и наводит меня на верный путь». В какой-то момент Пуаро порядком надоел Агате, с его маленькими серыми клеточками, с его шутовством, эксцентричным поведением, с его нелепыми манерами и тщеславием, но он так полюбился читателям и издателям, что ей не позволили его забросить. Хотя последнее дело Пуаро, «Занавес», было написано много лет назад, опубликовали его только в 1975 году. Это небольшой, но блестящий рассказ, образец исключительного литературного мастерства с драматичным и в высшей степени удачным финалом.
Но всё же общепризнанной любимицей публики остаётся мисс Марпл, мудрая старая дама, которая сидит в своей маленькой гостиной и тихо наблюдает за всем, что происходит вокруг. Мисс Марпл — безжалостно проницательный наблюдатель, гений логических умозаключений и предсказаний, обманчиво мягкая, но достаточно язвительная пожилая женщина. Превосходный знаток человеческой натуры, она смотрит на мир с хорошо замаскированным цинизмом. Этот кроткий, но решительный персонаж занял прочное место в сердцах читателей. Ещё одна история о мисс Марпл, «Спящее убийство», была опубликована уже после смерти автора, и если её ждёт такой же успех, как и «Занавес», это будет новый рекорд.
И последняя в списке воображаемых сыщиков — миссис Оливер. Она изображена очень условно, но образ срисован с самой Агаты, например, в романах «Слоны помнят долго» (1972) и «Карты на стол» (1936) — кстати, это очень удачная история. Притворная рассеянность миссис Оливер — один из её козырей. В романе «Карты на стол» очень хорошо описаны мучения и тяжкий труд писателя, и я думаю, Агата включила в текст этот отрывок, чтобы развеять иллюзии поклонников, часто восклицавших в письмах, как, должно быть, чудесно и приятно быть писателем.
Нет, однако, никаких сомнений, что самый известный из придуманных Агатой сыщиков — Эркюль Пуаро. После выхода фильма «Убийство в Восточном экспрессе» его слава достигла самых удалённых уголков света.
Глава 14. Восточный экспресс
Не знаю, есть ли на свете занятие более захватывающее, чем путешествие на Симплонском Восточном экспрессе. Сквозь одну страну за другой, проносится он на своём пути, оставляет позади Европу и через просторные равнины и горы Малой Азии устремляется в Сирию. Чистым счастьем было любоваться постоянно меняющимся пейзажем, расположившись на уютной койке спального вагона или, ещё лучше, устроившись возле огромного застеклённого окна вагона-ресторана. Именно там со мной произошёл однажды забавный случай.
Я сидел за ланчем с тремя попутчиками. Одним из них был выдающийся французский археолог Клод Шеффер, направляющийся на раскопки в Угарит, в то время как я ехал в Шагар-Базар. Вдруг ассистент Шеффера Жорж Шене наклонился через стол и спросил меня:
— Вы читали «Убийство Роджера Экройда», детектив Агаты Кристи?
— Как же, читал, — ответил я. — Очень необычное и примечательное произведение.
— А «Человека в коричневом костюме» и «Убийство в Восточном экспрессе» вы читали? — продолжал он.
— Читал, а также я читал и все прочие произведения Агаты Кристи, потому что я, видите ли, её муж.
Мой собеседник поверил мне не сразу — отчасти потому, что наши товарищи были в курсе ситуации и думали, что он шутит, задавая мне эти вопросы.
Если же говорить серьёзно, я очень горжусь «Убийством в Восточном экспрессе», романом, который, как написано на авантитуле, был посвящён мне в 1933 году. Горжусь, кроме всего прочего, ещё и потому, что сам подсказал Агате новый способ участия в убийстве, использованный в книге, но не расскажу, какой именно, чтобы не испортить вам удовольствие от чтения. Агата же, как обычно, выбрала неожиданное и очень удачное место действия — определённый поезд, которого, увы, давно уже нет. Большая удача, что Агате вообще довелось написать эту книгу, потому что незадолго до того она поскользнулась на обледеневшей платформе вокзала Кале и упала под поезд. К счастью, оказавшийся рядом носильщик успел вытащить её раньше, чем поезд пришёл в движение.
Это был удачный роман. Его с удовольствием прочло бесчисленное множество читателей, благодаря чему мы получили возможность установить неслыханный рекорд: когда в 1974 году по книге сняли фильм, он стал самой успешной экранизацией за всю историю. С огромным удовольствием наблюдали мы, как вновь возвращается к жизни давно уже прекративший своё существование Восточный экспресс, а актёрский состав, куда вошли исключительно звёзды кино, смотрелся неожиданно гармонично. Альберт Финни хоть и был совсем не похож на Пуаро, но сыграл блестяще. С технической точки зрения руководство актёрами в замкнутом пространстве коридора поезда было выполнено гениально, и визуально обнаружить сложную разгадку сюжета было проще, чем в книге. Сама Агата всегда с неодобрением относилась к экранизациям своих книг, но была вынуждена удостоить сдержанной похвалы этот фильм, который, согласно рецензии «Таймс», был «трогательно верен» миссис Кристи. По словам того же критика (Дэвида Робинсона), экранизация «в полной мере соответствует уровню произведений Агаты Кристи, требует тех же исправлений, вызывает то же удивление и недоверие».
Что ж, эту критику можно считать вполне справедливой, если признать, что у большинства читателей не возникает никаких сомнений: у Агаты есть дар рассказывать так убедительно, что мы физически переносимся в придуманный ею мир, сколь бы фантастичным он ни был. Сюжеты могут быть совершенно невероятными, но никто не назовёт их невозможными, и на какое-то мгновение они становятся правдой. Именно за неё и может принять автор тот травматичный переход в реальность после пребывания в мире фантазий. И, вопреки процитированному мнению, Агата заботится о правдоподобии и тщательно выверяет даже самые незначительные детали. Ручка дрогнула в руке упомянут критика, и он допустил ошибку, написав, что режиссёр фильма (Сидни Люмет) «даже не потрудился скрыть странность, которую замечает в романе читатель: Восточный экспресс изображён как невероятно короткий поезд, перевозящий так мало пассажиров». Но Агата знала по многолетнему опыту, что в поезде часто был всего один транзитный вагон, и именно поэтому каждое место приходилось бронировать задолго до даты отправления. Аккуратное обращение с подобными неожиданными деталями добавляет произведению очарования в глазах проницательного читателя.
В других фильмах, к сожалению, не обошлось без бессовестных пародий. Особенно этим отличалась прекрасная характерная актриса Маргарет Рутерфорд, категорически не подходившая на роль мисс Марпл и до смешного ассоциировавшаяся с извозчичьим стойлом. Искажения такого рода и так непрятны автору, но ещё обиднее ему становится, когда поклонники пишут, как им понравился фильм, и ни на минуту не задумываются, насколько близко данная экранизация передаёт произведение, которое лежит в основе.
В «Восточном экспрессе», однако, обошлось без подобных неточностей благодаря гениальному видению и воображению продюсера фильма, лорда Брабурна. Его огромная заслуга состояла в том, что он смог увидеть, что книга годится для экранизации. Фильм, несомненно, стал главной статьёй экспорта Великобритании в 1974 году, безусловным победителем, имевшим мировой успех. Громкая премьера состоялась в кинотеатре ABC на Шафтсбери-авеню, её любезно открыла её величество королева: на одной из фотографий в этой книге она приветствует Агату. На показе присутствовали почти все актёры, и я остался под глубоким впечатлением от обаяния и ума Ингрид Бергман, специально учившейся шведскому английскому для этой роли. Фильм выиграл три из семи наград British Film Awards в 1975 году: он был признан лучшим фильмом года, Альберт Финни был номинирован как лучший актёр, а Венди Хиллер — как лучшая актриса года.
Вечером после премьеры состоялся гала-банкет в Кларидже. Это было последнее общественное мероприятие, которое Агата смогла посетить по состоянию здоровья. Ей было тогда почти восемьдесят пять. Она получила большое удовольствие от приёма. У меня сохранилась фотография, на которой запечатлён лорд Маунтбаттен, тесть Брабурна, сопровождающий Агату из столовой около полуночи и пожимающий ей руку на прощание. Застенчивая, как всегда, Агата насладилась этим вечером от души.
Были и другие удачные фильмы, основанные на книгах и пьесах Агаты. Во-первых, «Алиби» — экранизация «Убийства Роджера Экройда», успешный фильм с Френсисом Салливаном в главной роли. Самый большой успех имела картина «Свидетель обвинения», основанная на пьесе и мастерски снятая в Америке Билли Уайлдером. В этих экранизациях блестяще сыграли два выдающихся актёра того времени, Чарльз Лоутон и Френсис Салливан, необъятный и совершенно очаровательный человек.
Некоторые пьесы Агаты по известности и популярности сравнялись с её книгами, и я уверен, что большинство критиков в первую очередь вспомнят «Свидетеля обвинения». Декорации суда Олд-Бейли действовали на зрителей магнетически: каждый чувствовал себя подсудимым. Кто видел эту пьесу, тот не сможет её забыть, а это — высшая похвала для произведения искусства. Патрисия Джессел играла блестяще, и пьеса долго бы не сходила со сцены, но число задействованных актёров, размер и неудобное расположение театра Winter Garden помешали ей находиться в репертуаре столько, сколько она заслуживала. Когда пьесу ставили в Нью-Йорке, потребовалось немало усилий, чтобы убедить руководителей постановки не переносить действие из Олд-Бейли в Палату лордов. Это единственный известный мне случай в Лондоне, когда Агата испытала восторг и волнение, сопутствующие премьере: с самого начала было понятно, что это победа, а в конце спектакля все актёры в унисон поклонились ей, автору пьесы. Питер Сондерс, импресарио этой великолепной пьесы, никогда не скупившийся на постановки, сказал, что в жизни не видел подобного финала, в котором все, как один, выражали искреннее восхищение.
На мой взгляд, если «Свидетель обвинения» — лучшая пьеса Агаты, то следующее за ней место принадлежит гораздо менее известной пьесе, «Лощине». Мне довелось видеть только одну достойную постановку этого произведения, она была выполнена в 1973 году в Торки, в «Театре принцессы». Под чутким руководством Чарльза Ванса спектакль ожил, приобрёл целостность. История поддерживала интерес зрителей от начала и до конца представления, а этого нелегко добиться, когда на сцене происходит расследование и необходимо, чтобы зрители следили за ним со всем вниманием, но без чрезмерного умственного напряжения. В этом спектакле не были задействованы звёзды, но актёры работали слаженно и добились успеха. С другими постановками «Лощины» всё было наоборот — например, в Лондоне в пьесе играла знаменитая комедийная актриса Жеан де Кассали, и она от начала и до конца вела себя как пчелиная королева и мешала остальному улью.
Годы спустя в Гилфорде я видел эту роль в исполнении милой и обаятельной актрисы Сайсли Кортнейдж. Зрители любили её дурачества, но мне показалось, что своим выступлением она погубила пьесу. Зрители пришли ради Сайсли, а не ради Агаты. Конечно, залу понравилась её игра, но мои бурные аплодисменты были адресованы Джеку Хальберту, сыгравшему совсем небольшую роль дворецкого. Он играл великолепно и показался мне выдающимся актёром. Но стоило мне взглянуть на Сайсли, и я вспоминал, как часто постановка становится битвой между драматургом и актёром и как сложно бывает продюсеру примирить эти две враждующие стороны. Если мира удаётся достичь — это настоящий профессиональный триумф для продюсера.
Пьеса «Лощина» была блестяще сделана на основе книги самой Агатой, и по тому, как она написана, видно, насколько Агата чувствует театр. Интересно сравнивать книгу, вышедшую в 1946 году, с пьесой, поставленной Пьером Сондерсом в 1951 году в театре «Fortune». Агата в полной мере использовала драматический потенциал романа, убрала из сюжета всё, без чего можно было обойтись, а заодно исключила из него и Пуаро, который фигурировал в романе. Сама книга, на мой взгляд, не относится к числу лучших: повествование не очень связное, в тексте много «воды», — но она содержит несколько романтических линий, и женские характеры описаны с большой проницательностью, с чисто женским чутьём, свойственным автору. В романе есть биографические моменты, о которых мне нравится вспоминать. Факты немного искажены, но в целом всё более или менее так и было. Сэр Генри вспоминает один неприятный инцидент, произошедший на берегу Босфора: «На нас напали бандиты, это было на азиатском берегу Босфора. Двое бросились на меня и хотели перерезать горло. Вмешалась Люси и выстрелила прямо в кучу тел. Я даже не знал, что у нее есть оружие. Одному из напавших на меня пуля попала в ногу, второму — в плечо. Можно сказать, что мне здорово повезло. До сих пор не понимаю, как она меня не ранила». Это совершенно правдивый эпизод, и единственная разница в том, что у Агаты, в отличие от леди Энгкетл, был в руках не пистолет, а булыжник, который она собиралась обрушить на голову моего противника. Никогда ещё я не был так близок к смерти от попадания камня в голову. К счастью, в те годы я был довольно силён. Нападавшие испугались и убежали. Я тем больше обрадовался их бегству, потому что как раз незадолго до этого эпизода заходил в банк и мои карманы были набиты турецкими лирами. Ещё в «Лощине» мне очень нравится один пассаж о Пуаро: «Деревья раздражали его своей отвратительной привычкой терять листья осенью. Тополя, ровно стоящие вдоль аллеи, — это еще ничего. Но лес, где бук и дуб растут так, как им заблагорассудится, — это нелепо! Такой ландшафт больше всего нравился ему из окна автомобиля, едущего по хорошей дороге»[76]. Другая моя любимая цитата звучит так: «Скульптору первой приходит в голову правда. Сколь бы горькой ни была правда, с ней можно смириться и вплести её в узор жизни».
И наконец, мы добрались до «Мышеловки», пьесы, которая так долго не сходит со сцены, что давно уже побила мировой рекорд. Её неслыханный успех не мог ускользнуть от внимания этого зеленоглазого монстра — зависти. Ревнивые критики сочли непростительным оскорблением тот факт, что одна и та же пьеса может столько времени занимать место в репертуаре. У меня подобные злопыхатели вызывают мало симпатии.
Сама Агата предсказывала, что «Мышеловка» продержится на сцене этого очаровательного миниатюрного театра «Амбассадорс» не более трёх месяцев, и мало кто, кроме, пожалуй, Питера Сондерса, думал иначе. В итоге 24 ноября 1975 года пьеса встретила свой двадцать третий день рождения. Множество различных факторов должно было совпасть для обеспечения ей столь феноменального успеха, и это помимо гениальности автора, которую так легко упустить из виду. Во-первых, нам сыграл на руку сравнительно небольшой размер театра: он вмещал не более пятисот зрителей (четыреста девяносто, если быть точным). Театр «Сент-Мартинс», расположенный в соседнем здании — туда переместили пьесу впоследствии, — вмещал пятьсот пятьдесят зрителей. Когда «Мышеловка» набрала популярность, за билеты шла борьба, люди яростно стремились попасть на спектакль. Питер Сондерс, поставивший пьесу, умело воспользовался ситуацией. Никто не справился бы с задачей лучше: Питер обладал исключительным организаторским талантом и чувством аудитории и у него хватало мужества не сдаваться в трудные времена, а трудные времена, конечно, тоже бывали. Другим удачным обстоятельством было то, что в первом актёрском составе играли две звезды театра первой величины — Ричард Аттенборо и его прекрасная супруга Шейла Сим, оба очень приятные люди и великолепные актёры с безошибочным чувством времени. Они стали первыми в длинной череде актёрских составов, сменившихся за двадцать пять лет со времени премьеры в 1952 году. На сегодняшний день в пьесе сыграли не менее ста тридцати двух человек.
Когда «Мышеловка» набрала обороты, ничто уже не могло пошатнуть её позиций. Она стала обязательным пунктом «американского тура» наравне с Букингемским дворцом и с посещением Тауэра. Один мой друг, доктор Вернер, бессменный директор исследовательских лабораторий Британского музея, сводил жену на «Мышеловку» вскоре после свадьбы, когда ещё не прошло и года с момента премьеры. Через семь лет он сходил на спектакль с дочерью, а через двадцать один год привёл внучку. Так пьеса охватила несколько поколений.
Действие «Мышеловки» разворачивается в типично английской обстановке, в доме под названием Монксуэлл-мэнор, в довольно неумело организованном загородном пансионе. Зима в самом разгаре, и гости, застигнутые снегопадом, не могут покинуть дом. Холод пробирает до костей, и мы чувствуем их отчаянное стремление согреться. Тревога, удивление, растерянность и напряжённое ожидание развязки, раскрытия убийства не отпускают нас до конца. Но это не всё. Главное — это чувство уюта, ощущение принадлежности к английской атмосфере. Мы становимся одними из них, своими, как это бывает на спектаклях Гильберта и Салливана, где зрители ожидают шуток с радостным предвкушением. На «Мышеловке» атмосфера не менее заряжена, и все иностранцы, пришедшие посмотреть представление, попадают под её очарование. Я был приятно удивлён, посмотрев французскую постановку пьесы — она шла в парижском театре «Hebertot» под названием «La Souricire»[77]. Я ожидал, что французская аудитория придёт в недоумение, будет сбита с толку английскими реалиями и полицейским делопроизводством, но зрители не могли оторвать глаз от сцены. Пьеса держалась в репертуаре удивительно долго, около двух лет, с 1971 по 1973 год. Одним словом, «Мышеловка» имела успех: все обстоятельства складывались для неё наилучшим образом с того самого дня, когда пьеса родилась и начала свой путь под счастливой звездой.
Не так удачно сложились звёзды для самой красивой и глубокой из пьес Агаты, «Эхнатон», с её гениально изображёнными характерами, с её драматическим накалом. Действие пьесы разворачивается вокруг личности фараона-идеалиста, религиозного фанатика, одержимого страстью к красоте и истине, безнадёжно непрактичного, обречённого на страдания и пытку, но непреклонного в своей вере и верного идеалам, несмотря на крушение всех надежд.
Эхнатон — поэт, отрицающий конкретное и тянущийся к абстрактному, хотел, чтобы Егпет отрёкся от прежней религии, от культа ложного бога Амона, установленного его предшественниками, и вместо безобразных статуй Амона поклонялся теплу солнечного диска, Атону. Он желал разрушить старые храмы, отказаться от старых богов и призывал египтян уничтожать амулеты в виде скарабеев, которые они в своей бесхитростной вере посвящали Осирису, подобно тому, как католик зажигает свечку, чтобы помолиться Деве Марии. Как все глубокие мыслители, Эхнатон опережал свою эпоху, шёл не в ногу с обычными людьми и с их традиционными представлениями, ненавидел старое жречество, стремился к миру, тогда как все вокруг стремились к войне, любил искусство, своего придворного скульптора Бека и свою изнеженную свиту. Большое впечатление производит трогательная привязанность молодого фараона к одному из воинов своей армии, Хоремхебу. Хоремхеб заканчивает древнеегипетское военное училище, ему предстоит стать генералом. Солдат, поклявшийся служить фараону и своей стране, мечется, пытаясь понять, в чём именно состоит его долг, на этом конфликте и строится сюжет пьесы. Что хуже: страдания, навязанные нам существующей властью, или же страдания приведённого в беспорядок государства, погрязшего в новых пороках? Нужно ли отречься от старых, понятных богов в пользу концепции единого абстрактного божества? Стоит ли предпочесть новое искусство, новые храмы и роскошный Дворец Горизонта (Телль-Эль-Амарна и по сей день хранит его руины) взамен древних архитектурных и скульптурных форм? Проблемы Древнего Египта актуальны и сейчас. Отвергая старое, мы неизбежно обрекаем себя на новые страдания, а вместо врагов фараона умирают люди верные и добродетельные.
На мой взгляд, ни в одной другой из пьес Агаты характеры не были прорисованы так чётко. Каждый персонаж изображён со всей глубиной и раскрывается во взаимодействии с другими. Мы видим пленительный портрет мудрой и проницательной старой матери фараона Тии, привыкшей управлять людьми, её бесплодные попытки направить на верный путь глупую красавицу Нефертити, столь любимую фараоном, что он почувствовал потребность — возможно, даже собственноручно — изваять из камня самую прекрасную голову на свете. Мы видим старого жреца Аи, наставлявшего фараона в новой теологии, но в то же время убеждавшего его отказаться от безрассудной мысли преследовать старую государственную религию.
Против фараона плетёт сеть интриг амбициозная и остроумная Незземот, сестра царицы, влюблённая в Хоремхеба и задавшаяся целью его покорить, а фараона считавшая скучным непрактичным фанатиком, ведущим Египет к гибели.
Финалом пьеса напоминает трагедию Эсхила. Именно Хоремхебу приходится признать, что у каждого человека есть свой предел, а фараон, несмотря на то, что всё вокруг него лежит в развалинах, всё равно ставит любовь к миру выше любви к своей стране. Он — как прообраз Христа: покинутый и заброшенный, но даже в отчаянии не предавший своих идеалов.
Египет между 1375 и 1358 годами до н. э. — не что иное, как древний аналог сегодняшнего мира, отражение вечно повторяющейся трагедии. Возможно, когда-нибудь эта чудесная пьеса, впервые опубликованная издательством Collins в 1973 году, будет поставлена. Знатоки театра говорили, что она прекрасна, но потенциальных импресарио отпугивала мысль о дорогих декорациях и большом числе необходимых актёров. Тем не менее я не вижу, почему бы попросту не сыграть эту пьесу без реквизита, на фоне обычного задника — как много лет назад с большим успехом играли китайскую пьесу «Lady Precious Stream». Публика в нашей стране, собственно, как и во многих других странах, уже подготовлена к этой теме, ведь совсем недавно весь мир восхищался сокровищами гробницы Тутанхамона. Вряд ли пьеса об отце Тутанхамона, Эхнатоне, покажется зрителям сложной для понимания.
Самой Агате пришлось долго готовиться перед написанием этой пьесы. До её создания, ещё в 1931 году, мы посетили гробницу в Луксоре и подружились с Говардом Картером, сардоническим и забавным человеком: мы играли с ним в бридж в отеле «Зимний дворец». Впоследствии Стивен Гленвилль, мой старый друг и один из известнейших египтологов того времени, ректор Королевского колледжа в Кембридже, посоветовал Агате литературу по теме. Этот человек — неиссякаемый источник энергии для своих друзей, он снабжал Агату аккуратно подобранными книгами, пока она не начала глубоко разбираться в предмете. «Эхнатон» написан с не меньшей исторической достоверностью, чем любая другая пьеса о прошедших событиях. Перед зрителем оживает придворная жизнь Египта и причуды египетской религии. Это безболезненный способ больше узнать о Древнем Египте и почувствовать к нему горячий интерес. У меня создаётся впечатление, что и сами персонажи пьесы подверглись тщательному анализу: они не просто работают на детективный сюжет, но каждый из них играет первостепенную роль в развитии настоящей исторической драмы. Текст пестрит прекрасными отрывками из древнеегипетской поэзии, а на суперобложке книги изображена малоизвестная статуя фараона — яркое изображение впечатлительной и тонкой натуры.
Глава 15. Секрет мастерства
В целом, я думаю, главное, что вызывает непреходящий и вдумчивый интерес у поклонников творчества Агаты, — это психологизм её книг, понимание человеческой натуры и суждение о ней, честное, без преувеличений, набросанное лёгкими штрихами. «Час ноль» — хороший пример романа, в котором искусно исследован человеческий характер. Умело построенный сюжет разворачивается в Салкоме, в устье реки Йелм; читатель может узнать характерные черты ландшафта. Теперь это место паломничества для тех, кто хочет ознакомиться с местом совершения самого хитроумного преступления.
Один из моих любимых романов — «Карты на стол» (1936). Мне он нравится изобретательностью сюжета. В истории задействованы всего четыре персонажа, один из них совершил убийство, и, несмотря на кажущуюся простоту ситуации, очень сложно вычислить виновного. По личным мотивам я люблю «Десять негритят» (1939) — один из немногих романов, в которых мне удалось с уверенностью указать на убийцу по чисто психологическим причинам. Роман был прочитан и впервые опробован на одном приёме в Девоне, и как же возмутилась Агата, когда я выиграл приз за то, что отгадал убийцу, но отгадал, руководствуясь неверными соображениями.
Не все любят этот литературный жанр: многих останавливает врождённое отвращение к теме убийств и сопровождающей их жестокости. Наверное, это не самое подходящее чтение для людей щепетильных, но Агата всегда, возможно, и неосознанно, придерживалась принципа Горация: «Ne coram public Medea pueros trucidet» — «Пусть Медея не губит детей пред глазами народа». Этот принцип достоин восхищения. Убийство всегда жестоко, но это, к сожалению, одна из сторон жизни. Агата никогда не испытывает злорадства, никогда не описывает убийства с большими подробностями, чем того требует сюжет, не допускает пошлости. Как часто духовные лица и родители подрастающих детей восхищались чистотой её книг, отсутствием в них безнравственных и недостойных черт. Те, кто не одобряет историй об убийствах, судят поверхностно и не понимают, что книги Агаты — это современный аналог средневековых моралите, и их основная тема — выведение зла на чистую воду и привлечение преступников к ответственности, чтобы они понесли справедливое наказание за свои проступки. Задача Эркюля Пуаро, мисс Марпл и всех остальных персонажей Агаты, задействованных в расследовании преступлений, — упорное и бесстрашное преследование злодея. Здесь нет места для отступления от моральных норм. Зло нужно преследовать до конца.
Многие хвалили Агату за верность этим принципам в эпоху нравственного упадка, но ничья похвала не доставила нам больше удовольствия, чем слова, написанные Джеффри Джексоном в книге «People’s Prison» (Farber and Farber, 1973). Сэр Джеффри был послом Великобритании в Уругвае. В 1971 году на его долю выпал жестокий опыт: он был похищен членами движения Тупамарос, партизанским отрядом террористов, бросивших вызов правительству и всем, кого они относили к представителям действующей власти. Судя по всему, они стремились привлечь внимание к тому, что общество основано на порочной структуре, и с этой целью совершали акты городского насилия — такой латиноамериканский вариант ИРА. Похищенного посла держали под землёй в двух сообщающихся склепах площадью в несколько квадратных футов. Спать ему приходилось на дощатых нарах, а единственным источником света служила тусклая электрическая лампочка. Время шло, и в конце концов гнетущее одиночество слегка отступило: пленника стали обильно снабжать литературой на разных языках. Посол был человеком весьма образованным и притом полиглотом — все эти языки были ему знакомы. Заточение он переносил героически: отчасти благодаря врождённому философскому отношению к жизни, отчасти благодаря тонкому чувству юмора и умению наладить сносные отношения с похитителями за счёт глубокого понимания психологии людей и искреннего интереса к их мотивам. Эти таланты позволили сэру Джеффри переносить плен с редкой стойкостью и самообладанием, достойными представителя Королевы. Глубокая вера в Бога укрепила его моральные силы и помогла ему пережить самые чёрные часы.
Особый интерес для нас представляет глава, посвящённая книгам, поддерживающим и питающим сэра Джеффри во время тяжкого испытания. Вот отрывок, доставивший мне особенную радость: «Но полностью отрешиться от реальности я смог в тот день, когда один из моих тюремщиков спросил, не могу ли я ему что-нибудь рассказать об одной моей соотечественнице, чьи книги они получили в числе прочих, — её звали Агата Кристи. С этого момента я всегда мог сбежать, снова оказаться на родине, и мой способ был гораздо быстрее и надёжнее, чем нуль-транспортировка, столь любимая писателями-фантастами. С помощью дамы Агаты и небольшого усилия воли я в мгновение ока преодолевал бескрайнее расстояние между галактиками, противоположные измерения, свобода и заточение, встречались у врат времени, теоремы Эйнштейна и законы термодинамики, как и почти все прочие временные и пространственные формальности, можно было легко обойти. К радости, которую мне доставляли такие невероятные путешествия во времени, добавлялось отдельное интеллектуальное наслаждение: я наблюдал, как молодые революционеры, пропитанные насквозь релятивистскими взглядами на общество, тянутся к таким непреклонным защитникам нравственных ценностей, как мисс Марпл и месье Пуаро. В интеллектуальных спорах мои тюремщики неизменно показывали себя абсолютными прагматиками. В решении политических и тактических вопросов они руководствовались единственным критерием: „Сработает ли это?“ И вот, пожалуйста, — они охвачены ностальгией по вечным вопросам: „Хорошо это или плохо?“ Обоим сыщикам — мисс Марпл в большей, месье Пуаро, пожалуй, в меньшей степени — свойственна чистота, даже невинность, но они умеют распознать порок, и это чутьё заставляет их идти по следу убийцы до конца со всем упорством небесных ищеек. И всё же эти персонажи, олицетворения нравственности, вызывали безоговорочное восхищение у молодых террористов, способных при необходимости оправдать даже убийство. Я не знал, оплакивать ли мне их утраченную невинность или, опираясь на полученные доказательства, надеяться, что она утрачена не до конца».
Многие письма поклонников не только выражают благодарность, но также полны милых и проницательных замечаний. «Мы слышали, что вы можете быть строгой, и надеемся, что вы больше не разрешите снимать фильмы и ставить спектакли по своим книгам».
«Ваши книги любят и стар, и млад, и я знаю, что многие инвалиды благословляют ваше имя… Благослови вас Бог за счастье, которое вы дарите миллионам людей».
Пишет одна дама, потерявшая отца, сына и мужа: «Вы, наверное, удивитесь, но я нахожу спасение от действительности в ваших прекрасных детективах. Хорошие детективы, на мой взгляд, это не те, где описываются персонажи, единственный интерес которых — пострелять и заманить кого-нибудь в койку, а такие, как у вас. Ещё мне недавно попалась „Кошка среди голубей“ (1959), и на меня произвело огромное впечатление, как ненавязчиво и завуалированно вы умеете преподнести читателю глубокие нравственные и социальные догмы».
Среди посланий есть очень забавные, ведь некоторым читателям из других стран трудно выражать мысли на английском языке. Одно письмо из Западной Германии выглядит примерно так: «Дорогая миссис Кристи, я знаю, что миллионы человек — то есть людей — пишут вам, что вы удивительная женщина. Я хочу сказать именно это. Для меня существует не просто женщина, а Женщина с большой буквы, и она состоит из двух частей: одна из них, и первая, — это вы, Агата Кристи, а вторая часть — это Голда Майер, вы сделали меня счастливым навсегда. Вы многого добились в этом мире — и славы, и, наверное, денег. Надеюсь, дальше вас ждёт ещё больше счастья. Ваша улыбка — как солнце, как и ваша фантазия… ваша фантазия!!! Я тоже вас люблю».
Из Мексики: «Должно быть, вы получаете миллионы писем от своих почитателей, но я надеюсь, что вы будете столь благосклонны, что прочтёте ещё одно письмо от человека, у которого восхищение вашими книгами и вами лично в крови. Думаю, я унаследовал это чувство от своего деда, генерала Испанской Республики Миахи, который известен тем, что руководил обороной Мадрида во время Гражданской войны в Испании. Он очень любил ваши романы, с ними он мог ненадолго отвлечься от многочисленных забот».
«Воспользуюсь случаем, чтобы искренне поздравить вас с абсолютным успехом на литературном поприще. Я не мог не поблагодарить вас за огромную радость, которую я испытываю каждый раз, когда пытаюсь вычислить убийцу в сплетении сюжетных линий одного из ваших романов. Должен сказать, что вы и Диккенс — мои самые любимые писатели. Как можно забыть такие книги, как „Таинственный мистер Кин“, „Подвиги Геракла“ или „Ночная тьма“? Я с удовольствием читаю даже такие вещи, как, например, книга Питера Сондерса „The Mousetrap Man“, которую я купил в прошлом году в театре „Амбассадорс“, и другие книги, откуда можно больше узнать о вас. Простите, что я так плохо пишу по-английски, но я изучаю его, только когда удаётся выкроить время между химическим машиностроением и криминологией — это моё хобби».
Случались и неожиданные совпадения. Вот, например, письмо от Мери Энн Зерковски, директрисы Начальной школы Аманды И. Стаут в Ридинге, США, штат Пенсильвания: «Я только что дочитала ваш роман „Пассажир из Франкфурта“ (1970) и с изумлением обнаружила себя в роли агента под прикрытием. Я в восторге, что мне довелось сыграть такую роль, но мне слегка любопытно, как так вышло, что вы назвали своего выдуманного шпиона моим именем. Ваша книга произвела огромный фурор среди моих знакомых в Ридинге, штат Пенсильвания. Друзья постоянно звонят и пишут мне и обращаются ко мне „графиня Зерковски“».
Агата удивлённо ответила, что выбрала фамилию «Зерковски» совершенно случайно, скорее всего, вычитав её в телефонном справочнике или в газете, в колонке, посвящённой рождениям, смертям и бракам, и поздравила свою доброжелательную корреспондентку с новым титулом.
А вот письмо из городка Морсан-сюр-Орж, написанное по-французски: «Мадам, я художник, мне тридцать шесть лет. Мне недостаёт ума и утончённости месье Пуаро, и от мисс Марпл я тоже не в восторге. Но, прочитав во французских газетах, что вы самая богатая писательница в мире, я почувствовал восхищение (не без зависти), а узнав, что ваш отец в жизни своей не работал, пришёл в полный восторг! Вот так семья! Так вот почему я вам, собственно, решил написать. Это загадка, над которой вам придётся поломать голову. С уважением и восхищением». Автору этого письма было бы интересно узнать, что Агата давным-давно рассталась со своими деньгами, в основном в пользу благотворительных фондов, и не будем забывать о налогах!
Думаю, достойным завершением этой небольшой подборки корреспонденции станет письмо из Колумбуса, штат Огайо: «Я уже давно ваш преданный поклонник — с тех пор, как в двенадцать лет прочёл „И не осталось никого“ (американское название „Десяти негритят“). Я обожаю эту книгу и много раз её перечитывал. У вас прекрасное чувство юмора, и вы умеете заставить читателя поволноваться. Пожалуйста, не прекращайте писать!»
Подобные письма приходят Агате со всего света, в том числе из-за «железного занавеса». Например, у неё много поклонников в Чехословакии. Многие конверты надписаны очень странно и неполно, но так или иначе в результате добираются до автора. Часто письма адресованы, например, «миссис Агате Кристи, Королеве Детектива, Великобритания», и то, что они приходят по адресу, свидетельствует о проницательности нашей почты.
Агату справедливо называли самым скромным человеком на свете. Она совершенно лишена тщеславия, несмотря на то, что её романы переведены на большее количество языков, чем пьесы Шекспира, и что к 1973 году их предположительно прочли около двух миллиардов человек, рассеянных по всему свету. «Мышеловка» была переведена на двадцать два языка, и её видели зрители в сорок одной стране. «Не думаю, что я делаю такую уж важную работу. Моя задача — развлекать».
Будучи очень умным и цельным человеком, никогда не претендовавшим на звание интеллектуала, и полностью лишённой честолюбия женщиной, которая могла бы преуспеть во многих областях, Агата совершенно не интересовалась эмансипацией. Она всегда с искренним уважением относилась к читателям, была высокого мнения об их умственных способностях и, по её собственным словам, никогда не жульничала: «Это единственное правило писателя, которое я никогда не нарушаю». Решения её детективных задач свидетельствуют не только о богатой фантазии автора, но и о логическом и математическом складе ума. И ещё одна достойная внимания черта творчества Агаты заключается в том, что в своих произведениях она часто затрагивает новые тенденции в поведении людей. Например, в романе «Пассажир из Франкфурта» (1970) получил отражение один из первых случаев угона самолёта. По словам самой Агаты, детективный роман должен быть хитрым и интересным, как хороший кроссворд, и действительно, в этом и заключается секрет её успеха. Книги Агаты — это задачи, способные увлечь не хуже карточной игры. Они требуют от человека как раз той степени сосредоточенности, которая позволяет полностью отрешиться от окружающего мира. Самый обеспокоенный читатель, как по волшебству, становится беззаботным и может моментально отключиться от своих проблем. Это отличное успокоительное средство для всех, кто готов его принять.
Ко всем процитированным письмам благодарности я должен добавить мою собственную «Оду ко дню рождения». Эту оду я написал в честь восьмидесятилетия Агаты, которое мы праздновали пятнадцатого сентября 1970 года. В ней упоминается наш любимый пёс Бинго, доставивший нам в своё время столько радости и столько хлопот. Бинго фигурирует в романе Агаты «Врата судьбы» (1973) и изображён на задней обложке соответствующей книги.
Ода Агате на ее 80-летие
- Агата, позволь поднести тебе оду,
- Позволь огласить ею Гринвея своды:
- Укрывшись под ними от жизненных драм,
- Все, даже собачки, курят фимиам.
- Пред нами приятная добрая дама.
- Эффектна — не выпив при этом ни грамма.
- Уж восемьдесят, а ума через край —
- Попробуй тут оду достойную дай!
- Ах, нам бы хоть каплю такого ума,
- Хоть кроху подобного стиля письма…
- Все полки трещат под твоими трудами,
- Везде они, разве что не под ногами.
- Имеется восемь десятков творений —
- Не втиснуть их в оду без долгих мучений.
- Убийство, быть может, легко совершить[78],
- Но Марпл и Эркюлю придется кружить.
- И лишь иногда выпадает зацепка,
- Которой достаточно даже для Джеппа.
- Взрывается мозг от загадок твоих —
- За это мы любим и требуем их!
- Ну разве бывала значительней тайна,
- Чем тот негритенок со взглядом прощальным?
- Тобою повсюду порок осужден,
- И каждый герой для борьбы с ним рожден.
- Случается часто такая беда,
- Что гнусный злодей избегает суда,
- Что подлый убийца живет как в раю…
- Но в книгу они попадутся твою —
- А там по заслугам получат, конечно!
- Пусть зло остается в ночи бесконечной[79]!
- Недаром тебя попросила во имя
- Ее поблистать королева Мария.
- Бессмертную славу себе, а не ей
- Назначила ты «Мышеловкой» своей[80].
- От пылких поклонников и борзописцев
- Спасенье с тех пор тебе может лишь сниться.
- Иные ведь не понимают никак,
- Покуда буквально не спустишь собак:
- Как следует тяпнуть и вытрепать тех,
- Кто лезет без спросу, — для Бинго не грех;
- Все лучше, чем вечно цепляться хвостами
- И свары устраивать целыми днями.
- Сегодня собачки забыли раздоры,
- И только к тебе устремляются взоры.
- Согласны с собачьей политикой люди:
- Пусть каждый сегодня примерным побудет.
- Вот, скажем, совсем не узнать Розалинду:
- Лица за улыбкой почти и не видно.
- И надо же — Энтони бросил вино;
- Он не был таким деликатным давно.
- А Мэтью оставил детей и хозяйство,
- Чтоб только на празднике здесь показаться.
- С ним Анжела — как ей, наверное, тяжко,
- Теперь без миндалин живется, бедняжке!
- Долорес, о чудо, вся подобралась —
- Кюфту приготовить геройски взялась!
- А Сесил стал рыцарем доблестной дамы:
- Ей с противнем помощь предложена прямо.
- Глядишь, так и Питер нас всех удивит:
- Бац — и приведет себя в божеский вид.
- Пока наш лихой обладатель диплома,
- Джон, ищет посудины по всему дому,
- Патриция пусть над плитой попотеет:
- Она хоть и впрямь кашеварить умеет.
- Агата, родная, ты благословенна!
- Будь неповторимой и будь вдохновенной —
- Такою, какою любима ты миром —
- Заслуженным будь — и счастливым — кумиром!
Часть 4. Нимруд и его руины (1945–1975)
Глава 16. Институт археологии
Рассказывая о своей семейной жизни с Агатой, о её книгах и пьесах, я совсем отвлёкся от нашей археологической работы, и главное — от подготовки моей книги о раскопках в Браке и Шагар-Базаре. Я дописывал книгу с 1945 по 1947 год.
Мой добрый друг профессор Сидни Смит, гостя у нас в Гринвее, просмотрел манускрипт. Думаю, этот труд произвёл на него впечатление, потому что он вместе со Стивеном Глэнвиллем принялся подыскивать для меня академический пост. В один прекрасный день при поддержке профессора Гордона Чайлда[81] я был назначен первым профессором археологии Западной Азии Института археологии Лондонского университета.
В то время институт занимал Бьют-Хаус, дом, расположенный на внутреннем круге Риджентс-парка. В юности Агату приглашали сюда на чай. До этого я и не предполагал, как чудесно жить в ротонде: огромный купол над центральным холлом объединял находившихся под ним людей, и так как многие из нас не закрывали двери во время занятий, каждый знал, что и где происходит. Мне кажется, что архитектура мусульманской мечети оказывает такой же эффект — объединяет верующих. Христианская церковь в этом смысле устроена менее удачно: неф и два боковых придела делят собравшихся на три группы. В любом случае, старое здание института было лучше новой коробки, куда мы переехали в 1957 году, причём переезд обошёлся в полмиллиона фунтов, если не больше. На новом месте у каждого появился свой небольшой кабинет, табличек на дверях не было, и мы превратились, как мне показалось, в обезличенное учреждение и потеряли связь друг с другом. Думаю, что отныне задача каждого директора института — возвращать это ощущение сплочённого коллектива и объединять разнообразные задачи, которые решаются в этом здании, в общий процесс.
Работать в старом, первоначальном институте было очень интересно: в его стенах ещё царил любительский азарт, дух первопроходчества. Его ещё не коснулась жёсткая рука профессионаизма, которая рано или поздно начинает направлять устоявшиеся сообщества. Пусть и нехотя, университет в итоге был вынужден принять нас под своё крыло и потащить на себе жернова археологии, которые в конце концов превратились в золотые слитки.
Археологи, работавшие в нашем институте на заре его существования, приняли участие в трёх восточных экспедициях, получивших мировую известность. Я имею в виду раскопки в Иерихоне, Мохенджо-Даро и Нимруде, возглавленные Кэтлин Кеньон, Мортимером Уилером и мной соответственно. В то время мы представляли британские исследования в Палестине, в Индии, Пакистане и Ираке. Наша работа, как экспедиционная, так и та, которую мы вели дома, в Англии, принесла институту славу и привлекла туда множество археологов-востоковедов. Также нельзя забывать, что с нами был профессор Кодрингтон, эксцентричный и совершенно непостижимый человек, который преподавал индийскую археологию одновременно и у нас, и в Школе востоковедения и африканистики. Кроме этого, здесь нужно обязательно упомянуть Ольгу Тафнелл, несколько лет самоотверженно работавшую над публикацией материалов раскопок в Лахише.
Над всеми царил наш первый директор, профессор В. Гордон Чайлд, человек выдающегося ума, чьи труды были известны далеко за пределами археологического сообщества. Гордон был открытым приверженцем марксизма и искренне разделял его идеи, но партии хватило ума не признавать его официально: вне партии он был ценным союзником, но, оказавшись внутри неё, представлял бы собой угрозу. Гордону легко давались языки, как древние, так и современные. Он мог читать на санскрите и даже немного был знаком с творчеством Пиндара, но сам себя тем не менее считал «специалистом по горшкам и кастрюлям» — это название хорошо сочеталось с идеями марксистского материализма. Этот совершенно непрактичный человек, «простак за границей»[82], неловкий в движениях и равнодушный к раскопкам, обладал огромным личным магнетизмом, умом и такой силой воображения, что придавал блеск любому занятию, за которое брался. Он был хорошим товарищем и очень добрым человеком. Нельзя было и представить себе лучшего директора для недавно созданного института. Он прекрасно умел принять гостей и любил жить с размахом. Когда нас посетили члены королевской семьи, воспитание одержало верх над его характером, и он держал себя безукоризненно. Мало кто воспринимал политические идеи Гордона всерьёз, и никто не мог бы с большим радушием, чем он, принять поляка, высланного из Кракова, профессора Т. Сулимирского, прекрасного человека, вынужденного бежать от коммунистического режима.
Поначалу Чайлд был ярым поклонником Сталина, но к концу жизни понемногу в нём разочаровался. По натуре он не был руководителем и ушёл из института на два года раньше срока. Он почувствовал, что, несмотря на его многочисленные интересы, ему нечего больше ждать от жизни. Тогда он вернулся на родину, в Австралию, и там однажды сел в такси и поехал к скалам в окрестностях Сиднея. Слепой как крот, он оставил очки на вершине скалы, оступился по дороге обратно и был найден мёртвым у подножия. Я нисколько не сомневаюсь, что это было самоубийство. Подобно строителю Сольнесу у Ибсена, Чайлд сознательно выбрал такой драматичный конец — бросился вниз с высоты. Незадолго до смерти он написал тёплые письма большинству своих друзей, в том числе Агате, и его последнюю статью, опубликованную в «Вестнике Института археологии», можно истолковать как прощальную. Так закончилась жизнь этого невероятного человека, кстати, самого уродливого внешне из всех, кого я знал. Выглядел он действительно жутко: его синий нос, подобно носу Сирано де Бержерака, определял его характер. Если бы Чайлд не пострадал от полиомиелита, изуродовавшего его тело в юности, он, возможно, смог бы лучше вписаться в общество, но археология много бы потеряла в его лице. Его марксистские представления, его практический подход пробуждали археологическую мысль, и все специалисты по доисторическому периоду, имеющие внятные представления о добыче и производстве пищи, обязаны этим его работам.
Время от времени Чайлд предпринимал попытки перестроить систему обучения в нашем институте, сделать её более интегрированной. Он настаивал, чтобы мы принимали участие во внутренних институтских публичных чтениях, где каждый из нас мог рассказать, чем занимается. На такие события приглашались и многие лекторы со стороны, и всех, кто делал что-нибудь достойное внимание в области археологии, просили рассказать о своей работе. Сам Чайлд, хоть и говорил всегда интересно, был неважным оратором. Часто к концу предложения он переходил на фальцет. Слушать его было столь же мучительно, как и смотреть на него, но его лекции всегда производили сильное впечатление.
Получив место в институте, я впервые стал преподавать. Это занятие доставляло мне огромное удовольствие, потому что я хотел поделиться знаниями, и мне было интересно, насколько успешно я смогу донести их до студентов. Кроме этого, я обнаружил, что преподавание — это двусторонний обмен информацией: хоть студент и настроен исключительно на приём, он работает резонатором и должен отражать мысли преподавателя. При индивидуальном обучении сознания ученика и учителя вступают во взаимодействие, и успех этого мероприятия, должно быть, зависит от существующей между ними химической симпатии. Учитель и ученик должны установить раппорт, постараться сродниться. Сам я заметил, что, хотя всегда приятно заниматься с умными студентами, нет ничего лучше, чем наблюдать, как ученик, вначале производивший впечатление дурачка, начинает включаться в работу. Насколько я знаю, некоторые заслуженные профессора ленятся и не хотят тратить силы на подобных дурачков, предпочитая уделять внимание более талантливым студентам.
Моей первой ученицей была Маргарет Мунн-Ранкин. Я уговорил её уйти с государственной службы и заняться археологией. Маргарет была прирождённым учёным. Она заслужила признание в Кембридже, где преподавала историю и археологию Востока, и стала серьёзным авторитетом в своей области. Она написала не так много научных трудов, но все работы, вышедшие из-под её пера, выполнены с невероятной тщательностью. Один сезон Маргарет провела с нами в Нимруде, но она по натуре была очень замкнутым и застенчивым человеком, и ей не очень подходила суматоха дальних путешествий. Из Маргарет получился прекрасный преподаватель, добросовестный и исключительно хорошо разбирающийся в предмете, и занятия с ней принесли несомненную пользу многим студентам Кембриджа.
Семинары, как и занятия со студентом один на один, гораздо эффективнее лекций. Выступая перед небольшой аудиторией, я разрешал студентам в любой момент перебивать меня вопросами, но иногда мне казалось, что этот либеральный подход себя не оправдывает. Случалось, что какой-нибудь въедливый слушатель перехватывал инициативу и терзал аудиторию вместо меня. Однажды мне пришлось уточнить у говорливого комментатора, кто именно сейчас читает лекцию, и предложить ему занять моё место на кафедре. Подобные шутки всегда веселят слушателей, а я твёрдо верю, что скучное преподавание — это непростительный грех. Ещё я понял, как важно иногда проверять, все ли следят за моей мыслью. Случается, что вежливость или робость мешают студентам сказать, что им что-то неясно в словах преподавателя. Я как-то читал в романе «Sagittarius Rising», что раньше многие китайские студенты-лётчики разбивались насмерть, потому что вежливость не позволяла им сказать, что они не поняли объяснений учителя. Так я обнаружил, что один студент из Ирака каждый раз, когда я говорю об уровне грунтовых вод, считает, что речь идёт о какой-то специальной водной мебели. Безусловно, это был мой недосмотр. Наверное, сейчас, когда общество так чувствительно к дискриминации по половому признаку, мои слова могут показаться некорректными, но у меня иногда складывалось впечатление, что я могу добиться толка от студентки, только если сначала доведу её до слёз — метод неприятный как для студента, так и для преподавателя, но крайне действенный. Как бы то ни было, я никогда не жалел о времени, потраченном на работу со студентами. Помогая им справиться с трудностями, я становился мудрее, а в общении с ними всегда находил радость. Лет до семидесяти, пока я был в добром здравии, я считал своим долгом непременно отвечать на все письма с вопросами по археологии и, опять же, никогда не жалел потраченного времени.
Моим ближайшим товарищем в институте была моя помощница Рэчел Максвелл-Хайслоп. Она прекрасно справлялась с ролью посредника между мной и лабораториями. С лабораториями она всегда поддерживала тесную связь и получала там огромные объёмы научной информации. Рэчел стала признанным авторитетом в области археологической металлургии и распространения металла в Древнем мире. Она написала множество ценных научных статей, её труд, посвященный ювелирным изделиям Древнего Востока, был встречен бурей оваций, и она стала настоящим кладезем сведений о древних методах металлургического производства.
Ещё двое коллег по институту занимают важное место в моих воспоминаниях. Один из них — сэр Мортимер Уилер[83], чья первая жена Тесса, человек исключительной энергии, имеет прямое отношение к основанию Института. Другой — Мортимер Уилер, или Рик, так называли его многочисленные друзья, был во всех смыслах человек-памятник. Этот верзила подобно до предела раскрученному двигателю нёсся сквозь жизнь, дыша огнём — порой губительным, испепеляющим противников, но иногда очистительным, способным заживлять и возвращать к жизни. Он был наделён тем же даром, что и мой первый учитель, Леонард Вулли: всё, чего он ни касался, немедленно оживало, будь то Институт археологии, Британская академия или Мохенджо-Даро.
В Комитете не было более ценного человека, чем Мортимер Уилер, а лучше всего он выступал в роли секретаря Британской академии, организации, которую сам перестроил и видоизменил. В его манере всегда была некоторая театральность. Он был рождён, чтобы царить на сцене и приковывать к себе внимание зрителей. В кресле президента Общества древностей он выглядел как король Лир и подавлял всех своим присутствием. В Британской академии Уилер пользовался неограниченными полномочиями и всегда был в ударе: он точно знал, чего хочет, быстро принимал решения и шёл напролом, не утруждая себя вежливостью. Когда дискуссия заходила в тупик, он всегда был готов разрубить гордиев узел разногласий своим авторитетным суждением. Артист удивительным образом сочетался в нём с практичным дельцом. Как артист, он был в своё время одной из известнейших фигур телевизионного мира. Многие помнят, с каким блеском выступал он в программе «Животные, растения, минералы», созданной импресарио Глином Дэниелом. Из сказанного выше очевидно, что Уилер нравился не всем. Некоторые и вовсе считали его невыносимым. Он был безжалостен к глупости и, всегда готовый сыграть на человеческих слабостях, редко ошибался в своих суждениях, хотя и был падок на лесть.
Как археолог Уилер в первую очередь знаменит тем, что стал основоположником нового метода раскопок. В основе его метода лежала убеждённость, что для успешного проведения раскопок необходимо чётко представлять себе стратиграфию[84] и уметь открыть и описать последовательность слой за слоем. Здесь Уилер во многом основывался на работах Питта Риверса, но именно его инструкции стали соблюдаться по всему миру, а он получил международное признание. Уилер был прекрасным организатором. Проработав какое-то время в Индии на посту генерального директора Археологического управления, он полностью восстановил управление и наладил его эффективную работу. В Дели Мортимер основал Школу археологии, которая работала, основываясь на его методе. Благодаря огромному личному обаянию Уилер скоро завоевал преданность своих индийских подчинённых, несмотря на то что отличался властным характером и не терпел возражений. Также ему удалось довольно быстро заслужить доверие Неру. Уилер копал во многих местах, но, наверное, в первую очередь с его именем ассоциируется крепость «Мейден Касл» и небольшие раскопки в Арикамеду, где ему удалось найти следы торговли с Римом. Прежде всего, Уилер был, несомненно, очень одарённым человеком, но за склонность к саморекламе и показушничеству некоторые называли его «старым шарлатаном». Он всегда с готовностью помогал молодым учёным, пытающимся пробиться в жизни. По натуре Уилер был донжуаном, и женщины совершенно теряли от него голову. Иногда он вёл себя абсолютно невыносимо, но с ним было весело, и многие влюблялись в него, несмотря на его невнимательность и грубость. Это был крайне амбициозный человек, нетерпимый, в нём не было ни капли снисходительности к человеческим недостаткам. Он мог публично разнести лучшего друга в пух и прах за несоответствие какому-нибудь стандарту, который сам же и выдумал. Я помню довольно жестокое письмо, которое он написал в «Таймс» после смерти своего близкого друга Яна Ричмонда. Ян не успел при жизни опубликовать все результаты своих раскопок, и Уилер публично осудил его за это, в частности, потому, что Ян — к своей чести — так много времени потратил на «маленьких людей» и на бесплатные лекции в разных скромных организациях. Сам Уилер в жизни не стал бы делать ничего подобного. Конечно, кто я такой, чтобы критиковать гиганта Рика, но даже мы, скромные карлики, должны иметь возможность высказаться. Я горд, что мне довелось работать в Институте археологии рядом с таким колоссом.
Другой выдающейся фигурой в Институте археологии была Кэтлин Кеньон[85], теперь дама Кэтлин, чьи заслуги получили не меньшую известность, хоть она и не выступала на телевидении. Горе тому, кто возражал ей или придерживался другой точки зрения. Меня часто спрашивали, как мы с ней ладим в университете, и я неизменно отвечал: «Прекрасно, потому что я всегда уступаю». На самом деле я давно уже простил Кэтлин её бескомпромиссность. В спорах она часто вела себя агрессивно и оскорбительно, но при этом хорошо отзывалась о людях за спиной, и её грубые манеры искупались искренней добротой — качеством, за которое можно легко простить человеку некоторую деспотичность. Надеюсь, что и мои диктаторские замашки будут прощены таким же образом.
Работая в институте, Кэтлин яростно боролась за его благополучие и приносила ему славу своими раскопками в Иерихоне, а затем в Иерусалиме. Загадки Иерихона, очень запутанного городища, были решены благодаря совершенству методов Кэтлин, и ей удалось совершить потрясающие открытия. Выяснилось, что поселение было основано около 8000 года до н. э. Судьба этого уникального оазиса зависела от природного источника. Его укрепления и огромная каменная башня иллюстрировали архитектурные достижения человека в период позднего мезолита и неолитической революции. Самой ошеломительной находкой стали иерихонские черепа. Они были отделены от остального скелета и покрыты масками из глины, а роль глаз исполняли ракушки. Готовые черепа захоранивались под полом. Как ни странно, этот необычный погребальный обряд имеет сходство с описанными Геродотом традициями Эфиопии.
Казалось, что Кэтрин просто создана для поста директора Института археологии — целеустремлённости ей хватило бы с избытком. Но вместо этого она возглавила Колледж Святого Хью в Оксфорде и блестяще им управляла. Доброта и человечность, властность и проницательность делали её прекрасным руководителем, и мало кто мог бы столь успешно собирать деньги на нужды колледжа. Это место она выбрала по очень необычной причине.
Кэтлин очень любила собак и держала у себя свору бездомных дворняг, спасённых из приюта в Бэттерси. К сожалению, в институт с собаками не пускали: начальство считало, что от них одно беспокойство, шум и антисанитария. Ни тогдашний секретарь, ни директор института Граймс не питали симпатии к этим животным, и это привело к открытому противостоянию между Кэтрин и её собаками, с одной стороны, и директором — с другой. В разгар очередного сезона в Нимруд я получил от Граймса письмо, в котором он рассказывал о создавшемся безвыходном положении. Граймс явно надеялся, что я соглашусь с его точкой зрения. Я же дал совершенно противоположный ответ — написал, что всегда предпочитал людям собак, и упомянул, что незадолго до моей учёбы в Новом колледже в Оксфорде один из студентов держал в своих комнатах медведя, и начальство совершенно не возражало. Также я сказал, что не возражаю против некоторой антисанитарии, связанной с содержанием животных, и убеждён, что чрезмерное стремление к стерильности снижает природную сопротивляемость наших организмов. Не знаю, чем бы закончился этот конфликт, но Кэтлин вовремя предложили место директора Колледжа Святого Хью. Думаю, что, если бы не собаки, она предпочла бы остаться в институте, но, так или иначе, она покинула его одновременно со мной: мне как раз предложили пост в Колледже Всех Душ.
Годы, которые я провел в Институте (с 1947-го по 1960-й), подарили мне чувство глубокого удовлетворения от работы и научили правильно распределять энергию. Когда я получил должность, мне было сорок три года. Я был деятелен и полон сил. Сейчас, оглядываясь назад с высоты своих семидесяти лет, я завидую собственной силе и здоровью. Моя способность к концентрации в сочетании с редкими минутами заслуженного отдыха и развлечений позволяла выжать максимум из двадцати четырёх часов, составляющих сутки. Мне приходилось работать то дома, то за границей — примерно поровну. Каждый год я проводил несколько месяцев в поездках или на полевой работе в Нимруде, в Ираке, а затем возвращался домой, чтобы рассказать о результатах раскопок. Публичные лекции тешили моё самолюбие и, надеюсь, аудиторию. На общих ежегодных собраниях Иракской школы в Королевском географическом обществе порой собиралось более пятисот человек.
Выбирая место для раскопок в Ираке, я мог остановиться на любой из четырёх ассирийских столиц: Ниневии, Нимруде, Ашшуре и Хорсабаде. Первые три были построены в стратегически важных местах, выбранных для сплочения империи. Городища Ниневия и Нимруд (Калах), расположенный примерно в двадцати милях к югу, стояли на восточном берегу Тигра (Нимруд — примерно в дне пути от реки), а Ашшур — на противоположном, западном берегу, в сорока милях ниже по течению.
Четвёртой ассирийской столицей, привлекшей моё внимание, стал Хорсабад, расположенный примерно в дюжине миль к северо-востоку от Ниневии, ближе к горам, но этот город можно назвать неудачным ассирийским проектом. Это был недостроенный дом царя-узурпатора Саргона, правившего с 722 по 705 год до н. э. Наследники Саргона не проявили к городу особого интереса. Тем не менее в этом любопытном поселении вели обширные раскопки французские экспедиции под руководством Ботта и Плэйса, а затем американская экспедиция из Чикаго. Я не думаю, что нам удастся вписать принципиально новую главу в историю этого города, хотя не сомневаюсь, что там ещё есть что копать.
Естественно, у меня была мысль продолжить работу в Ниневии, где многие британские первооткрыватели — Рич, Лейард, Джордж Смит, уроженец Ирака Рассам[86], Бадж[87], Кинг и Кэмпбелл Томпсон — совершали интереснейшие находки. Увы, работая с Кэмпбеллом Томпсоном, я убедился, что любые масштабные раскопки этого городища потребовали бы совершенно неподъёмных для нас затрат. Верхние двадцать футов холма представляют собой массу беспорядочно перемешанных обломков, которую постоянно грабили и разрушали ещё с ассирийских времён. Чтобы разобрать это гигантское нагромождение руин, понадобилось бы несколько поколений рабочих. Правда, под ним скрывается великолепная последовательность доисторических слоёв, покрывающая период длиной как минимум в четыре тысячи лет. Мне нравится думать, что однажды какая-нибудь мужественная команда археологов возьмётся за этот телль и прольёт поток света на весь доисторический период Месопотамии. С тех самых пор, как я работал в Ниневии, я нахожусь под непроходящим впечатлением от огромной площади этого городища, составляющей около 1800 акров, и от интригующей планировки внешнего города за пределами акрополя, от массивных укреплений и великолепных руин ассирийской ирригационной системы. Увы, сейчас это прекрасное место плотно окружено современными постройками. Мне же удалось увидеть Ниневию практически такой, какой видел её Лейард, — нетронутой и сияющей первозданной красотой. Даже огромная каменная дамба Синаххериба была не застроена. Я знал, что у меня нет никакой надежды раскопать огромный ассирийский арсенал, известный как Неби Юнус: работа здесь была невозможна из-за неприкосновенной мечети, где, согласно преданию, хранились мощи пророка Ионы. Несмотря на это препятствие, Фуад Сафар, а затем и Тарик эль Мадхлум решились копать в районе одних ворот. В результате этих раскопок увидела свет поразительная находка — скульптура египетского фараона Тахарки приблизительно 650 года до н. э. Тарик также провёл успешные раскопки ворот Ниневии и обнаружил рельефы, оставленные Лейардом во дворце Синаххериба.
Ашшур, древняя религиозная столица, где хоронили ассирийских царей, был тщательно исследован немецкими археологами в период с 1903 по 1912 год и блестяще описан Вальтером Андра[88], с которым мне повезло познакомиться, когда он навещал Леонарда Вулли в Уре. В какой-то момент в отношениях между учёными наступил разлад, потому что немецкие археологи усомнились в дате постройки шумерских жилищ, которую совершенно правильно определил Вулли. Примирение наступило, когда Андра торжественно извинился перед Вулли и в знак примирения церемонно преподнёс ему огромную гроздь бананов на вершине урского зиккурата. В то время карьера Андра уже клонилась к закату, но он дополнил свою работу с Колдевеем в Вавилоне не менее выдающимися достижениями в Ашшуре. Теперь нам известно, что этот священный город также являлся важным перевалочным пунктом для торговли металлом, особенно в районе 2000 года до н. э., когда ассирийская колония купцов из Кюль-Тепе в Каппадокии в больших количествах меняла на медь ткани и олово, доставляемое из Ирана. Сегодня мы имеем полное представление о том, какую огромную роль играл Ашшур в истории Западной Азии.
Так я пришёл к выводу, что самым перспективным теллем в Ассирии является Нимруд, хотя в пользу других городищ говорили важные доводы.
Для многих путешественников нет более романтичного места, чем Нимруд. Сорок лет назад бородатые головы охранных каменных статуй ламмасу — полулюдей, полузверей — торчали здесь из земли у ворот древних дворцов: верные слуги охраняли покой могучих воинов и жрецов, царей Ассирии. Таким я впервые увидел Нимруд в 1926 году после своего первого сезона в Уре халдеев среди голых степей Южной Вавилонии и понял тогда, что стою перед археологическим раем, куда, возможно, мне выпадет честь попасть когда-нибудь в будущем, когда закончится срок моего ученичества. С тех пор я не расставался с этим намерением, лелеял его долгие годы, проезжая раз за разом по старой царской дороге, которая в эпоху Ахеменидов вела из Суз в Сарды, дороге, окружённой древними теллями на всём участке от Киркука до Эрбиля и Мосула.
Наконец мне представилась возможность устроить масштабные раскопки. Должность в Институте археологии давала мне право более трёх месяцев в году работать за границей. Когда в 1947 году я решил вернуться в Багдад, у меня было достаточно времени для принятия решения, что можно сделать с деньгами, накопленными Британской школой археологии в Ираке за время войны — речь шла о двух тысячах фунтов.
Два года спустя, в 1949 году, я сидел в кабинете генерального директора Службы древностей доктора Наджи эль Азиля, который в то время спонсировал крупные доисторические раскопки в Эриду, проводимые Фуад Сафаром и Сетоном Ллойдом (они блестяще справились с этой достойной задачей). Наджи эль Азиль сказал мне: «Я только что разрешил Чикагскому университету возобновить раскопки в Ниппуре, вас может заинтересовать эта новость». «Это действительно интересно, — ответил я, хватаясь за эту возможность, — потому что как раз собирался просить у вашей службы разрешения на раскопки Нимруда. Моим соотечественникам там всегда сопутствовала удача». Я выбрал правильное время для своей просьбы: как раз исполнилось сто лет со дня начала в том же месте раскопок Лейардом.
Вскоре, благодаря поддержке директора, Служба древностей Ирака согласилась удовлетворить мою просьбу, и никому из нас не пришлось пожалеть об этом удачном соглашении.
Глава 17. Нимруд: акрополь
Во всей Ассирии нет более красивого холма, чем Нимруд: этот уединённый уголок до сих пор не затронут современным строительством. Его величественный акрополь, охватывающий площадь около 65 акров, покрыт дёрном, любимым лакомством овец. Телль и его зиккурат возвышаются над окружающей равниной и грозными водами стремительного Тигра, струящегося между крутых берегов примерно в двух милях к западу. С вершины зиккурата виден однообразный холмистый северный пейзаж и на расстоянии четырёх миль — старый мусульманский город Саламия, рядом с которым есть очень удобный брод. С южной стороны на семь миль до самых верховьев Заба простирается плодородная равнина, где стоит высокий Телль-Кашаф. Когда-то здесь была могучая крепость, древний бастион самого Нимруда. На востоке видны Джебель-Маклуб и далёкие Загросские горы на территории Ирана. В сиреневатом свете, обычном для этих мест, можно различить их высокие вершины.
В хорошие годы эти места становятся отличным пастбищем. Во времена Лейарда спины пасущихся здесь овец краснели от лютиков — сегодня это редкое зрелище. Жарким летом равнины пустеют, но остаются достаточно привлекательными для газелей. До того как браконьеры, охотящиеся на этих животных на автомобилях, практически довели их до исчезновения, их живописные стада часто попадались на пути от Мосула.
Ранней весной 1949 года сотрудник Службы древностей Ирака доктор Махмуд эль Амин поехал со мной в Мосул, чтобы начать подготовку к раскопкам и найти для нас жильё в самой деревне Нимруд. Только что прошли проливные дожди, и у самого зиккурата наша машина прочно засела в грязи. Неустрашимый и неизменно оптимистичный Махмуд сказал, что готов идти дальше, и как пара неповоротливых бегемотов, в грязи по грудь, мы отправились прокладывать свой вязкий путь к дому шейха, Абдуллы Наджейфи, не самого выдающегося представителя когда-то богатого и образованного рода землевладельцев, но абсолютно порядочного и уважаемого человека, не вылезавшего, правда, из долгов. Нам очень повезло, что он оказался нашим шейхом. Хоть он и был несколько подозрителен, как свойственно крестьянам, но зато отличался гостеприимством и дружелюбием и был готов помогать нам по мере сил, что и продемонстрировал, выставив на стол дюжину бутылок виски, приобретённых в кредит на базаре в Мосуле, чтобы принять нас как следует.
Когда мы с Махмудом, пробарахтавшись полтора часа в грязи, наконец достигли дома шейха, он приказал слуге омыть нам ноги тёплой водой. За этим последовал прекрасный массаж, достойный турецких бань, которые работали когда-то на Джермин-стрит.
Наш визит удался во всех отношениях. Мы договорились не только о нашем собственном проживании, но и о размещении двух десятков шеркати, квалифицированных рабочих из Ашшура: их было решено поселить в двух больших комнатах за пределами хана, принадлежавшего шейху. А главное, благодаря дяде шейха, Мохаммеду Наджейфи, я узнал, сколько следует платить самым непритязательным, но самым многочисленным рабочим на раскопе — корзинщикам. Старик как раз нашёл исполнителей для похожей работы и на моих глазах дал каждому из двух крестьян по сто пятьдесят филсов. Сто пятьдесят филсов примерно соответствовали трём шиллингам, или пятнадцати новым пенсам. Эта сумма ровно в три раза превышала дневную зарплату, которую получали около двадцати лет назад наши рабочие в Ниневии. Можно получить представление о темпах инфляции, если вспомнить, что веком ранее, в 1849 году, Лейард платил рабочим по одному пиастру, то есть по два с половиной старых пенса в день. С тех пор зарплата рабочего выросла больше чем в четырнадцать раз.
В первый сезон в командный состав экспедиции входило всего четыре человека: Агата, Махмуд, Роберт Гамильтон[89] и я. Агате я уже посвятил четыре главы: она была прекрасным помощником, неизменно приветливой хозяйкой, храбрым и весёлым товарищем на всех моих раскопках. Кроме того, она исполняла роль фотографа и помогала мне очищать и заносить в каталог мелкие находки.
Махмуд, как представитель Службы древностей Ирака, вёл записи на арабском и служил неиссякаемым источником шуток и хорошего настроения. Во время войны он получил в Берлине докторскую степень по восточным языкам и успел это сделать в самый последний момент перед приходом немцев. В итоге он стал преподавателем в Багдадском университете. По натуре он был человеком совершенно беспечным и бесшабашным.
Вряд ли можно представить себе человека менее похожего на Махмуда, чем Роберт Гамильтон, но они были прекрасными товарищами и относились друг к другу с большим терпением. Роберт, выпускник Винчестерского колледжа и классик по образованию, отлично говорил по-арабски. Он был скромным и талантливым человеком, каких мало. Гамильтон замечательно рисовал, занимался топографической съёмкой и вёл учёт архитектурных памятников. Он раньше меня начал работать в Ниневии и очень любил эти места. Я был очень рад, что Роберт поехал с нами. Он отличался острым умом и чувством юмора, а с рабочими был, как выразился однажды Кэмпбелл Томпсон, настоящим порохом.
После работы в Ниневии Гамильтон, не достигший ещё тридцатилетнего возраста, был по рекомендации Томпсона назначен директором Службы древностей Палестины и поселился в Иерусалиме. Период его пребывания на этой должности стал важной страницей в истории Службы: Гамильтон был одновременно и творцом, и специалистом в своей области, и блестящим организатором. Его отстранённый и непредвзятый подход позволил всем сотрудникам — и арабам, и иудеям — работать в полном согласии, и развал департамента стал трагедией и для него, и для них. Неизменно справедливый и беспристрастный в своих поступках, Гамильтон тем не менее всегда решительно отстаивал права арабской стороны.
Основным достижением Гамильтона в полевой работе было участие в раскопках дворца эпохи Омейядов Хирбет Аль-Мафджара. Его профессиональная и невероятно искусная реконструкция архитектурного памятника удостоилась похвалы покойного профессора сэра Арчибальда Кресуэлла, а это серьёзный успех.
Уехав из Палестины, Гамильтон устроился в Оксфорд смотрителем отдела восточных древностей Эшмоловского музея. Как ни странно, на этом посту его педантичный подход не нашёл понимания у консервативной администрации Университета, и он тяжело переживал этот конфликт. Гамильтон любил уединение, был по натуре философом. Думаю, ему не меньше подошла бы роль метафизика или садовника. Он охотно общался с людьми, но его дружбу можно было добыть только в результате обстоятельных раскопок. Казалось, что им владеет глубокая внутренняя меланхолия.
Наша команда из четырёх человек, составлявшая нимрудскую экспедицию 1949 года, размещалась в крыле дома из сырцового кирпича, принадлежавшего шейху. Мы с Агатой делили спальню на верхнем этаже, Роберт с Махмудом занимали комнату напротив. Помещение на нижнем этаже служило одновременно гостиной, столовой, хранилищем и тёмной комнатой, а напротив располагались кухня и комнаты для слуг. Мы жили практически в трущобах, но были абсолютно счастливы, даже при том, что в первый месяц постоянно шли дожди, и мы вдобавок редко бывали сухими.
Наш индийский слуга Ибрагим угощал нашу команду вкуснейшими карри из риса с шафраном и пёк превосходные пироги, но по окончании сезона заставил меня пообещать, что я ни за что не возьму его больше в Нимруд. Мало кому, кроме монахов Доминиканского ордена, удавалось добраться до нас через ужасную нимрудскую трясину. Исключение составлял Филип Брэдбёрн, молодой вице-консул Великобритании, чьим заместителем был несторианин по имени Априм — его почтительно называли проконсулом. Третьим по важности сотрудником консульства оказался довольно носатый гражданин по прозвищу Бекас. Супруга Филипа Эсме посвятила свою жизнь поддержанию Английского кладбища и славилась добрыми делами. Также нас навещал восторженный директор Британского института Джон Спрингфорд со своей супругой Филлис. Им особенно не терпелось увидеть, как наша «первая лопата вонзится в дёрн». Самым ярким моментом нашего гостеприимства был случай, когда мы в своей крошечной гостиной поили чаем Доминиканский орден Мосула в полном составе, не менее четырнадцати монахов. Гости сидели в основном на полу, кроме разве что отца Танмера, главы ордена, очень талантливого и приятного в общении человека, и археолога, отца Джона, который впоследствии под именем Отца Фьея писал интересные труды на малоизученные темы, затрагивающие историю Ирака, Мосула и Ассирии. Очень жаль, что сейчас работа этих прекрасных людей приостановлена: они никогда не стремились заниматься политикой, и оба были высокообразованными, думающими людьми, достойными представителями христианства.
Дом наш был очень мал, и нас то и дело изгоняли из гостиной, которую Агате приходилось использовать как тёмную комнату для проявки негативов. Превратить одно в другое не составляло труда, потому что в комнате и так было мало света. В такие моменты нам запрещалось даже бродить по верхнему этажу, иначе комья грязи с гулким плеском падали в лоток.
Первый сезон стал для нас настоящим крещением грязью. Ни до того, ни после нам, к счастью, не доводилось встречаться с такой страшной слякотью. Преодолеть трясину, отделявшую холм от деревни, мы смогли только с помощью полноприводного «Доджа»-универсала, который за 150 фунтов купили в Багдаде. Это был невероятно мощный и практически земноводный автомобиль. Каждый вечер он пробивал себе путь сквозь грязь, нагруженный древними горшками, а бригадиры и рабочие висели по бокам, как пассажиры каирского трамвая. Не менее серьёзным испытанием была и поездка на рынок в Мосул: двадцать две мили по относительному бездорожью. Этот чудесный автомобиль воистину был достоин закончить свои дни в музее.
После тридцати дней непрекращающегося дождя внезапно выглянуло солнце и небеса очистились. Земля под ногами превратилась в твёрдую корку, изборождённую колеями: её покрывала сеть окаменевших отпечатков наших колёс. Возможно, некоторые из них долго потом напоминали о нашем посещении. Помню, в степях Ливии мне доводилось видеть колеи предположительно четырнадцатилетней давности.
Акрополь находился в северо-западной части огромного, обнесённого стеной города, занимающего девятьсот акров земли. Все наши предшественники, однако, интересовались дворцами и храмами внутренней цитадели. Только восемь лет спустя мы почувствовали себя вправе копать за её пределами.
Когда мы решили применить к жизни полученные знания о том, сколько положено платить рабочим, дело потребовало всей нашей твёрдости и упрямства. В первый день, когда мы предложили три шиллинга в день каждому, кто готов таскать корзины с землёй, возмущённая толпа, несомненно, подстрекаемая шейхом Абдуллой, шла за нами от деревни до холма и кричала, что за такую работу нужно платить десять шиллингов. И всё же по пути к нам присоединилась группа штрейкбрехеров из-за реки, готовых работать за любое вознаграждение. С их появлением в толпе завязалось несколько драк с использованием ножей и дубинок, появились первые ушибы и ранения. Я счёл благоразумным отправить двух моих спутников, Роберта Гамильтона и Махмуда, в Мосул за небольшим отрядом полицейских и приготовился в ближайшее время справляться без них. Однако после очередной порции потасовок на холме мне удалось привести в чувство около семидесяти человек, и к приезду стражей порядка они уже работали вовсю. Среди нанятых мной рабочих были несколько человек, уже трудившихся на наших раскопах в Ниневии и Арпачии. Они называли Агату своей тётушкой. С этого момента у нас практически не было проблем с людьми, хотя присутствие шеркати поначалу вызывало возражения. Когда днём ранее эти квалифицированные рабочие приступили к делу, грубый член семьи Наджейфи несколько раз выстрелил им поверх голов. Он решил немного запугать чужаков, но у него ничего не вышло.
Для нас было очень важно установить в начале раскопок приемлемый и справедливый уровень зарплат, который бы делал всё мероприятие более практичным и оставлял место для неизбежных надбавок и вознаграждений, без которых не обходится длительное сотрудничество. Предложенная нами ставка, хоть и очевидно низкая, была вполне достаточной: в любом случае в сезон, предшествующий урожаю, другой работы в сельской местности не было. Эти деньги позволяли крестьянину купить чай, сахар и ткани, а может, и какие-нибудь украшения для жены и делали его жизнь вполне сносной после того, как торговцы дали ему минимум наличных на покупку зерна и, вероятно, ссудили его в счёт части будущего урожая.
Раскопки продвигались, и каждая новая неделя начиналась с драк за право работать на экспедицию. Наша низкая зарплата позволяла нам принять большее число нуждающихся. Здешние деревенские жители, как и все остальные крестьяне на свете, были хорошими партнёрами, слушались твёрдой руки и ценили справедливое обращение.
На этих страницах я не стану подробно рассказывать о продвижении раскопок, упомяну только, чего мы ждали и на что надеялись, приступая к работе над акрополем площадью в шестьдесят пять акров, на котором пока решили сосредоточить свои усилия.
Основной функцией Нимруда было служить главной базой для армии во время её ежегодных военных операций, в особенности в IX веке до н. э. в период становления империи, которой суждено было стать самой могущественной из всех империй, существовавших до этих пор на западе древней Азии.
В основном империя выросла усилиями двух царей, Ашшурназирпала II (883–859 годы до н. э.) и его сына Салманасара III (859–824 годы до н. э.). Большой удачей для Ассирии явился тот факт, что два великих представителя одного рода правили в общей сложности на протяжении шестидесяти лет, за которые была создана сложная система управления империей, а её армия стала самой сильной из всех армий своего времени — не только за счёт лучшей организации, но и благодаря превосходству оружия, существенная часть которого была изготовлена из стали.
Нимруд, он же древний Калах, продолжал использоваться главным образом как военный центр и в восьмом столетии, особенно в период правления могущественного Саргона II (с 722 по 705 год до н. э.). Преемник Саргона Синаххериб (705–681 годы до н. э.) оставил город и перебрался в Ниневию, но его сын Асархаддон (681–669 годы до н. э.) к концу своего правления вернулся обратно и попытался вновь сделать Нимруд столицей Ассирии.
По существу, Нимруд в первую очередь служил военной базой. Размеры города позволяли разместить здесь огромную армию, солидные запасы продуктов для которой приходилось ввозить из Сирии. Лучшим свидетельством невероятных богатств, накопленных государством за период экспансии, являются массовые находки изделий из слоновой кости в огромном дворце в юго-восточной части внешнего города, известном как «форт Салманасара».
Первым делом мы хотели поработать на старом раскопе Лейарда в западной части холма, а затем углубиться в восточный сектор, сравнительно неисследованный участок земли, по очень веской причине почти не тронутый Лейардом.
Выбирая для раскопок акрополь, и в принципе Нимруд, мы преследовали две основные цели. Во-первых, мы хотели найти больше изделий из слоновой кости: я не сомневался, что холм ещё скрывает множество подобных образцов. Второй, и главной, нашей задачей было найти клинописные памятники, потому что помимо стандартных царских надписей, сопровождающих ассирийские барельефы, Лейард не задокументировал ни одной глиняной таблички с клинописью. Мне казалось просто невероятным, что в таком огромном городе не нашлось хозяйственных, торговых, исторических и литературных записей. Я готов был спорить на что угодно, что рано или поздно мы найдём примеры всех перечисленных текстов. Так и случилось.
Итак, для начала мы сосредоточились на раскопках покоев северо-западного дворца Ашшурназирпала, где Лейард обнаружил лучшие экземпляры изделий из слоновой кости. Лейард условно обозначил покои как V и W, и, даже не пользуясь его планом, мы с лёгкостью обнаружили покой V в первый же день раскопок (дело было в марте) и отправили наших шеркати продолжать там работу. Наша команда хотела не только узнать, сколько фрагментов пропустил Лейард, но и составить представление о первоначальном расположении фигур. В обоих покоях нас встретили груды жалких осколков, но нашлась и одна целая композиция, изделие исключительно тонкой работы. Это была объёмная фигурка коровы, где-то вполладони длиной. Изначально корова была изображена кормящей телёнка. Композиция лежала на кучке земли в углу комнаты, и позже я понял, почему: по всей видимости, она упала вниз из комнаты, располагавшейся над покоем V. Действительно, многие помещения дворца были двухэтажными.
На дверном проёме одной из комнат по пути к статуэткам Лейарда была надпись времени Саргона II (722–705 годы до н. э.), гласившая, что лежащие там сокровища Саргон отбил у Писириса, царя Каркемиша. Вероятно, часть сокровищ действительно относилась ко времени Саргона, но остальные, скорее всего, следует датировать эпохой Салманасара III (859–824 годы до н. э.), воевавшего в Финикии. Некоторые трофеи были явно финикийскими изделиями, созданными под влиянием египетского искусства, и не исключено, что Салманасар мог привезти в Ассирию самих финикийских мастеров.
Служба древностей Ирака, как и следовало ожидать, немедленно заявила свои права на нашу прекрасную корову из слоновой кости. В то время они назначали существенную долю находок археологу, который мог получить спонсирование от института только при условии, что сможет предложить им за эти деньги что-то реальное. К счастью, этот же сезон ознаменовался другой столь же прекрасной находкой — цилиндрической печатью из аметистового кварца, изображавшей мифических существ, несущих по небу солнце. Печать относилась примерно к 800 году до н. э. и, вероятно, одно время принадлежала правителю Калаха. Когда дело дошло до раздела трофеев, я сказал, что должен увезти в Британский музей либо корову, либо печать, в противном случае я не смогу вернуться в Нимруд на следующий сезон. Дело горячо обсуждалось представителями Службы древностей, и в конечном итоге щедрость одержала верх, но с разницей всего в один голос. На такой вот тонкой ниточке висела судьба наших последующих десяти сезонов в Нимруде.
За первый сезон мы получили представление о том, что ещё предстояло сделать в акрополе и почему предыдущие раскопки так мало затронули его восточный сектор, на который мы и обратили теперь всё своё внимание. Здания здесь были сложены исключительно из сырцового кирпича, и неопытные рабочие Лейарда не могли отделить их от окружающей породы, если у них не было ориентира в виде каменного барельефа. День за днём, вынужденные то и дело перебираться из-за сырости из одной траншеи в другую, мы понемногу знакомились с менее зрелищными, но имеющими большой исторический потенциал образцами ассирийской архитектуры. Нашим первым серьёзным достижением на этом участке были раскопки крупного административного здания, которое мы окрестили «дворцом правителя». Дворец в основном создавался Ададом-Нирари III и могущественной царицей-матерью Шаммурамат, известной в греческой мифологии под именем Семирамиды. За годы раскопок мы значительно расширили планы, составленные нашими предшественниками Лейардом, Лофтусом и Джорджем Смитом, и последовательно совершили множество архитектурных и археологических открытий в Сгоревшем дворце, храме Набу и в северо-восточной части холма, где мы раскопали ряд частных домов, до того момента неизвестных. Дома стояли на высоком основании у восточной стены акрополя, и из них открывался фантастический вид на внешний город.
Когда мы только приступили к раскопкам Дворца правителя и Сгоревшего дворца, мы наткнулись на слои золы, ясно свидетельствовавшие о масштабных разрушениях. Клинописные таблички, найденные в этих слоях, мы датировали последними годами правления Саргона (722–705 до н. э.), и я ошибочно сделал заключение, что Нимруд был разрушен в результате революции, последовавшей за смертью царя. В результате дальнейших раскопок, занявших несколько лет, выяснилось, что эта страшная бойня относилась ко времени окончательного уничтожения Ассирии мидийцами и вавилонянами, к 614–612 годам до н. э. Удивительная сохранность документов, относившихся ко времени правления Саргона, объясняется не разрушением города и не революцией, а тем, что Калах был сознательно заброшен его преемником Синаххерибом. Синаххериб так хотел возродить Ниневию и столь мало заботился о Нимруде, что многие здания совершенно обветшали и разрушились. Положение города изменилось при сыне Синаххериба Асархаддоне, который вернул всё на свои места и решил восстановить в правах Нимруд, то есть Калах. Последние годы своего правления он отметил постройкой величественных каменных стен в форте Салманасара во внешнем городе.
История и археология идут рука об руку. Изучая жизни сменяющих друг друга царей, мы видим, что каждый новый монарх или старался значительно улучшить дом своего предшественника, или, наоборот, совершенно его забросить и поселиться на новом месте. История ассирийских построек — это история маниакального тщеславия, в которой каждый последующий монарх непременно должен был выглядеть более могущественным, чем предыдущий. Причиной этого психопатического состояния был страх не удержать власть над чрезмерно разросшейся империей, где даже родные земли кишели потенциально неверными чужеземцами. Эффектная демонстрация власти считалась лучшим инструментом пропаганды и средством устрашения, направленным против тех, кто мечтал о восстании и искал признаки слабости.
Несмотря на эти тенденции, Сгоревший дворец хоть и был зданием немаленьким, но отличался сравнительной скромностью, необычной для королевской резиденции. Здесь жил либо правитель Нимруда, либо сам Саргон в ожидании, пока будет готов его новый дворец в Хорсабаде. Одной из самых интересных находок, связанных с Саргоном, стал клинописный текст, в котором описывались проблемы, уже тогда возникавшие у правителей Саргона в связи с северным народом гимирру. Это было первое упоминание о могучих киммерийцах, которые несколько десятилетий спустя, вероятно, в 694 году до н. э., как утверждает Евсевий Кесарийский, подчинили себе часть Анатолии и разрушили фригийскую столицу Гордион. С этой датой согласился Родни Янг, проводивший раскопки Гордиона, расположенного в самом сердце Каппадокии.
Также в Сгоревшем дворце мы нашли коллекцию прекрасных некрупных голов из слоновой кости, в основном женских. Судя по всему, они изображали женщин из разномастного царского гарема. Важность этой находки в том, что теперь её можно с уверенностью отнести к последним десятилетиям IX века до н. э., потому что она очень похожа на другую, уже датированную подобную коллекцию, обнаруженную Робертом Дайсоном в поселении Хасанлу на северо-западе Ирана. Изделия являются значительной вехой в истории нимрудской резьбы по слоновой кости.
Среди множества важных находок, совершённых в этом секторе холма, следует особенно выделить ещё одну, а именно — совершенно удивительный комплект «рабских договоров», которые Асархаддоном в расцвете своего правления, в 672 году до н. э., навязал девяти мидийским правителям. Каждого правителя заставили поклясться в верности царю Ассирии, а в случае если клятва будет нарушена, предателю грозил целый набор проклятий, довольно омерзительных по сути и детально прописанных для специальной церемонии. В ходе её некоторые из них подвергались проклятию — в частности, проездом забрызганной кровью колесницы и возложением на огонь воскового изображения. На тех же табличках была изложена последняя воля ассирийского царя. В числе прочего он желал, чтобы его сыновья вместе правили империей: один в Ниневии, другой в Вавилоне. Таблички были обнаружены вместе с большим количеством изделий из слоновой кости, относящихся к IX веку до н. э., в тронном зале храма Набу. Все они были раздавлены и изуродованы. Эти заброшенные документы служат вечным напоминанием о том, как ненадёжны договора перед лицом меняющихся обстоятельств и как непрочны соглашения между людьми: от согласия под принуждением нет никакого толка.
Самый главный текст, договор с мидийским правителем Ураказабаной, имел шестьсот семьдесят четыре строки в длину. Д. Дж. Уайзман — теперь профессор — потратил три года на восстановление этого текста из сотен фрагментов. Его выносливость и самодисциплина достойны уважения: он справился с этой задачей в результате кропотливого перебора осколков, любезно предоставленных на время Британскому музею. Каждый день он приходил на работу на час раньше времени, а уходил на час позже, и его упорный труд увенчался успехом. Текст восстановлен весь, за исключением всего нескольких строк.
Я думаю, что после прочтения этого краткого обзора читатель сможет получить первое представление о многочисленных важных находках, сделанных в восточной части акрополя. Желающим почитать о найденных нами частных домах рекомендую обратиться к книге «Нимруд и его руины». Один из обитателей этих домов, старик по имени Шамаш-Реш-Усур, вёл торговлю добрые пятьдесят лет. Он был весьма зажиточным купцом и занимался самыми разными делами, в частности, давал деньги в долг в счёт урожая и поставлял птиц для храма в Эрбиле. Думаю, этот старик достоин войти в анналы геронтологии. Его история доказывает: чтобы прожить столь длинную жизнь в Ассирии, человек должен быть практически несокрушимым, и тогда его предполагаемая продолжительность жизни будет увеличиваться с каждым прожитым годом.
Теперь я хотел бы рассказать о наших находках, сделанных в западном секторе холма. Начиная с первого сезона, основной задачей наших раскопок на этом участке было определение, насколько это возможно, размеров и вида северного и южного крыла северо-западного дворца Ашшурнасирпала, так как из отчётов Лейарда было ясно, что он главным образом занимался парадными покоями, где ему удалось найти удивительные каменные барельефы, которые давно занимают почётное место в Британском музее.
Сначала мы приступили к раскопкам жилого крыла с южной стороны дворца и в покоях, служивших принцессам, нашли потрясающие вещи. Помимо богатого собрания изделий из слоновой кости, среди которых нам встретилась необычно крупная фигура быка, вырезанная в период правления Саргона, мы обнаружили множество женских безделушек, в том числе набор ракушек, где хранилась косметика — малахитовая краска для глаз. Одну из ракушек украшала гравировка в виде скорпиона. Скорпион считался символом богини Иштар и нравился жене Синаххериба. В одном из покоев лежало несколько копий, которые, вероятно, убегая, бросили стражники. Рядом находилось захоронение, а на нём — каменная плита Ашшурнасирпала, содержащая сведения о закладке городской стены. Не было никаких сомнений, что плиту убрал Асархаддон, занимавшийся обновлением стены двумя столетиями позже. В могиле лежали останки принцессы, а вместе с ними были захоронены знаменитые нимрудские сокровища, которые теперь хранятся в Багдаде. Самым примечательным элементом коллекции была подвеска в виде печати из аметистового кварца. Композиция на печати изображала двух людей, стоящих по обе стороны от дерева и играющих на духовых инструментах. Подвеска держалась на золотой цепочке из мастерски выкованных звеньев, крепившихся к замку. Туника принцессы была скреплена изогнутой застёжкой — безопасной булавкой седьмого столетия до нашей эры. Длинный коридор, вымощенный камнем, отделял эти покои от остального замка. Вход в него защищали массивные двери. Царь ежедневно преодолевал этот путь под защитой огромного крылатого ангела — внушительного барельефа, установленного в начале коридора.
В северном, административном, крыле нас ждали другие замечательные находки. Здесь находились царские хранилища документов — разделённые на отсеки кирпичные стеллажи, содержавшие, в числе прочего, записи местной администрации времён правления Тиглатпаласара III (745–727 годы до н. э.) и рассказ о мятежном вавилонском главаре Укин-Зере. Эту захватывающую историю восстановил один из наших сотрудников, а теперь профессор Г. У. Ф. Саггс[90]. Среди записей, относившихся к правлению Тиглатпаласара, был также ряд документов, относившихся к налогообложению и к работе комиссии налогового управления в финикийских городах Тире и Сидоне, в которых скифской полиции пришлось призвать неплательщиков к ответу. Здесь же нашлась большая каменная призма, повествующая о кознях одной хитрой лисы, халдейского шейха, который был бельмом на глазу не менее четырёх ассирийских монархов. Саргон вывез этот компрометирующий цилиндр из вавилонского Эреха, а туда отправил собственную, «улучшенную» версию. Это первый известный случай нападения и контрнападения в пропаганде. Также необходимо упомянуть, что подобная организация канцелярии была новым словом в ассирийской архитектуре и что нам необычайно повезло найти такое количество архивов, лежавших на своём изначальном месте под толстым слоем золы, оставшимся от последнего нападения на город. Пожар, несомненно, спас архивы от уничтожения, хотя здесь, как и на всей территории Нимруда, соль, содержащаяся в почве, привела к распаду многих глиняных табличек.
Все перечисленные предметы были найдены в почти не исследованных Лейардом частях северо-западного дворца, но самая интересная находка ждала нас на пропущенном им участке — прямо у главного входа в тронный зал.
Осматривая главный вход в 1951 году, я заметил, что со стены обрушились несколько рядов сырцовых кирпичей, и предположил, что под ними может скрываться что-то интересное, на что был направлен взгляд огромного каменного «ламассу», крылатого стражника, полульва-получеловека. Я не ошибся. В нише, заполненной обломками кирпича, обнаружилась прекрасная стела из известняка — скульптура, имевшая чуть больше четырёх футов в высоту, воздвигнутая основателем дворца Ашшурнасирпалом. Спереди и сзади стела была покрыта письменами. Всего мы насчитали сто пятьдесят четыре строки, из которых следовало, что строительство города было завершено на пятый год правления Ашшурнасирпала, то есть в 879 году до н. э.
В тексте приводился перечень основных зданий города, описания дворцов, храмов и стен, а также царских парков, зоопарков и ботанических садов. Царь очень любил цветы и увлекался садоводством. Из заграничных походов он привозил образцы разнообразных деревьев, ловил по пути диких зверей и загонял слонов в западни, чтобы добыть ценные бивни. Ассирийцы были умными завоевателями и умели снять сливки с покорённых территорий. Текст завершается описанием роскошного банкета в акрополе. Банкет длился десять дней, и в нём приняли участие 69 574 человека, в том числе многие знатные персоны того времени. Просторный акрополь площадью в 65 акров, несомненно, запросто мог принимать по семь тысяч посетителей в день. Воображение сразу рисует картину пира, состоявшегося здесь весной 879 года до н. э. Обильные трапезы устраивались под открытым небом: основная часть гостей, несомненно, пировала в открытых внутренних дворах, и только немногие избранные постетители были приглашены в царские покои. Очень увлекательно читать описание яств и питья: мясных блюд, фруктов и овощей, пива и вина. Это просто кладезь захватывающих сведений.
Самое любопытное в этом тексте, что на его основании можно построить хоть какие-то предположения о численности населения, хотя, конечно, эти без малого семьдесят тысяч человек собрались в Калахе по особому поводу. Дэвид Отс, теперь профессор, который присоединился к нам на пятый сезон в 1953 году, а в последние годы раскопок стал начальником полевых работ, в своей на редкость увлекательной книге «Исследования по истории Северного Ирака» попытался логически вычислить, сколько человек теоретически мог вместить район Калаха-Нимруда исключительно за счёт собственных ресурсов. В своих расчётах он учёл и сложную канализационную систему, построенную вторым основателем города Ашшурнасирпалом, который подарил Нимруду новую жизнь через четыре столетия после Салманасара I. Отс исходил из предположения, что фермеры, чьи земли напрямую зависели от Калаха, не могли жить дальше чем в семи-восьми милях от города. К такому заключению мы пришли, наблюдая за нашими рабочими в Нимруде и Ниневии. Они как раз были готовы преодолеть расстояние в семь или восемь миль с тем, чтобы в тот же день вернуться обратно, но не больше. Взяв эту цифру за основу расчётов и оценив площадь годной для возделывания земли в заданных пределах, мы получаем неожиданный, но правдоподобный результат: собственных ресурсов Калаха хватало не более чем на двадцать пять тысяч человек.
С другой стороны, глядя на устройство зданий, площадь свободного пространства внутри стен, окружавших акрополь и внешний город (их периметр слегка не дотягивал до пяти миль), а также читая анналы поздних ассирийских монархов и описания их армий, можно сделать вывод, что временами гражданское и военное население города существенно превышало эти оценки. Я думаю, мы не ошибёмся, предположив, что порой городское население доходило до ста тысяч человек. В форте Салманасара мы нашли табличку, содержавшую отчёт о проверке как минимум 36 242 луков, а из этого следует, что численность армии в два, а может, и в три раза превышала это количество.
Подобные расчёты очень важны для понимания хода ассирийской истории. Большую часть людей, проживавших в Калахе и, несомненно, в других ассирийских городах, можно смело назвать паразитами, поскольку они сидели на шее у производителей пищи. Чтобы прокормить их всех, приходилось дополнительно ввозить продукты из других стран, в основном из богатых зернохранилищ Сирии, которые активно использовались и позже, уже во времена Римской империи.
Более того, чтобы строить и поддерживать в исправном состоянии обширные муниципальные сооружения ассирийских мегаполисов, требовалась многочисленная рабочая сила. Известно, что на постройку одного из многочисленных акведуков Синаххериба, ведущего в Ниневию, ушло более двух миллионов каменных кирпичей.
Так Ассирия стала заложницей собственной экономики. Из соображений безопасности и хозяйственной необходимости она была вынуждена привлекать к обслуживанию городов непропорционально большое число иммигрантов: сирийцев, неохеттов и даже иранцев. История Нимруда прекрасно иллюстрирует это положение дел: рост и подъём Ассирии и пик завоеваний в IX веке до н. э., сложности с тем, чтобы удерживать разросшуюся империю в восьмом, первые серьёзные неприятности в седьмом и предчувствие неизбежного краха, когда всё пошло кувырком при трёх последних царях, начиная с Ашшурбанипала. Ассирийская империя — лучшая иллюстрация оптимистичного утверждения Полибия, что познания о прошлом помогают нам правильно вести себя в настоящем. Того же мнения придерживался Конт. Вряд ли кому-то хочется повторить судьбу Ассирийской империи, но многие шли по тому же пути.
Раскопки акрополя, в особенности царских покоев, ознаменовались находкой лучших произведений ассирийского декоративно-прикладного искусства за всю историю исследований. В наш четвёртый сезон (это был судьбоносный для нас 1952 год) мы решились на сложное и опасное мероприятие — очистку трёх колодцев в административном крыле.
Первый из них раскапывал сам Лейард. Он добрался до уровня воды и остановился как раз в тот момент, когда следовало бы продолжать работу. Спустившись глубже, мы наткнулись на осколки шестнадцати панелей из слоновой кости и нескольких деревянных. Здесь же нам впервые удалось найти фрагменты клинописных текстов на воске. Когда-то этот способ письма был очень распространён. Тексты были красиво вычерчены мелкой клинописью по пластичной жёлтой основе, смеси пчелиного воска и аурипигмента, делающего воск пригодным для письма. Нашей самой важной находкой стал роскошный переплёт из слоновой кости, надписанный именем царя Саргона (722–705 годы до н. э.). Надпись поясняла, что этот пространный текст с астрологическими предсказаниями, в котором упоминается бог неба Энлиль, будет использоваться Саргоном в его новом дворце в Дур-Шаррукине (Хорсабаде). Мы знаем, что в последние годы правления Саргон готовился к переезду в новую, недостроенную столицу. Нам повезло, что обследование колодца не закончилось несчастным случаем: едва мы вытащили на поверхность нашего специалиста по колодцам, древнего старика из Ашшура, который работал ещё с Андре, как нижняя часть конструкции обрушилась со страшным грохотом.
Это происшествие заставило нас отказаться от мысли добраться до дна другого колодца, расположенного поблизости. Сорок лет спустя Служба древностей, которую не останавливали подобные препятствия, благополучно извлекла оттуда дюжину великолепных композиций из слоновой кости, причём в приличной сохранности. Среди этих находок есть часть слоновьего бивня, узкий конец которой выточен в виде женской фигуры. Женщина поддерживает руками грудь, а повязки на её плечах и ленты в волосах покрыты тонким слоем золота. Там же были найдены две чаши с изображением львов, фрагмент ажурной панели и другие, более мелкие предметы. Самой примечательной находкой стал неглубокий прямоугольный поднос не менее тридцати сантиметров в длину с круглым углублением в центре. По краям поднос украшали цветы лотоса, прикреплённые с помощью соединительного шипа, и более мелкие элементы в виде бараньих голов. Другой важной находкой была объёмная голова евнуха, самая крупная из всех наших голов из слоновой кости, чуть меньше Моны Лизы по размеру. Скульптура сохранила следы краски, а также до нас дошли отдельные фрагменты туловища, состоявшего, по всей видимости, из соединённых вместе сплошных кусков слоновой кости. Сохранились обе ступни, два крупных фрагмента плеча и груди, покрытых прямоугольным орнаментом, изображающим ткань, и другие куски, вероятно, относившиеся к левой половине нижней части тела, также покрытые орнаментом. Высота всей фигуры составила бы около пятидесяти сантиметров.
Но главные сокровища ожидали нас на дне красивого колодца, выложенного кирпичом. Колодец имел более трёхсот рядов кирпича в глубину, а в середине изгибался спиралью. Многие кирпичи были отмечены именем Ашшурнасирпала. Американский нефтяник, к которому я обратился за консультацией, сказал, что каждый подобный колодец стоил кому-то жизни. Наш оказался милосердным. Мы спускались всё глубже и на глубине около семидесяти или восьмидесяти футов, в толще ила под водой, нашли несметные сокровища. Ближе ко дну нам приходилось копать уже день и ночь из-за того, что в колодец просачивалась вода. И всё же, вооружившись керосиновыми лампами, мы смогли закончить эту работу, растянувшуюся на два сезона. Как всегда, я расскажу только о нескольких самых важных находках. Все они были описаны и проиллюстрированы в книге «Нимруд и его руины».
Самой удивительной находкой стала пара хризоэлефантинных панелей, изображавших жестокую сцену — негра, бьющегося в смертельной агонии, практически в экстазе смерти, и львицу, перегрызающую ему горло в зарослях папируса и цветов лотоса. Цветы, расположенные рядами, склонялись поочерёдно то вправо, то влево под порывами ветра. Миниатюрные вогнутые элементы цветов заполняли вставки из лазурита и сердолика. Черты лица негра были тщательно исполнены, а крутые завитки его волос изящно вырезаны из слоновой кости и покрыты золотом. Две эти миниатюры, сделанные для того, чтобы украсить спереди и сзади трон Саргона, были настоящим чудом среди резных поделок. Специалисты предполагают, что их создали финикийские мастера, которых в таком случае, скорее всего, специально привезли из Тира или Сидона для выполнения этих работ в Калахе. То, что мы нашли целую пару панелей, можно считать настоящим чудом. Таким образом, мы получили возможность забрать один экземпляр в Англию, где его с течением времени смогут увидеть миллионы. Большой цветной плакат с изображением этой композиции красуется в лондонском метро и привлекает в Британский музей как англичан, так и иностранных посетителей. Экспонат получил мировую известность.
Прекрасно помню, как однажды в воскресенье, в мае 1952 года, я встречал нашего высокого гостя в лондонском аэропорту. Я сразу доставил его в научно-исследовательские лаборатории Британского музея, где доктор Г. Дж. Плэндерлейт сразу взял дело в свои опытные руки и отправил композицию на рентген, который выявил внутреннюю трещину поперёк спины человека. Это позволило нам без промедления принять меры для сохранения экспоната. Другой, почти безупречный экземпляр стал одним из самых ценных объектов в Багдадском музее. Мудрые законы, существовавшие в те времена в Ираке, позволили разделить две драгоценные находки и отправить их за много километров друг от друга, каждую в свою столицу. В наше опасное время это лучшая страховка от потери и уничтожения обоих экземпляров сразу и лучший способ показать эти уникальные экспонаты и востоку, и западу.
В том же колодце обнаружились и другие неповторимые изделия из слоновой кости: крупная голова прекрасной девы с чёрными локонами и алыми губами, которую мы окрестили «леди из колодца», а Наджи Аль-Азиль — «Мона Лиза». Слава её не померкнет никогда. Своими мягкими чертами эта очаровательная головка составила резкий контраст с другой, не менее крупноголовой, которую мы грубо называли «сестрой-дурнушкой». Сестра-дурнушка была сделана в другой технике и, вероятно, на сто лет раньше, то есть где-то в IX веке, возможно, при Салманасаре III. Эта голова досталась нам, и мы передали её в нью-йоркский Метрополитен-музей, который щедро спонсировал нашу экспедицию начиная с 1951 года. Мне не доводилось работать с более отзывчивым и знающим зарубежным коллегой, чем Чарльз Уилкинсон, занимавший в то время пост куратора Отдела Ближнего Востока в упомянутом музее. Уилкинсон — творец, серьёзный специалист и высокообразованный человек — поддерживал нас со всей возможной преданностью и щедростью и убедил своего преемника вести себя так же. Среди множества изделий из слоновой кости, найденных в том же колодце, отдельного упоминания заслуживают ещё два: это псалии, украшенные рельефным изображением крылатого сфинкса с женской головой. Из-под одежды сфинкса высовывается крылатая кобра, а свободное место в центре композиции занимает псевдофиникийская надпись. Псалии, несомненно, сделаны финикийцами, скорее всего, в VIII столетии до н. э. В их оформлении мы видим египетский сюжет, по незнанию искажённый чужеземными мастерами, не знакомыми с подлинниками. Как бы то ни было, главным образом эти находки интересуют нас постольку, поскольку они являются образцами замысловатого оформления упряжи, предназначенной для царских колесниц.
Сохранить извлечённые на свет находки и обеспечить их должным уходом на протяжении полевого сезона нам помогла изобретательность Агаты и её гибкое воображение. Она моментально сообразила, что объекты, более двух тысяч шестисот лет пролежавшие под водой, следует приучать к новому и сравнительно сухому климату постепенно. Из этих соображений мы несколько недель держали «леди из колодца» под мокрыми полотенцами и день ото дня уменьшали влажность, пока скульптура не привыкла к более сухой атмосфере. Лечение каждому пациенту подбиралось индивидуально, исходя из его личного анамнеза, и со временем мы убедились в правильности принятых мер: все наши экспонаты до сих пор живы и здоровы.
Настала пора распрощаться с имперскими сокровищами акрополя, иначе мы рискуем задержаться на этой теме на много глав.
На каком бы участке северо-западного дворца мы ни вели раскопки, находки стоили потраченных усилий, будь это вазы и печати из алебастра, какие-то другие объекты или новые сведения, помогающие восстановить план дворца. Заново раскопав храм Нинурты с северной стороны, мы получили много новой информации об истории Нимруда, начиная с постройки храма в IX веке до н. э. и вплоть до окончательного разрушения города в седьмом. Припрятанные ценности и огромные сосуды для хранения масла свидетельствовали о былом богатстве. Проводя раскопки в храме, на входе в один из его длинных залов мы наткнулись на превосходно сделанную бородатую голову каменного великана, одного из пары. Найдя эту исполинскую скульптуру, Лейард снова закопал её, потому что не мог вынести из храма такую массивную находку. У нас было важное преимущество перед Лейардом: в его времена не было фотоаппарата, хотя, пока он занимался раскопками, его друг Фокс Тальбот как раз работал над этим изобретением.
Нас очень заинтересовали мощные стены акрополя, всё ещё поднимавшиеся на высоту в 43 фута и имевшие 120 футов в ширину. С восточной стороны вдоль основания стены шла дорога для экипажей, с западной на поверхность выходила огромная набережная из камня. Она растянулась на расстояние в две мили и была сложена из мощных каменных кирпичей, которые были вытесаны при Ашшурнасирпале и, как утверждается в его записях, заложены глубоко под ревущими водами Тигра. Последним человеком, упомянувшим до нас в своих заметках эту гигантскую набережную, был Ксенофонт, который в 401 году до н. э. после битвы при Кунаксе прошёл, не замочив ног, вдоль старого русла реки, когда вёл свою армию из десяти тысяч греков в героический поход к Чёрному морю. По пути он вёл записи для потомков, верные по существу, которые мы смогли дополнить 2350 лет спустя.
В заключение скажу, что мы прекрасно понимали, сколько ещё предстоит сделать, чтобы исследовать хотя бы зиккурат. Это огромная задача, которая потребует нескольких лет основательных раскопок, в результате которых должна решиться проблема подходов к зиккурату и лестниц, ведущих наверх. Если полностью обнажить его прекрасный северный фасад, сложенный из кирпича и камня, то это удивительное зрелище будет поражать воображение посетителей уже на подъезде к Нимруду. Но каждый дюйм акрополя заслуживает раскопок ничуть не меньше, в особенности огромный Центральный дворец Тиглатпаласара III, каменные барельефы которого представляют собой важнейший этап истории ассирийской скульптуры.
Завершая написание этой главы, я хотел бы поблагодарить Службу древностей Ирака и её деятельных сотрудников, которые долгие годы занимались реставрацией и поддержанием северо-западного дворца, его фасада, тронного зала и парадных покоев и тем самым увековечили выдающееся творение его основателя.
Глава 18. Нимруд: форт Салманасара
Почти десять лет мы набирались опыта на раскопках акрополя, но в течение всего этого времени я старался заслужить доверие землевладельцев в надежде, что мне удастся получить у них разрешение на работу за его пределами.
Как-то раз в воскресенье, в один из наших выходных дней в марте 1957 года, мы с нашим эпиграфистом-датчанином Йоргеном Лессёэ прогуливались вокруг внешнего города и подобрали на склоне кирпич с именем Салманасара III. С тех пор я обозначал этот участок не иначе как «Ф. С.», и коллеги постоянно спрашивали меня, что это значит. Очень скоро они узнали, что под этими буквами я подразумеваю «форт Салманасара». Как оказалось, здесь действительно располагался форт Салманасара, хотя сам царь называл его дворцом. Реставратор Асархаддон, живший позднее, подобрал для этого сооружения слово поточнее — «арсенал». Когда мы полностью раскопали обширную постройку, выяснилось, что она имеет площадь около 12 акров и состоит более чем из двухсот комнат. По размерам форт почти в два раза превышал северо-западный дворец: Салманасар ни за что не хотел проиграть собственному отцу. Восточные рубежи здания защищали высокие башни, распределённые вдоль городской стены. Сегодня о них напоминает внушительный ряд покрытых торфом пригорков, вытянувшийся вдоль линии горизонта. Высокие южные укрепления защищает Пати-хегалли, или Канал изобилия, и крутой подъём, ведущий к массивным воротам.
Западная граница форта отстояла от акрополя больше чем на милю, но её легко можно было заметить возле двух ориентиров на юго-восточном углу внешнего города — двух высоких холмов, несомненно, представлявших собой груды сырцового кирпича. Холмы располагались в ста пятидесяти метрах друг от друга и по виду напоминали небольшие зиккураты. Восточный был немного выше западного. Холмы получили название «Тулул Эль-Азар». Вездесущий Рассам провёл здесь разведку в 1873–1874 годах и, кажется, нашёл несколько разбитых изделий из слоновой кости. К счастью, этх находок было недостаточно, чтобы заинтересовать Рассама, и вскоре он переместился на другой участок. Западный холм ещё ждёт своего исследователя, но мы знаем, что он скрыл выросший и восстановленный Асархаддоном Дворец-форт, к его временам уже обветшавший. Однажды какой-нибудь археолог выяснит, какие постройки скрываются под холмом и имеют ли они отношение к основателю форта.
Скоро мы разобрались, что представляет собой восточный, более высокий «тулул». Он скрывает груду обломков, оставшуюся после падения мощных стен тронного зала царя Салманасара, которые по высоте и толщине превосходили все прочие стены дворца и были заметны издалека на фоне плоской равнины. В книге «Нимруд и его руины» я высказал предположение, что когда-то высота этих стен достигала 12 метров (чуть менее 40 футов), это сравнимо с высотой каменных стен Гордиона Ахеменидов в Малой Азии, равной 13 метрам (это более 42 футов). Дэвид Отс, которому выпало вести работы на этом участке форта, не стал браться за раскопку всего тронного зала целиком, а благоразумно раскопал его восточный край, где полоса гипса, обнажённая дождями, указывала на наличие ниши, в которой могла размещаться задняя часть огромного каменного основания царского трона. Он оказался прав. В результате многодневных глубоких раскопок на свет показался гигантский ступенчатый подиум массой более 15 тонн, сохранившийся притом в прекрасном состоянии. Судя по углублениям на горизонтальной поверхности подиума, трон, давно уже снятый со своего места, три раза менял своё местоположение.
К счастью, само основание было слишком тяжёлым, чтобы мидийцы смогли его унести с собой. Они старались поскорее отправиться дальше и окончательно уничтожить Ассирию, а перед тем, как нанести решающий удар по Ниневии, требовалось ещё осадить Ашшур и Тарбису.
Из длинной надписи на основании трона следует, что его установили на тринадцатый год правления Салманасара III, то есть около 845 года до н. э., когда строительство дворца уже практически было завершено. Переднюю и боковые грани основания украшают рельефные сцены, изображающие победы над врагами царя, главным образом в Сирии и в Халдее, у самого Персидского залива, откуда царю доставляли дань. На рельефе также изображены слуги, несущие огромные слоновьи бивни. Сирийские бивни поставлял Кальпарунда, царь Унки. Там, на Амукской равнине, пятью столетиями ранее любили охотиться фараоны.
Длинные бордюры, опоясывающие основание трона Салманасара, уступают по размеру барельефам его отца в северо-западном дворце, но выполнены с большим мастерством и свидетельствуют о его любви к миниатюрным композициям, примеры которых мы можем видеть также на Чёрном обелиске и на бронзовых вратах Балавата. Почётное место на передней стороне основания занимает сцена, изображающая, как царь Ассирии прикасается к руке Мардук-закир-шуми, возвращенного им на вавилонский трон. Празднование этого события происходит под сенью царского шатра. На рельефе с большой выразительностью изображены оба царя, их слуги и личные принадлежности. Эта сцена свидетельствует о том, как важен был для Ассирии союз с Вавилоном, важным религиозным центром. Политические связи с этим священным городом могли повлиять на то, будет ли мир или война между Ассирией и примыкавшей к ней с юга Халдеей. Тронный зал Салманасара был раскопан достаточно, чтобы мы смогли разглядеть, что его стены расписаны прекрасными картинами вместо каменных рельефов, которые предпочитал его отец. Мы снова закопали рельефы, чтобы сохранить их до времени, когда их можно будет выставить без риска.
Следы на подиуме ясно указывали на то, что трон перемещали три раза. Возможно, один раз это было сделано при Шамши-Ададе V (824–810 годы до н. э.): в одном из военных складов была найдена табличка из слоновой кости, из этого можно было заключить, что Шамши-Адад проводил здесь реставрацию. Под подиумом обнаружились осколки упавших картин, указывающие на то, что его передвигали в разгар реставрационных работ. В полу перед подиумом были сделаны две глубокие ямы для столбов, которыми пытались подпереть просевшую кровлю: по всей видимости, её частично разрушил враг. Попытка восстановить зал после первого нападения ни к чему не привела: и здесь, и на других раскопанных участках мы нашли многочисленные признаки того, что последний и окончательный разгром Нимруда произошёл почти сразу после первого. В дальнейшем на месте бывшей военной столицы Ассирии кое-как влачили жалкое существование ещё несколько поколений.
В форте мы сделали одно крайне важное открытие. Все признаки указывали на то, что многочисленные изделия из слоновой кости, существенная часть которых была выполнена в финикийской манере, создавались специально для Салманасара III[91]. В надписях на основании трона упоминался Азаил, царь Дамаска, а в покое T-10 мы встретили имя Ирулени, царя Хамата. Оба монарха были современниками Салманасара. Эти наблюдения подкрепляют сведения, полученные в Самарии, где царь Ахав выстроил дворец из слоновой кости, несомненно, по настоянию своей финикийской супруги, уроженки Тира. Ахав также был современником Салманасара. И даже археологические данные раскопок в самой Самарии поддерживают, если не полностью подтверждают гипотезу, что найденные там изделия из слоновой кости в финикийском стиле относятся к дворцу IX века до н. э. И наконец, существует мнение, что на финикийский стиль оказали влияние орнаменты, найденные на египетских фаянсовых чашах, которые были сделаны в мастерских Гермополиса не позднее X века до н. э. В пользу нашего предположения говорят и другие данные раскопок в Египте, особенно металлические изделия девятого века, найденные в Танисе.
В тронный зал вели две двери, проделанные в западной стене, совсем как и в Северо-западном дворце. Также сюда можно было попасть через покой, расположенный с восточной стороны. Там, раскинувшись над оформленным башнями входом из восточного двора, посетителей встречало великолепное многоцветное панно из глазурованного кирпича, выполненное в пяти цветах: белые, чёрные, зелёные и жёлтые краски сияли на синем фоне. На картине были изображены две фигуры царя, стоящие под крылатым диском у подножия древа жизни; композицию обрамлял орнамент из газелей и листвы. Это впечатляющее произведение мастерски восстановил Джулиан Рид. Высота картины чуть превышала четыре метра, а ширина была более трёх метров. Удивительная панель сохранилась для потомков благодаря тому, что, когда расположенные под ней ворота горели при разгроме Калаха, она целиком оторвалась от кирпичной стены, упала на землю плашмя и была надёжно погребена под руинами. Неподалёку располагался огромный зал, оформленный, как я уже упоминал, композициями из слоновой кости в финикийском стиле, которые мы теперь можем с уверенностью отнести к периоду правления Салманасара III.
На таком ограниченном пространстве невозможно отдать должное огромному архитектурному сооружению, состоящему более чем из двухсот покоев. Во времена Асархаддона этот дворец уже официально назывался «Экал машарти», то есть арсеналом — зданием, где расквартировывают солдат, размещают колесницы, лошадей, оружие, хранят всевозможные военные трофеи. В целом это описание довольно точно соответствует тому, что мы здесь обнаружили. При Синаххерибе фортом никто не занимался, но позже его сын Асархаддон восстановил и перестроил часть южного крыла. Его работа видна во многих местах, но особенно бросается в глаза претенциозный южный фасад, неловко влепленный поверх старой кирпичной стены Салманасара. Прежние ворота уступили место новым. Теперь входить в здание полагалось по длинному восходящему коридору, украшенному настенными картинами. По обе стороны от входа по изящной известняковой кладке шла памятная надпись, говорившая о заслугах Асархаддона. В последние годы правления этого монарха явно преследовала мысль вернуть столицу из Ниневии в Калах — об этом свидетельствовал и найденный Лейардом недостроенный дворец в юго-западной части акрополя. Пышное оформление южного фасада форта продолжалось и вдоль восточной стены, но здесь работа не была закончена. Смерть помешала Асархаддону исполнить грандиозные замыслы.
В южном крыле здания также располагались жилые покои, включавшие в себя относительно небольшую комнату, украшенную настенными картинами в стиле, характерном для времени царствования Асархаддона. В комнате обнаружилась пара каменных «рельсов», ведущих к месту, где когда-то, должно быть, был подиум. Вероятно, он был сделан из дерева или сырцового кирпича. Обычно за подиумом располагается ниша, но здесь не было и её. Я склоняюсь к смелому предположению, что это помещение служило приёмной для царицы: не сомневаюсь, что могущественным царицам Ассирии полагалось иметь подобные покои. Более того, в непосредственной близости от этой комнаты находились залы и хранилища, в связи с которыми мы прочли несколько женских имён, принадлежавших «шакинту», то есть правительницам, вероятно, самой царице и кому-то из должностных лиц женского пола. По всем признакам это крыло являлось гаремом. Рядом с тронным залом находилась пара гардеробных и умывальных комнат. В этих помещениях мы нашли множество сокровищ, в том числе несколько прекрасных композиций из слоновой кости. Одна из комнат была прямо-таки забита подобными изделиями, посеревшими и почерневшими в карающем огне.
На пороге зала по соседству с покоями царицы мы нашли превосходную люнетту[92] из слоновой кости с изображением крылатого сфинкса с телом льва и крылатой кобры, или урея, появляющегося из одежды в финикийском стиле. Это удивительно изящное изделие я склонен связывать с самим Асархаддоном. Насколько нам известно, ни один из царей до него не интересовался сфинксами, а с его именем связано несколько соответствующих каменных скульптур, в первую очередь найденных в северо-западном дворце, правда, все они выполнены в ассирийском стиле. Действительно, это единственный пример изображения в финикийской манере, но тонкая и выразительная передача черт лица характерна для всех сфинксов Асархаддона. В книге «Нимруд и его руины» я предположил, однако, без веских причин, что наша люнетта была изготовлена или для Тиглатпаласара III, или для Саргона, то есть во второй половине VIII века до н. э. Моё предположение не подкреплялось серьёзными доказательствами, поэтому новая версия представляется мне не менее вероятной, особенно если вспомнить, что Асархаддон побывал в Египте, расширил до его границ Ассирийскую империю и поддерживал связь с Финикией. Таким образом, люнетта со сфинксом вполне могла украшать его трон или трон его царицы.
Тому, кто не был в Нимруде, сложно представить себе широкий размах стен Салманасара и то сильное впечатление, которое производит на зрителя длинный ряд выдающихся башен из сырцового кирпича, растянувшихся с восточной стороны на триста ярдов вдоль горизонта. Во втором томе книги «Нимруд и его руины» приведён план этого продуманного архитектурного комплекса, снабжённый подробным описанием. Из просторных внутренних дворов можно было попасть к складам, царским покоям и солдатским баракам, щедро снабжённым ванными комнатами: в представлении ассирийцев чистота шла рука об руку с благочестием. С течением времени различные монархи добавляли новые покои или реставрировали старые. В особняке, воздвигнутом Адад-нирари III (808–782 годы до н. э.), мы нашли уникальный комплект ажурных панелей из слоновой кости, на которых были изображены носильщики-негры с обезьянками в руках.
В состав юго-западного крыла входили жилые покои. Как мы уже видели, здесь, в стороне от дворцовой жизни, был устроен гарем, где в уединении жили принцессы. По мнению Дэвида Отса, некоторые комнаты были расположены в соответствии с общественным положением их хозяек. Здесь, как и везде, мы обнаружили красноречивые свидетельства разгрома города и массовое захоронение тех, кто погиб от руки мидийцев и вавилонян. Массивные западные ворота, защищённые башнями по краям, были проломлены нападавшими. На одном из черепков было обнаружено выразительное изображение башни — со всеми лестничными пролётами, валгангом и бойницами. О военном присутствии говорил и ещё один любопытный экспонат — трибуна принимающего парад, найденная нами в юго-восточном внутреннем дворе.
Разглядывая это величественное здание, следует мысленно достроить верхний этаж. Все деревянные лестницы, ведущие наверх, давно истлели, но в некоторых комнатах ещё сохранились кирпичные ступени. Большая часть изделий из слоновой кости хранилась на верхнем этаже, который без остатка обрушился на землю. Была, правда, одна просторная комната на нижнем этаже, в которой мы обнаружили некоторое количество спинок от тронов и стульев, ожидавших починки после первого нападения, произошедшего в 614 году до н. э. Все они были сделаны около 730 года до н. э. и представляли собой уникальное собрание, дающее представление о мебели этого периода. В 612 году до н. э. после двухлетней отсрочки произошло второе, последнее нападение, комната вместе со всеми сокровищами была погребена под руинами здания и оставалась в таком виде, пока мы не обнаружили её в 1957 году.
Раскопки форта Салманасара стали последним исследованием, которое провела в Нимруде Британская школа археологии в Ираке. Нам удалось вписать новые выдающиеся главы в анналы ассирийской археологии. Предполагаю, что коллекция изделий из слоновой кости, собранная в форте Салманасара, превышала по размеру любую из ранее найденных подобных коллекций. Невозможно передать в двух словах всё разнообразие этих изделий, но, пожалуй, самыми красивыми из них были объёмные ажурные изображения антилоп, газелей и других рогатых животных. Удивительно, но нам не удалось найти ни одного изображения слона — источника тех богатств, которыми был столь щедро обеспечен ассирийский двор. Исследователи полагают, что большинство изделий из слоновой кости было вырезано из бивней сирийских слонов, азиатской разновидности индийского слона, известной как Elephas Indicus var. Deranyagala. Источниками бивней были стада, поселившиеся на Амукской равнине, где на них уже охотились фараоны в XV веке до н. э. Скорее всего, ассирийские охотники полностью уничтожили эти стада к началу VII века до н. э. Единственное изображение индийского слона мы видим на чёрном обелиске Салманасара III, созданном в 841 году до н. э., где также запечатлен царь Иудеи (Иорам или Иегу[93]), целующий ноги царю Ассирии.
Для экспедиции, состоявшей максимум из двенадцати человек, раскопки форта Салманасара представляли непростую задачу, но крупные штаты сотрудников отвлекают начальника. Как бы прекрасно он ни умел передавать полномочия, всё равно ему приходится заниматься организацией вместо того, чтобы посвящать время своему основному делу — раскопкам. Другой серьёзной преградой для увеличения штата были потенциальные расходы на жильё, питание и проезд, которые могли подкосить экспедицию. На наших огромных раскопках мы обошлись минимальным штатом. В состав экспедиции входили: начальник с супругой, старший помощник, архитектор, геодезист, два эпиграфиста (или более), по меньшей мере один специалист по керамике, начальник лаборатории, два помощника на полевых работах (или более) и — последний в списке, но не в жизни — секретарь. Пост секретаря большую часть времени занимала Барбара Паркер. На её плечи ложились все экспедиционные заботы, и в случае любых накладок она оказывалась крайней. Ключевая фраза была — «опять уволена». Барбара была для нас настоящим сокровищем, и я просто не знаю, что бы мы делали без неё. Эта абсолютно бесстрашная женщина, как правило, одетая в белые, красные или синие курдские шаровары с цветочным орнаментом, брала на себя решение всех проблем и добровольно перед началом каждого сезона выезжала в поле, чтобы починить крышу и привести дом в порядок. Барбара отличалась забывчивостью, и порой ей даже приходилось брать в долг у рабочих, чтобы им же и заплатить. Рабочие ничуть не обижались, напротив, они были благодарны Барбаре за то, что она исполняла при них роль врача и в случае любой болезни, будь то запор или кровавый понос, всегда готова была прийти на помощь. Мы ценили Барбару ничуть не меньше рабочих. За столом она, не переставая, развлекала нас интересными разговорами и с готовностью играла роль придворного шута. Также ей приходилось работать экспедиционным эпиграфистом и фотографом. Помню, как она выполняла эквилибристические номера на упаковочных ящиках, чтобы взять в фокус мелкие объекты. Барбара интересовалась древними религиями, отлично разбиралась в цилиндрических печатях и применила свои огромные познания к толкованию их иконографии.
- Не сирены ль это звук
- Оглушает всех вокруг?
- Это Барбара грядет —
- Заправлять тут всем идет.
- Нос прочистила — на нас
- Будто грянул трубный глас.
- Ангел в курдских шароварах,
- Наша бойкая Варвара!
Агата посвятила ей и вторую оду. Она звучит так:
- Варвара-мученица раз
- В Ассирии жила.
- Добрее и щедрее всех
- Святая та была:
- Любой мог смело попросить
- Штаны или омлет.
- Не ела завтрака она,
- Питаясь лишь в обед.
- Всегда работала как вол,
- Выкладывалась, но
- Начальник злобный на нее
- Ругался все равно.
- «Так! Ну и кто тут виноват?!» —
- Кричит он вне себя.
- Варвара спрятала глаза
- И еле молвит: «Я…
- Я понимаю, мой удел —
- Таскаться с рюкзаком,
- Брать все проблемы на себя,
- Безропотно притом,
- Но у меня великий дар —
- Чудесно исцелять:
- Кто от изжоги соду пил,
- Тот может рассказать.
- Вчера хотела отдохнуть,
- Поспать хотя бы час.
- Вдруг голос: „Это что еще?!
- Уволить стоит вас!“
- А я работник хоть куда!
- Я даже джин не пью!
- Все, хватит, больше я и вам
- Ни капли не налью!
- И в министерство я уйду,
- На вас не настараться мне!
- В какое? Вам не все равно?
- Ну да, дезинформации!»
Одним из наших важнейших занятий был поиск еды. Каждый день мы прочёсывали округу в поиске яиц, которые каждую неделю ели сотнями, так что к концу сезона найти их стало настоящей проблемой. Также мы пытались разводить индюшек — это было самое дешёвое мясо, и притом гораздо более вкусное, чем жёсткая баранина и совершенно несъедобная говядина, продававшиеся в Мосуле.
За поездки на почту и покупку спиртного отвечал наш отважный водитель-яковит Петрос. Как многие водители, этот парень мог взбесить кого угодно. Он был очень упрям и постоянно сыпал невыполнимыми предложениями, но память у него была превосходная — несомненно потому, что он не умел ни читать, ни писать. Он мог удержать в голове список из сотни покупок и, вернувшись в Нимруд после захода солнца, отчитывался мне по каждому пункту. Как-то раз Петрос по собственному почину привёз мне топор, и я пригрозил, что он получит у меня этим топором по голове. Парень был по-своему честен, хотя и не гнушался использовать подвернувшуюся возможность. Например, однажды летом он забрал себе наш автомобиль, убедив себя, что мы за ним не вернёмся. Вскоре, правда, нам удалось забрать машину назад. Экспедиция с большой симпатией относилась к Петросу и полностью на него полагалась. Он обладал одним абсолютно незаменимым качеством — хорошим чувством юмора.
Среди многих живописных персонажей, составлявших холст нимрудской экспедиции, никак нельзя забыть моего дорогого друга Дональда Уайзмана. Дональд был мастер на все руки и всегда оставался в хорошем расположении духа. Он совершенно не обижался, когда мы по-доброму подшучивали над его фундаменталистскими идеями, и храбро выдержал перекрёстный допрос, который устроил ему Роберт Гамильтон. Дональд никогда не был заумным академиком, «похорон грамматика»[94] ему не дождаться, но совершенно бесстрашно делился своими идеями, предпочитая скорее совершить ошибку в интерпретации, чем потерять часть информации. Он был полной противоположностью тем учёным, которые так боятся ошибиться, что ничего не делают. Научный мир должен быть благодарен этому неутомимому, стремительному и от этого порой допускающему неточности эпиграфисту за невероятно быструю расшифровку текста на стеле Ашшурнасирпала (не прошло и полугода с момента находки стелы, как уже состоялась публикация) и за реконструкцию «рабских договоров» Асархаддона. Ни один учёный не справился бы с этой объёмной задачей столь быстро и качественно: поступающие поправки и критические отзывы в основном несущественны. Уже одну эту его работу можно считать огромной заслугой. Сколько весёлых путешествий по ухабистой дороге совершил я в компании Дональда, хотя должен сказать, что меня частенько раздражал его неуместный оптимизм в трудной ситуации. В его биографии была очень любопытная строка: во время войны он служил в контрразведке, занимался перехватом сигналов для Королевских ВВС Великобритании и еще молодым дослужился до полковника авиации. Он был как свежий глоток воздуха для Британского музея и для Школы востоковедения и африканистики, куда его взяли на профессорскую должность. Где бы он ни служил, он всегда был готов взять на себя административные заботы, никогда не жалел на это времени и выполнял двойной объём работы для Британской школы археологии в Ираке. Дональд порой очень путано выражал свои мысли. В Нимруде мы как-то спросили его, как организован каталог в Британском музее, но даже толком не поняли, был ли он там вообще. Приведённая ниже ода написана Агатой по мотивам этого разговора:
- «Вы мудры, мистер Уайзман», — профессор сказал. —
- «Вы учились, смотрю, много лет.
- Я уверен, что нам на вопрос номер пять
- Вы дадите подробный ответ».
- «Что ж, с какой стороны посмотреть. Например,
- Утверждать я готов не шутя:
- Все последние данные нам говорят,
- Что, вне всяких сомнений… Хотя
- Тут двоякий подход. Я склоняюсь к тому,
- Что, наверное, если учесть
- Положение дел, то, скорее всего,
- Может быть… В общем, да. Так и есть».
- «Мистер Уайзман, позвольте», — профессор сказал, —
- «Вас поздравить с блестящим ответом!
- Говорили вы очень уверенно и
- Не ответили толком при этом.
- Недосказанность, складность — за все высший балл.
- Восхищённый учёный совет
- Без сомнений присвоит вам степень Д. М.»[95].
- Мистер Уайзман воскликнул: «О нет!»
В Нимруде с нами работало много прекрасных людей, и хотя я не могу рассказать обо всех на этих страницах, я благодарен каждому из них без исключения. Много сделал для нас Питер Хулин, эпиграфист из Оксфордского университета — в частности, он занимался расшифровкой надписи, имеющей отношение к Салманасару III, одной из ключевых фигур Нимруда. Питер отличался педантичностью и превыше всего ценил точность. Он был человеком практичным и мог показать характер, когда ему казалось, что кто-то ущемляет его права, но в целом мы видели в нём доброго, благожелательного и любезного товарища. Думаю, за время совместной работы мы с Питером обменялись равными объёмами упрямства и ругани. Надеюсь, его не обидит эта характеристика. Я писал её с самыми добрыми чувствами.
Страсть Питера к автобусам и озабоченность их расписанием нашла отражение в оде, в которой Агата описала Нимруд его мечты.
- В депо автобусы идут
- С точнейшим интервалом,
- И снова в путь раз в пять минут
- От сельского вокзала.
- Движенья требует душа,
- Не стойте у двери!
- Мы отправляемся в маршрут
- К Салманасару-3.
Профессор Йорген Лессёэ, наш датский коллега, заслуживает особого упоминания. Он работал с нами на протяжении трёх сезонов и обеспечивал нас приятной финансовой поддержкой от Карлсбергского фонда, а заодно и баночным пивом. Этот добрый и храбрый человек в войну служил в датском сопротивлении, и полная опасности жизнь оставила на нём отпечаток. Приобретя опыт полевой работы в Нимруде, Йорген, талантливый учёный, принял участие в важных раскопках Телль-Шемшары в Докане, и на его счету было множество интересных находок, в первую очередь — клинописных источников. Увы, для человека таких способностей он опубликовал удручающе мало работ, и это тем обиднее, что всё, что выходило из-под его пера, написано с большим мастерством. Я помог Йоргену получить годовой пост в Колледже всех душ Оксфордского университета, но ему ещё предстоит довести до конца начатую там работу. Мы никогда не забудем, как Йорген совершил эпическое путешествие через грязь, когда его машина сломалась в деревне Акуб по пути из Мосула. Дело было ночью. Одной рукой Йорген прижимал к себе тяжёлый чемодан, другой — шумерский словарь, который был ещё тяжелее. Он добрался до лагеря под утро совершенно без сил. Этого чувствительного и склонного к нервозности человека любили все коллеги. Мы надеемся, что рано или поздно он сможет преодолеть преграду, отделяющую его от публикации.
- Лессёэ-эрудит
- Об этом молчит,
- Но тексты с холма
- Его сводят с ума.
- Вчера ввечеру
- Лежал он в жару
- И выкрикивал в муке
- Непонятные звуки.
- Если пёс вдруг проснётся… (?)
- Если страж промахнётся…
- Если птицы поют…
- (Полежу-ка я тут… (?)(…))
- Если речка во льду…
- (Что со мной? Я в бреду?)
- Если ужина нет…!..!..(?!)
- Необычный сюжет.
- Но совсем оскорблением
- Он считал уравнение:
- (……)=(……) (?)
- Стра-(НИ) — ца (ЖАР) — гона
- На тему (?) (С)ар-(ГОН)а.
- Он проснулся с проклятиями,
- И назвал всех (ПРЕД)ателями,
- И гонялся по улице
- За несчастной сотрудницей.
- В этот страшный момент
- Вдруг ещё документ
- Подоспел из архива.
- Он воскликнул счастливо,
- Убивать передумал,
- Сел послушно в свой угол,
- Прочитал всё с начала —
- И ему полегчало!
Йорген Лессёэ привёз с собой группу датчан, которые, как и он сам, тренировались перед раскопками Шемшары. Среди них было два архитектора, Могенс Фриис и его очаровательная норвежская супруга Анне Тинне, ставшая настоящим украшением экспедиции. Вместе они начали составлять план форта Салманасара. В поле им помогал ещё один датчанин, Флеминг. Нашим самым выдающимся гостем стал знаменитый датский палеоботаник Ханс Хельбек, внёсший ценный вклад в мою книгу «Нимруд и его руины» в виде подробного описания остатков зерновых и растительных культур, найденных в форте Салмансара. Хельбек женился на другой нашей коллеге по экспедиции, Диане Киркбрайд. Позже Диана провела успешные раскопки Ум-Дабагии, поселения эпохи раннего неолита на севере Ирака, и неолитического поселения Бейда в Иордании. За несколько лет до выхода на пенсию Диана стала директором Британской школы археологии в Ираке, но ей гораздо приятнее было вести собственную работу. Она была настоящим исследователем из XVIII века, любила археологию и не боялась браться за трудную работу в глухих местах.
Троих датчан Йоргена Лессёэ Агата также увековечила в одной из од:
- Плывут, плывут датчане на Средний на Восток,
- Плывут Нимруд увидеть, утопленный в песок.
- Зовут их очень странно на наш английский слух:
- Выучивал я «Йорген» в течение лет двух.
- Норвежка Анне Тинне не вызвала проблем,
- Но «Сёрен» не дается, как мы ни бьемся, всем, —
- Хоть парень он веселый, совсем не Кьеркегор.
- Остался только Флеминг — и вот он, весь набор!
Расскажу ещё о двух столпах нашей экспедиции, Джоан Лайнс — как её звали, когда она только к нам присоединилась, — и Дэвиде Отсе. Джоан, американка, проработала с нами несколько сезонов. Она специализировалась на керамике и проделала в экспедиции огромную работу. Джоан была прекрасным организатором и настоящим профессионалом своего дела. Впоследствии она написала много прекрасных статей в разных областях восточной археологии. В Нимруде она привлекала внимание всех молодых археологов — они тянулись к ней, как мухи к варенью. К счастью, во второй сезон она обручилась с Дэвидом Отсом, вскоре вышла за него замуж, и они жили вместе в Кембридже долго и счастливо.
- Передо мною каталог —
- В него я заношу
- Любую единицу, что
- В раскопах нахожу.
- «Находка тыща девятьсот».
- Округлости манят,
- Изгибы, выпуклости, стать
- Пленяют и разят.
- Ах, смугло-розовая плоть,
- Ах, белая кайма…
- А эта зелень с синевой
- Сведет меня с ума.
- С изящной шейкою они,
- Как видно, заодно.
- О, столь прелестный экземпляр
- Ищу я уж давно!
- Внушительная вышина,
- Вполне себе охват.
- Происхожденье образца —
- Нью-Йорк, заморский штат.
- Заканчивая протокол,
- Отмечу, не тая,
- Что эту роскошь отыскал
- Не кто иной, как я!
Дэвид Отс, теперь профессор, был связан с экспедицией с пятого и по предпоследний сезон. Он профессионально разбирался в сырцовом кирпиче и после Нимруда отправился раскапывать руины среднеассирийского периода в Телль-Римах, древнюю Карану, в Джебель-Синджар. Лучшего полевого работника, чем Дэвид, не найти во всей Месопотамии. Основной план форта Салманасара в огромной степени является продуктом его труда. Такой незаменимый в поле специалист на академической должности только напрасно тратит время — каким бы прекрасным учёным он ни был. Раскопки у него в крови, и нужно надеяться, что в конце концов он сможет освободиться от административных забот: его призвание лежит в другой сфере. Его книгу «Исследования по истории северного Ирана» я считаю лучшим трудом в этой области, так как он профессионально разбирается не только в истории, но и в географии. Дэвид человек весьма здравомыслящий и в основном приятный в общении — кроме тех моментов, когда его упрекают в прокрастинации, тогда его корнуоллский темперамент берёт верх. Он чрезвычайно добр и предупредителен. Я уверен, что он оставит след в истории. В Нимруде у нас порой было столько Дэвидов, что Дэвида Отса мы стали называть «шейх Дауд». Это имя ему очень подходило: из него вышел бы прекрасный арабский кочевник. Высокий человек с мягкими манерами, он походил на Аполлона, глядящего с олимпийских высот на этот мир, который наверняка ему порой казался удручающим и неприятным.
- Шейх Дауд был спокоен до ужаса,
- Хоть и явно был болен,
- Утверждал: всем доволен.
- Он сидел и сидел —
- И вдруг… пожелтел!
- Налетели врачи
- И как стали лечить!
- Взяли антибиотики
- И другие наркотики;
- Утверждают, что справятся:
- Не умрет, так поправится!
- Протирали его салфетками,
- Накормили его таблетками,
- Предложили ему слабительного —
- И теперь ему плохо ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!
Другим Дэвидом был Дэвид Стронах. Он был совсем зелёным юнцом, когда появился в Нимруде во время крайне урожайного сезона, в 1957 году. Он помогал извлекать на свет уникальное собрание спинок от стульев, найденное в покое форта Салмансара, а также занимался медными булавками, о которых потом со знанием дела писал. Дэвид, душа компании, скромный, располагающий и энергичный, вскоре после отъезда из Нимруда был назначен — в исключительно молодом возрасте — директором только что основанного Британского института Персидских исследований в Тегеране, и его личное обаяние сослужило ему хорошую службу на этой должности. Талант Дэвида по части связей с общественностью был очень полезен при запуске института. Позже он безупречно провёл целый ряд раскопок, в частности, в Пасаргадах, основанных Киром Великим, и в мидийском городище Нуш-и-Джан. Приятно вспоминать, сколько археологов, получивших свой первый полевой опыт в Нимруде, сделали потом достойную карьеру в других местах. Двое, Дэвид Стронах и Невилл Читтик, возглавили институты востоковедения, пятеро получили профессорские посты.
Примерно в одно время с Дэвидом Стронахом с нами работал ещё один выпускник Кембриджа, Николас Киндерсли. Николас не обладал глубокими научными познаниями, но в экспедиции его очень ценили: он был мастером на все руки и отлично разбирался в автомобилях. Сейчас Николас руководит успешным отелем в Ирландии, и мне жаль, что он покинул науку. Вот ода, в которой Агата увековечила его страсть к меренгам:
- — Расскажи-ка, повар наш:
- Что на ужин ты нам дашь?
- — Отбивных нажарю вам,
- На десерт безе подам.
- Только Барбаре ни-ни —
- Ей нельзя такой стряпни.
- Что до Ника — для него
- Есть по дюжине всего!
Другим незабываемым персонажем была Марджори Говард, которую к нам направил Институт археологии (тогда он находился в Риджентс-парке). В экспедиции Марджори закачивала поливинилтолуол и другие химические соединения в наши изделия из слоновой кости. У неё был немалый художественный талант. Марджори пришлось нелегко, когда за ней стали ухаживать сразу двое коллег. Она была самой непонятной из всех знакомых мне женщин. Марджори очень любила свою собаку и на время своего отъезда из Англии наняла какого-то свидетеля Иеговы, чтобы тот заботился об её отце и об этой собаке, но переживала она только за собаку. Для нас загадка, как ей удалось добраться до дома, потому что женщина решительно отказалась заниматься такой чепухой, как получение виз. Все чиновники уступали ей от безысходности.
- Послушайте! Нет, даже так:
- Внемлите сей же час!
- И пусть поливинил бежит
- Ручьем из ваших глаз!
- «Три с половиною вьюка»,
- Сказал сэр Мортимер,
- Покажут скоро по ТВ,
- Не будь он сэр и пэр!
Важное место среди экспедиционных персонажей занимает наш сторож Хамад. Он работал у нас много лет и так разбогател, что пришлось его рассчитать. Как только мы прибыли в Нимруд, этот предприимчивый человек тут же отправился устраиваться к нам на работу, предстал перед нами с полным патронташем поперёк груди и с винтовкой в руке, и мы немедленно его наняли. Хамад был наглым и агрессивным, сущим наказанием и поэтому идеально годился на эту должность. Он держал свирепого пса, который бросался на всех и вся, особенно доставалось нашему эпиграфисту С. Дж. Гэдду, когда он среди ночи направлялся к крепостной стене, где был устроен туалет. Однажды нам собрался нанести визит министр образования Халил Кенна в сопровождении большой группы государственных чиновников, и мы испугались, что пёс Хамада может укусить Его превосходительство за ногу или, как говорят арабы, отведать его мяса, и тогда, естественно, у нас будут крупные неприятности. Я заявил Хамаду: «Сколько мяса твоя собака откусит с икр Его превосходительства, ровно столько же я отрежу от тебя». И это сработало.
Было непросто убедить профессора С. Дж. Гэдда, автора книги «Камни Ассирии», отправиться с нами в Нимруд, о котором он столько писал, но в конце концов профессор поддался на уговоры и с большим удовольствием провёл время на открытом воздухе и смог отдохнуть от обязанностей смотрителя Отдела восточноазиатских древностей Британского музея. Сирил Гэдд прекрасно себя чувствовал в экспедиции, но жестоко страдал от нашей жирной пищи и мечтал о старом добром хлебном пудинге, который здесь было невозможно достать. Он до сих пор стоит у меня перед глазами, одетый в поношенную форму почтальона, которую носил ещё в войну, когда служил истопником в Британском музее. В этом облачении он, преисполненный тревогой, занимался импровизированной печью для обжига клинописных табличек, ловко сооруженной нашими архитекторами. Печь нам очень пригодилась. Тогда, в 1952 году, мы обнаружили не только обширный архив, хранившийся в северо-западном дворце, но и чудесные сокровища, спрятанные на дне колодцев. Гэдд же был таким скрытным и пессимистичным, что его лондонские коллеги даже не заподозрили, что мы нашли нечто экстраординарное. Об этом Агата сочинила такое стихотворение.
Сказание о смотрителе, об архитекторе и о младом эпиграфисте (в соавторстве с Льюисом Кэрроллом[96])
- Смотритель с архитектором
- Склонясь над кирпичом,
- Всё рассуждали, что к чему,
- И сколько, и почём,
- И как сложить, и как нагреть,
- И что вообще потом.
- Дул ветел с шумом по степи
- И пыль с собою нёс,
- Их копоть на стенах трубы
- Расстроила до слёз.
- Не дует север никогда!
- Плевал он на прогноз.
- Снеся под ноль, сложили печь
- Они наоборот,
- И с рёвом языки огня
- Взлетели в дымоход.
- Сказал Хранитель: в этот раз,
- Я думаю, сойдёт.
- Хранитель молвил:
- О, друзья! Спешите. Пробил час.
- Все по горшкам и марш в огонь,
- Пока он не погас.
- Горят дрова, краснеет печь,
- И ждём мы только вас.
- Таблички вскрикнули: в огонь?
- Постой, не горячись!
- Внутри мы мягкие, хотя
- На вид как кирпичи,
- И от жары наверняка
- Скукожимся в печи.
- Но пятьдесят табличек в ряд
- Отправились в песок,
- И в адский пламень за горшком
- Последовал горшок
- (А странно: мистер Гэдд на вид
- Не так уж был жесток).
- «Покончим с мягкотелостью!» —
- Скажу за Ильичом:
- Готовы? Что ж, давайте вас
- Скорее запечём
- (Но ваше мнение сейчас,
- Вообще-то, ни при чём).
- С утра младой эпиграфист,
- Поднялся в ранний час,
- Сломал он дверь и разобрал
- Табличек весь запас,
- Держа намоченный платок
- У покрасневших глаз.
- А мистер Гэдд, одетый в шлем,
- Пустился всех ругать,
- Его узнать бы не смогла
- Тогда родная мать —
- И наконец мы древний текст
- Сумели прочитать!
Автором печи для обжига, с которой работал Гэдд, был наш добрый и славный шотландский архитектор Джон Рид, впоследствии занимавшийся реставрацией древних шотландских зданий. Ему Агата посвятила такую оду.
(Мистер Рид увидел этот примечательный сон после того, как от души поел ягнёнка с рисом. Ему снилось, что он даёт интервью журналисту одной газеты.)
- «Скажите мне, о мистер Рид,
- Вы думали о чём,
- Когда просил вас Левенштайн
- Ему построить дом?
- Что ощутили вы, узнав:
- Вас нанимает он?»
- Рёк из-за трубки мистер Рид:
- «Что ж… Я был удивлён».
- «Когда же мистер Левенштайн
- Сказал, что вы вольны
- Творить, как требует душа,
- И траты не важны, —
- Как вы восприняли тот факт,
- Что вам так верит он?»
- Рид молвил, пуншу отхлебнув:
- «Что ж… Я был удивлён».
- «Богат, я знаю, Левенштайн,
- А также Финкельбаум.
- Так почему они заказ
- Отдать решили вам?
- Ведь вы построили лишь печь,
- Пусть план и был мудрён…»
- Сказал он, гладя прядь волос:
- «Что ж… Я был удивлён».
- «Когда вы справились с толпой
- Застройщиков-чертей,
- Заполучили все ж добро
- На кучу чертежей,
- И дом пред вами наконец
- Предстал, как светлый сон,
- Что вы сказали, мистер Рид?»
- «Что страшно удивлён!»
Я также хотел бы выразить благодарность нескольким сменившим друг друга мутесаррифам, правителям Мосула, которые, несмотря на крайнюю занятость, не жалели для нас времени. Особенно нам помогал Саййид Каззаз, один из самых компетентных иракских политиков. Когда я с ним познакомился, он служил старшим клерком в Британском управлении в Мосуле под началом майора Уилсона, который и рекомендовал его к повышению. Саййид Каззаз предвидел наступление трудных времён и, дослужившись до министра внутренних дел, попытался уйти в отставку, но Нури-паша его не отпустил. Когда к власти пришёл Касим, верного сторонника Нури-паши, оставшегося без покровителя, казнили, обвинив в том, что он, будучи правителем Басры, приказал открыть огонь по бунтующим. Саййид Каззаз взял на себя ответственность за все отданные приказы. Смерть этого кристально честного и преданного человека была огромной потерей для Ирака. Он много раз навещал нас в Нимруде и следил за нашей работой с большой доброжелательностью. Мы оплакиваем потерю нашего доброго друга.
Старшие члены Службы древностей Ирака, работавшие под началом доктора Наджи Эль-Азиля, отличались исполнительностью и всегда были готовы пойти нам навстречу. Мы с большой любовью и уважением относились к Тахе Бакиру, эпиграфисту и очень достойному человеку, сменившему позже Наджи на посту. Его коллега Фуад Сафар, ставший впоследствии генеральным инспектором Службы древностей, был разносторонне одарённым человеком, талантливым лингвистом и известным археологом, занимавшимся раскопками Эриду. На долю Тахе Бакиру и Фуаду Сафару выпала нелёгкая задача — распределять археологические находки. Они консультировали директора со всей компетентностью, честностью и проницательностью.
Фарадж Басмачи, честнейший человек, сначала проявлял по отношению к нам некоторую ксенофобию, но вскоре сменил гнев на милость. Он был дружелюбен и не возражал, когда его водили за нос, но не отличался щедростью по отношению к археологам. После прекрасного сезона 1952 года мы проводили его в Багдад вместе с Моной Лизой из слоновой кости, также известной как «леди из колодца». Оплакивая потерю, мы украсили шляпную картонку, в которую она была упакована, чёрной лентой в знак траура.