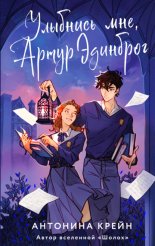Медвежатница Чхартишвили Григорий

- Моя страна, страна свободная –
- Деревни, села, города –
- Пускай сияет путеводная
- Тебе кремлевская звезда!
До войны репродукторы были повсюду, даже просто на фонарных столбах, и непременно работали на полную мощность. Теперь у всех дома имелись собственные радиоточки, и старые «колокольчики» остались только в заштатных магазинах вроде этого, где Тина обычно покупала провизию.
Но сегодня день был неудачный – хвост выходил на улицу, внутрь не войдешь. Судя по разговорам, давали навагу. Люди волновались, хватит им или нет.
Тина посмотрела на пыльную витрину – там лежали пластмассовые колбасы и окорока. Сказала себе: ничего, можно сходить в овощной, купить капусты, моркови, если повезет кабачок или баклажаны, и сделать рататуй по тетиному рецепту.
Пошла в соседний Языковский переулок, но в «Овощи-фрукты» очередь была вообще безумная. К октябрьским выкинули мандарины, давали по два кило в руки. Вышла довольная женщина с полной авоськой – будто поймала в сетку оранжевое солнце, подумала Тина. Смотреть на яркое пятно посреди серого, коричневого и черного было приятно.
Ничего не поделаешь, придется тащиться на Плющиху. Может, в кулинарии повезет что-нибудь купить.
Она пошла вдоль плотно сбившихся людей и в самом конце очереди увидела Антона Марковича Клобукова. Верней сначала обратила внимание на берет – все остальные были в кепках и платках. Вид у медицинского академика был нерешительный.
Тина не удивилась – они же соседи, но почему-то очень обрадовалась. Ну то есть понятно почему. Вспомнила, что в мире есть не только очереди, но и Клод Моне с Ренуаром.
– Здравствуйте! Вы меня помните?
Посмотрел так, будто не очень – с некоторым замешательством. Ответил не сразу:
– Да-да, конечно. Вы Юстина. Тоже живете в Пуговишникове.
– Вы в каком доме?
– В двадцать шестом, на самом верху, в мансарде.
– Так это у вас по ночам светится окно? – поразилась Тина. – Я часто на него смотрю, я прямо напротив вас, только пониже.
– Вот, не могу решиться, стоять или нет, – вздохнул Антон Маркович. – Ненавижу «хвосты». Но моя дочь так любит мандарины. Однако ведь это минимум часа на полтора. Наверное, пойду.
– А я ела мандарины всего один раз, еще до войны, – сказала Тина. – Папа принес на новый год. Раньше я мандарины только на картинке видела. Их только-только начали выращивать, в Грузии. Помню, папа сказал: «Господи, подумать только! Это ведь наступает 1940-й, а не 1890-ый!». А потом засмеялся и говорит: «Я точь-в-точь моя бабушка. Вдруг вспомнил, как она охнула: «Ах, Аврелий, ведь это уже тысяча восемьсот девяностый год, а не тысяча восемьсот сороковой!».
У Антона Марковича сделалось странное выражение лица.
Увидев епифьевскую протеже, кажется, собиравшуюся пристроиться к очереди, Клобуков окончательно решил, что стоять за мандаринами не будет. Сейчас скажет что-нибудь вежливое и уйдет.
Но то, что ее отца звали Аврелием, Антона Марковича потрясло. То же редкое имя носил его дед-декабрист. Мысль об эстафете времен, о мостике живых воспоминаний, перекинутых из девятьсот сорокового в восемьсот девяностый, а оттуда в восемьсот сороковой тоже была близкая, он и сам часто об этом думал. Аврелий Клобуков в тысяча восемьсот сороковом году вышел из каторги на поселение. Считал свою жизнь разбитой и оконченной, не знал, что через пятнадцать лет обзаведется семьей и будет счастлив.
Уходить расхотелось. Смотреть на раскрасневшееся лицо молодой женщины – некрасивое, но очень милое – было приятно.
В чем она, собственно, передо мной провинилась? – сказал себе Антон Маркович. Об интригах Пифии она даже не догадывается. Встретились шапочные знакомые, разговорились – обычная светская ситуация. Надо быть приветливым и вежливым, только и всего.
– А вы знаете, что до революции на этом самом месте тоже продавали фрукты? – оживленно говорила Юстина, не подозревая о его колебаниях. – Здесь была колониальная лавка. Ее владелец, мещанин Мордко Янкелев, ездил в Аргентину, работал там на серебряных копях, накопил денег и вернулся в Россию в тысяча девятьсот тринадцатом году, аккурат к мировой войне, революции и военному коммунизму. Наверное, когда надрывался в руднике, мечтал, как славно заживет, владея собственной лавкой. Бедняга!
– Где вы всё это выяснили? – спросил Клобуков, улыбаясь.
– В архиве. Чтобы понимать место, нужно всё про него знать. Я и фотографии нашла. В начале века здесь было почти так же. Грязь, лужи. Вашего дома, правда, еще не было.
– А зачем вам понадобилось понять это место?
– Ну как, ведь я тут живу. Как же не узнать, что здесь было раньше?
Она смутилась, словно не зная, продолжать или нет.
– Понимаете, я немного по-странному вижу и чувствую пространство. Конечно, не все места, а некоторые. Особенные. Место, где живешь, конечно, всегда особенное. Но у меня часто бывает, что идешь, и воздух вдруг будто сжимается и раздается такой тихий звон… нет, не звон, не знаю как сказать. Специальный звук. И я чувствую, я знаю: здесь что-то произошло. Что-то очень печальное или наоборот очень счастливое. Раньше я была уверена, что сама себе это выдумываю, но много раз убеждалась: так и есть. Понятно, если звук раздается в каком-то исторически знаменитом месте. В детстве на Дворцовой площади, на Сенатской, на Невском у меня прямо в ушах звенело от всего, что там когда-то происходило…
– Вы тоже питерская? – опять поразился Клобуков.
– Ленинградская, – поправила Тина.
Антон Маркович с облечением сказал себе: не выдумывай, нет между вами никакой внутренней связи, это другое поколение, она обычная советская девушка. Но Тина пояснила:
– Мою маму звали Леной, поэтому для меня с детства Питер был «Ленин град».
Нарушившаяся было связь восстановилась, и – вот ведь удивительно – Клобуков опять испытал облечение. Даже радость.
Тина не догадывалась о перепадах в настроении слушателя, ей очень нравилось, что этот солидный, умный, наверняка привыкший к более содержательным собеседникам человек так к ней внимателен. Хотелось, чтобы интерес в его глазах не погас.
– Я, например, не могу находиться в церкви – начинаю задыхаться. Одна старушка сказала: «Эк тебя бес-то корчит». А я просто чувствую, как на меня наваливается груз молитв, надежд, отпеваний, венчаний – невероятная концентрация сильных переживаний, и я делаюсь прямо больная. В некоторые места меня неудержимо тянет, другие я обхожу стороной. Ни с того ни с сего появляется желание перейти на другую сторону улицы. Как я разволновалась, когда открыли доступ в Кремль! Ведь это поразительное место – в мире таких мало. Я про Кремль столько всего знаю! Когда-нибудь обязательно схожу. Когда очереди схлынут. У меня на них идиосинкразия.
«Что ты всё интересничаешь, стрекочешь, как сорока, – одернула себя Тина. – Уймись, Белицына!». И замолчала.
Таких лиц больше не бывает, думал Клобуков. Только на старых фотографиях. Феноменальное сочетание живости и глубины. Какая-то природная аномалия. Марианская впадина. Жениховство и ухаживание, конечно, чушь, но почему не поддерживать знакомство? Общение с приятными людьми – одна из радостей бытия. Даже отшельник Шопенгауэр каждый день специально ходил в ресторан, чтобы не сидеть сычом и иметь собеседников.
– Послушайте, а не проявить ли нам мужество? – весело сказал он. – Вы ненавидите очереди, я тоже, но минус на минус дает плюс. Опять же мандарины. За нами, видите, уже двадцать человек встало. Не отдадим им наши четыре кило. Предлагаю абстрагироваться от окружающей действительности. Представьте, что мы в гостиной, ведем тейбл-ток.
– Если вдвоем, тогда другое дело, – сразу согласилась Тина. – Но я слишком много болтаю. У моей тети есть книжка, по которой она когда-то дрессировала своих гимназисток. Называется «Искусство светского общения». Там написано: «Дама, а паче того барышня никогда не берет на себя инициативу беседы, предпочитая благосклонно и заинтересованно внимать речам мужчины». Давайте я лучше буду благосклонно и заинтересованно внимать.
– Я знаю, чем мне вызвать вашу заинтересованность и благосклонность. – Антон Маркович изобразил таинственную улыбку. – Я, конечно, не волшебник вроде Марии Кондратьевны, но ваше заветное желание исполнить смогу. Входной билет в Кремль вам добуду.
– Правда?!
– Существует так называемый «академический лимит», которым я никогда не пользуюсь. По нему можно получать билеты в театры и на концерты. Думаю, что и Кремль не проблема. Я выясню, хорошо?
– Ой, я буду вам ужасно признательна!
Как она хорошеет, когда радуется, подумал Клобуков. Надо радовать ее почаще.
И вдруг сказал – неожиданно для самого себя:
– Я бы, честно говоря, и сам сходил в Кремль. Был там один раз в детстве, когда приезжал с родителями в Москву. Но запомнил только колокол и пушку. Думаю, я смогу даже организовать нам индивидуальную экскурсию с гидом, и он будет получше, чем незабвенная товарищ Скрынник.
– Не надо гида! – воскликнула Тина. – Я сама могу вам всё рассказать про Кремль! Ах, как это было бы здорово!
По улице Куйбышева тянулся длинный-предлинный, на сотни метров, хвост ко входу в Государственный Универсальный Магазин, главное торговое учреждение страны. Очередь была нестоличная – это сразу бросалось в глаза. Стояла провинциальная, неближняя Россия. Ватники, сапоги, старые шинели, мешки, брезентовые сумки и совсем, совсем не московские лица – обветренные, землистые, угрюмые. Очередь образовалась еще на рассвете, когда со всех вокзалов потянулись ночевавшие там люди. Двери открылись час назад, в восемь, но огромный универмаг, по-дореволюционному «эмпориум» пока всосал только половину. Милиция запускала покупателей группами, чтобы внутри не началась давка.
Разговоры в толпе были деловитые: что выкинули к праздникам, да на какой линии какой товар.
Две женщины, судя по говору приехавшие откуда-то с севера, распределяли между собой, куда пойдут.
– Ты, Нинка, давай в ткани, – распоряжалась та, что постарше. – Перво-наперво про тюль выясни. Если есть – стой намертво. Я в продуктовый, пока всё не разобрали. В прошлый раз сома оторвала – вот такого.
Она расставила руки, показывая размер сома, и задела проходившего мимо мужчину. Тот, на секунду полуобернувшись (блеснули очки), обронил «извините» и пошел дальше, занятый разговором со спутницей.
Разозлившись на «извините» – нормальные люди, когда их пихнут, такое не говорят – тетка крикнула вслед:
– Глаза разуй! Прётся, как трактор!
Но московский шпынь, в войлочном блине на седоватой башке, не повернулся. Он внимательно слушал невысокую коротконогую фрю в кудряшках, которая что-то ему втолковывала.
– …Раз мы так рано приехали, я хочу показать место, где у меня, когда я впервые проходила мимо, прямо мурашки по коже пошли. И непонятно почему. Даже на Красной площади, где головы рубили, такого не было. Вон, впереди, видите? Там же вообще ничего нет. Просто перекресток. Я стала читать книги. И в конце концов вычислила. Во всяком случае появилось предположение. В восемнадцатом веке здесь, у Варварских ворот, стояла часовня, в которой хранилась высокочтимая копия Боголюбской иконы. В 1771 году, когда москвичи целыми улицами вымирали от чумы и весь город был парализован ужасом, пронесся слух, что этот образ спасает от «моровой язвы». Тысячи людей день и ночь стояли в очереди – вроде вот этой, к ГУМу – чтобы приложиться к лику губами. Естественно, заражались и расходились по домам умирать. Потом, когда власти попробовали убрать источник заразы, разразился мятеж, толпа разорвала на части архиепископа, город погрузился в хаос. Я думаю, что мой внутренний, непонятно как устроенный резонатор среагировал на некий сгусток сконцентрировавшейся здесь энергии, которая никуда не делась. Химическое соединение отчаянной надежды и притаившейся смерти. Что-то такое в атмосфере осталось. Вы не чувствуете?
Пожилой мужчина старательно втянул носом воздух.
– Честно говоря, нет. Четверть десятого уже. Идемте к Кутафьей башне. У нас входной на девять тридцать.
Они свернули в Большой Черкасский переулок.
– Каков план экскурсии?
– Не будем пытаться объять необъятное, – ответила она. – Вы любезно согласились пойти туда, где мне больше всего хочется побывать.
– Да-да. Ведите.
– Ограничимся двумя местами. Они наверняка сильно заряжены эмоционально, это очень отнимает силы. Сначала давайте попробуем определить, где находился «терем на взрубе» – дворец, который построил для себя первый Лжедмитрий.
– Почему вас интересует именно Лжедмитрий?
– Ну что вы, это самый интригующий персонаж отечественной истории! И дело не в тайне его происхождения. На самом деле он вряд ли был Григорием Отрепьевым, но поразительно другое. Это был совершенно исключительный для своей эпохи человек! Он пытался править милосердно, он запретил доносы, он хотел превратить Московию в просвещенную державу. И народ его очень любил. Вы знаете, что заговорщики повели толпу в Кремль якобы защитить царя от убийц? Вот как Дмитрий был популярен у москвичей. Пленника поспешили изрубить на куски, чтобы простой люд его не освободил. Правда, потом те же самые москвичи глумились над несчастным, обезображенным телом… В детстве это расстраивало меня до слез. Я не могла понять, как можно издеваться над тем, кого вчера еще обожал.
– Я такого много повидал на двух войнах. За века в России изменились только сословия, обладавшие привилегией мало-мальски достойной жизни. Народная масса существовала, да и продолжает существовать в диких условиях, которые пригибают человека к земле, заставляют руководствоваться низменными инстинктами. А какое второе место мы посетим?
– Сенатскую площадь, где Каляев взорвал Сергея Александровича. У великого князя была такая красивая, такая благородная внешность! В детстве я была в него влюблена – у нас дома хранились подшивки старых журналов. Но и Каляев, кажется, был тоже человек благородной, красивой души. Вы ведь знаете, что в первый раз он не стал бросать бомбу в карету, потому что великий князь ехал с семьей? Я всё думала – какая же это трагедия, когда один красивый человек бросает адскую машину в другого красивого человека, и тому взрывом отрывает голову… Может быть, там, на месте, я почувствую и пойму что-то важное.
– Бедная Россия. Всё в ней разрывают на части, рубят на куски и отрывают головы. А куда мы пойдем потом?
– В Оружейную палату. Там никаких потрясений я не жду, – улыбнулась любительница истории. – Посмотрим на главные сокровища России.
– Главное сокровище России – это вы, Юстина Аврельевна, – сказал ее спутник тоном не галантным, а академическим, будто констатируя научный факт.
Для души
Хаза в Сокольниках была всем хороша, только больно уж шалманистый район. Рожи вокруг, как в Россошинском леспромхозе, где Санин кантовался последние месяцы перед освобождением – там контингент в основном состоял из общережимных уголовников. Здешние, мелькомбинатовские, тоже не ходили, а шныряли, не смотрели, а зыркали, руки по-воровски прятали в карманы, будто готовые чуть что высунуть нож.
С одной стороны, это было отлично, мусора сюда предпочитали не соваться. С другой – какая-нибудь шпана влегкую могла влезть и устроить шмон. А они двое целыми днями отсутствуют, и хабар, сто тысяч, спрятан попросту, в печку, больше некуда.
Хотели отнести на вокзал в камеру хранения, но там нужен паспорт, а у них обоих пока только справки об освобождении, да с «минус шестнадцатью» – без права бывать в столицах шестнадцати союзных республик.
Вчера вечером, когда вернулись из Марьиной Рощи, Самурай снова об этом заговорил. Человека бы, мол, надежного, но где его взять?
Тут Санину и пришло в голову. Знаю, говорит, одного. Отец моего фронтового товарища, такой чеховский интеллигент, реликт, нипочем нос не сунет.
Сегодня был воскресный день, поехал наудачу, и повезло – застал Клобукова-старшего дома.
Тот, конечно, сразу согласился взять узелок на хранение. Санин сказал, там личные вещи, письма, память о прошлом. На всякий случай узелок был затянут шнурком. В лагере один бывший капитан дальнего плавания научил делать «мертвую петлю». Ее, если не знать секрет, распутать невозможно, только разрезать.
Санин уже прощался, когда в коридор вышла миниатюрная девушка с золотыми волосами до плеч и огромными сонными глазами. Кожа очень белая, почти молочная – у блондинок это редкость. Движения странные – замедленные, но плавные, грациозные. Будто идет в воде.
– Здравствуйте, – улыбнулся Санин. – Дочка ваша?
Девушка словно не услышала. Прошла мимо, не глядя, задела плечом и, кажется, этого не заметила.
– Ариадна – инвалид, – извиняющимся тоном объяснил Антон Маркович. – Она живет в собственном мире. Посторонних людей не видит, они для нее как бы не существуют.
– Завидую, – вздохнул Санин. И вдруг вспомнил: – Слушайте, я хотел спросить. Куда делись инвалиды? По всей стране их полным-полно, а в Москве не видно.
– В пятьдесят первом году вышло постановление. Закрытое, но медработников ознакомили, потому что оно отчасти касалось здравоохранения. Что-то такое про нищенство, антиобщественные паразитические элементы. После войны осталось, если я правильно запомнил цифры, почти полтора миллиона инвалидов с двойной ампутаций нижних конечностей и миллион сто тысяч – с двойной ампутацией верхних. Многие полностью безрукие и безногие живут нищенством. Особенно высока их концентрация в Москве, где выше уровень жизни и лучше снабжение. Обилие калек-попрошаек в военной форме с боевыми наградами на груди формирует превратное представление о советской жизни, чем пользуются в своих пропагандистских целях зарубежные корреспонденты. Что-то такое было в постановлении, за точность цитирования не ручаюсь. Начались уличные облавы. Многих вывезли в Ногинск и еще куда-то, в специализированные интернаты. Остальные уехали или попрятались. Ужасная история.
– На свободе что, – пожал плечами Санин. – Видели бы вы, каково калекам приходилось в лагерях.
Клобуков вдруг ни с того ни с сего разволновался, даже голос задрожал:
– Старым, нездоровым людям, наверное, тоже было очень тяжело?
– Как у нас шутили, «тяжело, зато недолго». Кто дряхлый и больной, как правило, не заживались.
У Антона Марковича голос стал скрипучим:
– А мог в лагере выжить физически слабый шестидесятилетний интеллигент, не от мира сего, арестованный в тридцать седьмом?
– По 58-ой? Исключено. Восемнадцать лет мало кто из молодых и сильных продержался бы. Если, конечно, ваш интеллигент не «закумовал».
– Что?
– Если не пристроился работать на «кума». Стучать на других зэков. Тогда, конечно, ему могли создать условия.
– Нет-нет, невозможно.
– Ну тогда разве что чудом. Вы почему спрашиваете? Хотите выяснить, жив ли кто-то из ваших друзей или родственников? Запрос сделать не пробовали? Сейчас отвечают.
– Это… старинный друг моего отца, – болезненно морщась сказал Клобуков. – Запрос делать не нужно. Иннокентия Ивановича уже освободили, он пока поселился в Коломне, за 101 километром, ходатайствует о реабилитации.
– Коломна – не дальний свет. Съездите к нему.
– Уже ездил, дважды. В первый раз не застал, написал письмо. Ответа не получил. Поехал во второй раз, вообще никого не было. И теперь я беспокоюсь. Семьдесят восемь лет ему, а здоровья он и до ареста был неважного…
– Вы ведь академик.
– Член-корреспондент.
– Для коломенской милиции это звучит еще солиднее, чем просто «академик». Съездите к тамошнему начальнику, объясните ситуацию. А еще лучше напишите со всеми регалиями. Попросите выяснить, что с вашим знакомым. Мусор… в смысле милиционер в лепешку расшибется ради важного столичного человека. У нас, Антон Маркович, только так всё и работает.
– Спасибо за хороший совет, – просветлел Клобуков. – Я еще лучше сделаю. Если уж пользоваться личными связями. Мой старый знакомый работает в одной из реабилитационных комиссий, я как раз устраиваю медицинскую консультацию для его супруги.
– Вот-вот, – одобрил Санин. – Самое оно. Пусть ваш знакомый позвонит в коломенскую ментуру.
– Прямо сейчас к Бляхину и съезжу. Он просил меня по телефону о таких вещах не говорить. Привычка к осторожности, по прежней работе.
– А где он работал?
– В органах.
– Хвататель? – брезгливо покривился Санин. Он не ожидал, что у академика могут быть такие приятели.
– Зря вы так. Филипп Панкратович в тридцать седьмом году сам ушел с Лубянки, из принципиальных соображений. И потом служил… я точно не знаю где. Во время войны он был, мне сын написал, в штабе Первого Украинского. Они встречались в Оппельне.
– Где? – вздрогнул Санин.
– Это город в Силезии. Рэм останавливался там по пути на фронт. Филипп Панкратович занимался какой-то фильтрацией. Не знаю, что это значит. Проверкой пленных, освобожденных в немецких лагерях, кажется.
Санин на миг зажмурился.
Отчетливо, будто въявь, увидел коридор, по которому его, плюющего кровью, волокут из допросной. Кожаную дверь. Табличку: «Подполковник Ф.П.Бляхин».
– Что с вами?
– …Ничего. Знаете, мне все равно сейчас делать нечего. Давайте я вас провожу, расскажу, как жилось в лагере. Встретитесь с вашим другом – пригодится. Вы в какую сторону?
– На Кировскую.
– Ну, это мне вообще по дороге.
Потом поехал проведать Самурая. Тот торчал на «НП», во дворе дома 16, под детской горкой. Нахохленный, замотанный в шарф, в шапке с опущенными ушами. Было не шибко холодно, но доходяга всегда мерз.
– Ну что? – спросил Санин.
– Всё то же, …, – матерно выругался напарник. – Как у него, кобеля, только здоровья хватает.
По жребию следующим «сталинским лауреатом» (термин, придуманный Самураем) оказался Игнат Иванович Лесных, в конце тридцатых лютовавший в Лефортове. Проведенная разведка установила, что он давно демобилизовался, теперь работает начальником отдела кадров на киностудии.
В отличие от спившегося Щупа, у Лесныха всё в жизни было отлично и даже блестяще. Одевался он франтом, разъезжал на то ли личной, то ли казенной «победе» и жил в красивом новом доме министерства культуры.
Сначала казалось, что дело плевое. «Лауреат» обитал в отдельной квартире один. Позвонить вечером – как те когда-то звонили: «Вам телеграмма». Санин вырубит, свяжет, сунет в рот кляп. Самурай исполнит приговор. Приготовили два матерчатых колпака с дырками для глаз, стали во дворе ждать, когда осужденный вернется домой. И началась морока хуже, чем в Лобне.
Выяснилось, что скотина Лесных активно пользуется служебным положением. На киностудии, вероятно, было много красивых женщин, заинтересованных в хороших отношениях с кадровиком. Каждый вечер хренов ромео привозил домой очередную бабу, одна фактурней другой. И оставались они до утра. За время наблюдения в квартире побывали уже четыре любовницы. Ни единого раза любвеобильный жилец не ночевал в одиночестве.
Рано или поздно это все же должно было случиться. Поэтому условились так. Самурай с вечера выдвигался на «НП» и ждал. Санин, чтобы попусту не терять время, занимался разработкой следующего кандидата. Напарник для этого непростого дела не годился – был недостаточно ловок и быстро выбивался из сил.
– …твою мать! – покрутил головой Шомберг. – Восемь дней псу под хвост. Зато я теперь точно решил, какое ему будет наказание. Думал ограничиться «яичницей» – как он, сука, делал. Но нет, этого ему мало. Я его вчистую выхолощу. Он у меня отскачется, жеребец. Пускай мерином побегает, останется без главного смысла жизни.
Как именно он собирается холостить Лесныха, Самурай рассказывать не стал, а Санин не спросил. Он в «исполнители» не рвался. Его дело было – обездвижить клиента и приготовить.
– Ну а Ласкавый что? Не завязнем, как с этим? – спросил Самурай.
Санин вел разведку по бывшему начальнику матросского ШИЗО, ныне переброшенному на исправительные учреждения для несовершеннолетних.
– С ним полный порядок, – доложил Санин. – Сегодня он пил пиво с каким-то своим друганом, я у соседнего столика подслушивал. Егор Трифонович у нас охотник. Собирается в следующий выходной поехать под Шатуру, побродить там с ружьецом. Насчет рябчиков интересуется.
– Один поедет?
– Да. Говорит, рябчик тишину любит.
Самурай оскалился.
– Вот мы с тобой на охотника и поохотимся. Подмосковная природа, лес, красота! Со следующей недели по ночам обещают заморозки. Он, гнида, людей нагишом в холодильник сажал? Ну так мы его в чем мать родила до утра на холодной земле подержим, только и всего. Если он везучий, отделается погробным радикулитом и попрощается с почками… Ладно, идем отсюда. Сегодня тоже не обломилось.
По дороге – в трамвае, потом в автобусе – Самурай расписывал, как организует Ласкавому незабываемую ночевку на пленэре. Санин отмалчивался. В конце концов напарник спросил:
– Э, Санитар, ты чего такой задумчивый?
– Да тут вот какая штука…
Рассказал, как по чистой случайности вышел на след начальника ОФПЛ, фронтового Отдела фильтрационно-проверочных лагерей, где бывшему пленному во второй раз сломали жизнь. И про то, что установил адрес этого Бляхина – довел академика до самого подъезда.
– Там, в Оппельне, в хозяйстве Бляхина, мне сызнова зубы вышибли. Весь немецкий плен у меня протез продержался, а у своих борзой лейтенантишка палкой наотмашь вмазал… Главное, я идиот, так радовался, когда к нам в шталаг танк с красными звездами въехал, колючку снес… И все наши, кто до сорок пятого года дожил, орали, руками размахивали… Прямиком оттуда нас на фильтровку и погнали. Как баранов. Я что, мне считай повезло. Поплатился только вставными зубами и тихо-мирно отправился на фронт. А сколько наших сразу из немецкого лагеря в советский поехало. У меня хоть месяц передышки вышел.
– И что, Бляхин этот, сам, лично, людей мордовал? – нахмурился Самурай.
– Не знаю. Я его там ни разу не видел. Только фамилию знаю. Какая разница – сам, не сам. Порядки-то он завел… Был у меня в шталагере товарищ, Беглов Миша, золотой мужик. Я бы без него не выжил. Вместе из плена освободились, вместе загремели в Оппельн. Так ему тот же лейтенант, гадина, своей палкой голову отшиб. Ослеп Мишка от удара, нерв ему какой-то повредило. И все равно потом в изменники определили, чтоб не отвечать. Бляхин свою подпись ставил.
– Понима-аю, к чему ты ведешь, – протянул Шомберг. – Мы, конечно, с тобой твердо решили, что личных счетов сводить не будем. Опять же никакой ниточки к нам потянуться не должно… Но человек не может жить только долгом и рассудком. Надо что-то делать и для души. Ох, дорого я бы дал, чтоб пообщаться с сучарой, которая меня в тридцать шестом запустила в конвейер. В общем так. Берем твоего Бляхина в работу. Вне плана, в порядке культурного досуга. По правилам полагается минимум два свидетеля, но мы вторым засчитаем твоего Мишу Беглова. Что с ним потом стало, не знаешь?
– Говорили, умер на этапе.
– Тем более. Я для товарища Бляхина, раз он не чужой тебе человечек, что-нибудь особенное придумаю. Гляди бодрей, Санитар. Радуйся жизни, настало наше время. «Рады, рады, рады светлые березы, и на них от радости расцветают розы».
«Жизель»
В этом году праздники получились длинные – шестого ноября воскресенье, седьмого и восьмого выходные, пятого работали только до обеденного. Ну то есть как – работали? Отсидели торжественное собрание, не такое длинное, как в прошлые годы – и сразу разошлись по отделам, где уже были накрыты столы.
Памятуя добрый совет Зиночки Ковалевой, Клобуков на сей раз не стал изображать из себя старообрядца – остался с коллегами, чокался с ними разведенным спиртом, улыбался анекдотам и даже шутил сам. Кажется, у него получалось не очень, но сотрудники обрадованно смеялись. Мудрая Зинаида Петровна была права. «Сокращение дистанции» явно изменило атмосферу в коллективе к лучшему.
А может, дело было в том, что изменился сам Антон Маркович. В последние дни он чувствовал себя так, словно… Обычный человек, наверное, сказал бы «словно вдруг помолодел на двадцать лет», но профессия подсказала более точную по ощущениям метафору: словно после визита к стоматологу отходит новокаиновая блокада – к лицевым мышцам возвращается способность улыбаться, одеревеневшие губы снова чувствуют тепло и холод, пища обретает вкус. Невероятные вещи происходили с членом-корреспондентом АМН СССР Клобуковым, он сам себя удивлял.
Разошедшаяся молодежь вытащила из шкафа с пробирками патефон, о существовании которого заведующий и не догадывался. Поставили пластинку с Лолитой Торрес. День был хмурый, сумеречный, но свет включать не стали.
Антон Маркович улыбался, глядя на танцующие в полумраке пары, голова немного кружилась, мысли были рассеянные, но приятные.
– Вставайте, вставайте, – наклонившись к нему, шепнула Зиночка. – Раз вы сегодня такой отчаянный, не останавливайтесь на полпути. Потанцуем!
И чуть не силой взяла за руки, подняла. Не вырываться же?
Старшая медсестра порядком захмелела, и это ей шло. Глаза сияли, зубы влажно блестели.
– Да я не умею.
– Я вас научу. Сейчас немножко потренируемся у вас, а потом всех поразим.
Она решительно повела его в кабинет, оставив дверь открытой, чтобы было слышно музыку.
– Левую мне на спину. Крепче, кабальеро! Правую – нет, не на плечо, так только пенсионеры делают. Берите меня за бок. Выше, выше! Вот так, смелей.
Она взяла его кисть и прижала к своей груди. Ладонь ощутила тугую полноту. Мягкие, горячие губы стали быстро целовать его щеку, прижались ко рту. Зиночка тихонько постанывала.
От неожиданности, от потрясения Антон Маркович повел себя грубо – отпрянул от нее, да еще толкнул.
– Зина, что вы делаете? Вы слишком много выпили.
Прозвучало это по-идиотски. Что она делает, было понятно, а морализаторство в такой ситуации могло только оскорбить.
Ковалева и оскорбилась.
– Что, был мужчина да весь вышел? – задыхаясь от обиды, выкрикнула она. – Или никогда и не был? Только и хватило мужской силы произвести на свет дочь-инвалидку?
– Ах, Зинаида Петровна, ну в самом деле… – жалко пролепетал Клобуков, махнул рукой и вышел.
Попрощаться с сотрудниками в таком состоянии он не мог, повернул к выходу.
Ковалева догнала его в коридоре.
– Антон Маркович, ради бога! – Голос срывался. – Прошу вас! Пожалуйста!
Он обернулся. Ее лицо было мокрым от слез.
– Простите меня, простите! Это я от обиды, от злости. Я же всё знаю. И про сына. И про вашу супругу… Я совсем не умею пить… И я вас очень… Нет, я не про это хочу сказать. Я сразу после праздников уволюсь. Мне будет стыдно на вас смотреть. Вы меня больше не увидите, честное слово. Только не уходите так. Простите меня. Пожалуйста!
– Что вы, Зиночка, – сказал Клобуков. – Мне вас прощать не за что. Это вы меня простите. Вы абсолютно правы, время любви – этой любви – для меня закончилось. Я слишком стар для такой женщины, как вы… Для любой женщины, – решительно добавил он. – И это нормально, это естественно. Каждому возрасту свое. Не вздумайте увольняться. Мне вас никто никогда не заменит. У нас с вами всё будет хорошо.
Ковалева разревелась пуще прежнего, но уже без надрыва, а через минуту-другую почти совсем успокоилась. Попрощались они сердечно, за руку.
Однако происшествие повергло Клобукова в совершенное смятение. Не из-за отношений с Зиной – они теперь, наверное, станут только лучше, исчезнет подспудная нервная напряженность, которую он по своей толстокожести предпочитал не замечать. Нет, дело в другом.
Пора было дать себе отчет, честный и безжалостный, в том, что с ним, шестидесятилетним болваном, в последнее время творится.
Что ты расхаживаешь по улицам с идиотской улыбкой и просыпаешься утром в ощущении праздника, старый ты дурень? Работа над «Аристономией» отставлена, вместо нее затеяна новая штудия, нелепая по теме и комичная по содержанию. Третьего дня вдруг отодвинул недописанную главу про зависть к Шопенгауэру, взял страницу и застрочил, будто под диктовку: «Ситуация, в которой я сейчас оказался, не только выбила меня из наезженной и по-своему комфортной жизненной колеи, но и вызвала потребность частично пересмотреть систему взглядов, изложенную в предыдущих разделах». Ты вправду собрался исследовать природу любви, теоретик жизни? В возрасте, когда, как говорится, уже пора подбирать участок посуше?
Ощущение праздника у него! Вот на что это похоже: человек открывает сонные глаза – ах, как тепло и ярко вокруг! А это у него в доме пожар. Сейчас рухнет крыша.
На самом деле всё ужасно. Хуже не бывает.
Зинаида Петровна – чепуха и глупости, но как быть с тем, что случилось позавчера вечером? Когда вы с Юстиной прощались у подъезда и она сказала: «Ой, Антон Маркович, у вас пальто испачкалось… Нет, дайте лучше я». Потерла плечо, потом вдруг подняла глаза, и в них было то, в чем ошибиться невозможно, и повисла пауза, и ты внутренне онемел. Ничего не было сказано вслух, просто она улыбнулась, и ты улыбнулся. Как ты мог, как ты посмел ей так улыбнуться? Она молодая, полная сил женщина, которая имеет право на полноценную любовь, а не на чахлые потуги твоих иссыхающих вожделений. С Юстины какой спрос? При отсутствии жизненного опыта легко спутать личностную близость с любовным влечением, но ты-то, ты!
Антон Маркович тряхнул головой и перестал угрызаться. Потому что принял решение. Единственно правильное и достойное.
Точно так же, как он только что поговорил с Зиной – спокойно, взросло, умно – нужно объясниться с Юстиной. Скорректировать установившиеся между ними отношения, драгоценные для обоих, чтобы они не повернули по вектору, который неминуемо всё испортит. В первую минуту будет неловко, но Юстина – человек чуткий и тонкий. Она поймет правильно. И всё выправится. Тучка не разразится грозой.
Нужно только провести беседу без нарочитости и нажима, без драматизма, а естественно. В правильном антураже и подходящем настроении.
Все выходные Антон Маркович думал про это, чем дальше тем больше уверяясь в разумности подобного шага. В первый же рабочий день, в среду, зашел к секретарше директора Зое Филипповне, ведавшей всеми академическими благами, от путевок до гостиничной и проездной брони. Это она организовала ему посещение Кремля. Попросил у опытной дамы совета – на какое бы культурное мероприятие сводить знакомого?
– Становитесь похожи на нормального человека, – одобрила матрона. – Этак вы у меня и в санатории начнете ездить. В Цхалтубо есть путевки для членкоров, в Дубулты, в Гагру. Воспользовались бы хоть раз.
– У меня же дочь. Как я ее оставлю? Вот вечером, на что-нибудь вроде концерта в консерватории или филармонии…
– Консерватория-филармония не мой калибр, – пренебрежительно махнула алыми ногтями секретарша. – Билеты в кассе. Давайте я вам устрою что-нибудь особенное, чтобы вы порадовали вашего знакомого… Или знакомую?
Посмотрела лукаво. В последнее время она стала к Антону Марковичу очень милостива. Наверное, прослышала, что директор прочит его в замы.
Клобуков промолчал.
– Ага, это дама, – догадалась Зоя Филипповна. – Тогда загляну в мой «золотой фонд». А кстати, хотите запишу вас на телевизионный приемник? В очередь для ответработников, она движется быстро. Тысяча сто рублей, у спекулянтов вдвое дороже. Говорят, с нового года трансляция передач будет увеличена до четырех часов в сутки. И еще есть лимит подписки на новый журнал, называется «Иностранная литература». Там все переводные новинки – Сартр, Фейхтвангер, Пабло Неруда… Та-ак, куда бы вас пристроить?
Она пошелестела в календаре страничками, исписанными какими-то цифрами и аббревиатурами.
– Вот, совершенно исключительное мероприятие. Творческая встреча Московского театра оперетты с рабочими Первого подшипникового завода имени Кагановича. Будут исполнять сцены из «Сильвы», «Трембиты» и «Вольного ветра». Директор завода – наш пациент. Вас и вашу спутницу посадят в первый ряд, на лучшие места.
– А что-нибудь… менее громкое?
– Есть послезавтра два билета на закрытие недели Французского кино в «Ударнике». Просмотр кинокартины «Большие маневры» и потом прием в узком кругу с участием съемочной группы: Жерар Филипп, Мишель Морган, Бригитта Бардо. Иван Харитонович собирался сам посетить, с супругой, но ему нужно ехать на операцию в Ленинград.
Во время сеанса, а особенно на приеме не поговоришь, подумал Клобуков.
– Еще что-нибудь?
– Завтра «Жизель» в Большом с Улановой. Ложа. Иван Харитонович велел забронировать и тоже из-за Ленинграда не попадает, у него вечерний поезд. Хотите?
Вот это то, что нужно, сказал себе Антон Маркович. История бесплотной, но оттого еще более сильной любви Жизели и Альберта.
– Спасибо. Идеально!
Тина попала в Большой театр впервые. Приобрести билеты в кассе невозможно, покупать у «жучка» при ее зарплате – немыслимо, а «доставать» она не умела. И вдруг – боже, «Жизель», в отдельной ложе, с Улановой! Жизнь окончательно превратилась в сказку, и связана эта волшебная метаморфоза была безусловно с Антоном Марковичем. Чудеса начались с первого же дня их знакомства, с незабываемой выставки, с чаек над Темзой.
Как это поразительно! Человек давно привык жить один, свыкся с мыслью, что так будет всегда, и даже убедил себя: оно и к лучшему, когда тебе никто не нужен и ты никому не нужна. Но внезапно встречаешь кого-то, поначалу совершенно чужого, прошла бы на улице мимо – не задержала бы взгляда, но случай свел вас, и мир стал из плоского, монохромного, обыкновенного трехмерным, многоцветным, праздничным. Да-да, праздничным, потому что общение с тем, кто тебя полностью понимает и с кем тебе всегда интересно, это из праздников праздник. Особенно если ничего подобного прежде не бывало, разве что в детстве, с папой и мамой. Но родители остались в «Ленином граде» и похоронены вместе с ним. Возврата в тот сияющий рай нет. Но, оказывается, свет гаснет не навсегда. Он может возродиться – нужно лишь, чтобы рядом появился кто-то его излучающий.
Боялась Тина лишь одного: что будет слишком докучать занятому человеку и надоест ему, он ее исчислит, взвесит и найдет чересчур легкой. Поэтому звонила исключительно по делу, если могла его придумать. А на улице сталкивалась как бы случайно. Зная, в какое время Антон Маркович обычно возвращается с работы, брала хозяйственную сумку и торчала у подъезда, будто только-только вышла за покупками. И прощалась всегда первая, чтобы не успеть ему наскучить.
Театр был фантастически прекрасен, постановка блистательна, великая танцовщица летала по сцене, презирая закон гравитации, но отдаться музыке и балету Тине мешала близость Клобукова. Они сидели в просторной ложе вдвоем, не сказать чтобы близко и Антон Маркович чуть сзади, поэтому ей все время казалось, что он на нее смотрит (вот дура!) и хотелось обернуться, тоже на него посмотреть. Так и сидела – лицом к сцене, а глаза скошены.
В антракте он пригласил ее в буфет.
– Давайте лучше останемся, – сказала Тина. – Здесь так чудесно, а там будет толпа.