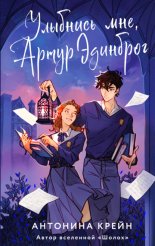Медвежатница Чхартишвили Григорий

– …В тех условиях партия решила, что нет необходимости занимать драгоценное музейное пространство произведениями упаднической культуры, вызывающими у психически здоровых людей лишь удивление и досаду. Партия нас учит, что всякая публичная экспозиция неминуемо становится актом пропаганды. Зачем же пропагандировать то, что привлекает лишь узкий круг пресыщенных гурманов, извращенный вкус которых не является нормой для советских людей. Они всегда отдавали предпочтение здоровому, гуманистическому течению искусства: Леонардо да Винчи, Рафаэлю, Тициану, Рубенсу, Рембрандту, Делакруа. Но в свете последних решений нашего правительства руководство музея взяло на себя ответственность, в сугубо информационных целях, рассчитывая на возросший уровень сознательности москвичей…
Тина остановилась как вкопанная перед картиной, на которой совершенно голая женщина, как ни в чем не бывало, сидела на траве, у накрытой скатерти, перед двумя одетыми мужчинами. Это и был «Завтрак на траве», про который говорил завредакцией.
Какая пошлость – предлагать, чтобы Тина изобразила такое перед коллегами! Как могла Анна Львовна, интеллигентная женщина, смеяться этой с позволения сказать шутке, уместной в какой-нибудь казарме!
– Минуточку, Эльвира Иосифовна, подождем, пока Юстина любуется Эдуаром Манэ.
– Нет-нет, эта картина мне совсем не нравится, – поспешно сказала Тина, отходя.
– По крайней мере там изображены люди, похожие на людей. Чего не скажешь, например, – сопровождающая показала на огромное сине-оранжевое полотно, занимавшее половину стены, – про сугубо формалистское панно Матисса «Танец».
Остановились перед ним.
– Вам как? – тихо спросил академик.
– Не знаю, – пробормотала Тина. – Разве что цвета…
– Я тоже к Матиссу равнодушен, – оживился Антон Маркович. – Во времена моей юности все сходили по нему с ума. Один знакомый отца, некий Бердышев, приобрел две картины, мы ходили смотреть. Все восторгались, а я чувствовал себя дубиной.
Вот в следующем зале у Тины от волнения закружилась голова. Почти каждая картина здесь была потрясением. Одни холсты отталкивали от себя энергетическим ударом, но не позволяли отвести глаз. Другие, наоборот, будто втягивали. Эти, вторые, ей нравились больше. Но и первые, агрессивные, были очень, очень хороши.
Тина шевелила губами, запоминая имена художников.
Откуда-то издалека неслись лишенные всякого смысла слова:
– … В то самое время, когда наши передвижники поднимали острые социальные проблемы и творили искусство, понятное народу, западная живопись все глубже увязала в болоте элитарного эстетизма, скатившись из относительно демократичного импрессионизма в откровенно декадентский постимпрессионизм, а затем и в кубистскую заумь…
– Я вижу этот зал вам понравился больше, – негромко сказал Антон Маркович, медленно двигаясь за экскурсоводшей.
– Это чудо. Особенно Монэ! Который через «о», Клод. Посмотрите на этих чаек! Господи, я слышу их крик, чувствую запах тумана!
– Да, прекрасно.
Они постояли рядом. Молча.
– Идемте к Пьеру-Огюсту Ренуару, – позвала товарищ Скрынник. – Этот художник хоть и принадлежал к импрессионизму, но развивал в своем искусстве здоровое рубенсовское начало. Его работы дышат любовью к человеку, оптимизмом и гуманизмом. От них остается ощущение «и жизнь хороша, и жить хорошо», как писал Владимир Маяковский.
Несмотря на то, что работы Ренуара чем-то там «дышали», Тине они тоже очень понравились. Конечно, многовато румяных щек и упитанной плоти, но общий эффект действительно какой-то пьяняще-радостный. Смотришь – и щекочет в носу, как после бокала шампанского, которое пили в редакции в день выхода древнегреческого словаря.
Она обернулась, чтобы посмотреть, действуют ли эти картины на Антона Марковича таким же образом.
Оказалось, нет. Он застыл перед одним портретом – с совершенно перевернутым, даже трагическим лицом.
Заинтригованная, Тина приблизилась.
Ничего шокирующего. Обворожительная, полная жуа-де-вивр, жизненной радости, молодая женщина с блестящими смеющимися глазами. Абсолютный шедевр. Подпись «Жанна Самари».
– Почему вы так смотрите на этот портрет? Он вам кого-нибудь напоминает?
Совсем не в Тининых привычках было задавать подобные вопросы малознакомым людям, но с Антоном Марковичем она чувствовала себя на удивление свободно.
Он уставился на нее чуть ли не с ужасом:
– Как вы догадались? Нет, внешне не похожа, но…Но…
Нервно потер лоб, передернулся, будто отгоняя какую-то мысль или видение.
– Извините… Извините… Спасибо, Эльвира Иосифовна, мне нужно идти… У меня срочное дело, я совсем забыл… Неважно!
Махнул рукой и в самом деле ушел, большими быстрыми шагами.
– Вы его чем-то обидели? – сурово спросила заместительница директора, не слышавшая их разговора. – Что вы ему сказали?
– Ничего, – растерянно произнесла Тина, глядя вслед Клобукову.
Какой странный! И почему его так жалко?
Беседы с Пифией
Мало кому так повезло в жизни, как мне, часто думала Епифьева. Конечно, она знала про себя, что является стопроцентно «полуполной» и склонна во всём находить плюсы, но дело не в субъективной оценке. Она и объективно всегда была феноменально везучей, а если какие-то события вначале представлялись жестоким ударом судьбы, то потом неизменно оказывались ее щедрым подарком.
Невозможность продолжать работу вместе с любимым Учителем казалась – и была – огромной, невосполнимой потерей. Еще и весь мир тогда, в четырнадцатом, вдруг повел себя, словно шизофреник в суицидальном раптусе, а потом начались испытания гражданской войны, ценность отдельной человеческой жизни упала до нуля, и возникло ощущение, что прежняя цивилизация издыхает в корчах, а при новой, классовой-массовой, лозунговой-плакатной, политически грамотной бережно подбирать код к сейфу человеческой психики никому не понадобится – эпоха взламывает души стальным ломом.
И что же? Одиночное плавание стало величайшим благом. Иначе «Мари Эпи», как называл ее профессор, так и осталась бы старательной ассистенткой, не вышла бы из тени гения и считала бы себя «освоителем». Какое это было бы заблуждение, какая потеря! Вынужденная независимость вывела ее на путь «искательства», заставила пойти собственной дорогой. Сколько там было удивительных озарений, пьянящих побед, интересных ошибок, а сколько захватывающих встреч!
Дожить до старости в стране, где средняя продолжительность жизни в двадцатом веке, с учетом многих миллионов погибших, вряд ли доходит до тридцати лет – это счастье.
В семьдесят два года не быть никому обузой – счастье.
Быть нужной большому количеству людей, а в перспективе, через эгохимическую теорию, пригодиться и всему человечеству – невообразимое счастье.
Существовать в комфорте и достатке, когда вокруг сплошная неустроенность, нужда, теснота – тоже счастье, хоть и несколько стыдное.
Но главное счастье, конечно, азарт поиска. Люди так бесконечно интересны! Раскладывание их по эгохимическим ячейкам лишь подтверждает неисчерпаемость каждой личности. Только помоги ей понять себя, а дальше она, словно подросший птенец, раскроет крылья и полетит в небо – куда захочет.
В общем, Мария Кондратьевна буквально купалась в счастье. Она определенно была баловнем судьбы – что женщине вроде бы и не положено, иначе существовало бы выражение «баловница судьбы».
Разумеется, дорога к жизненному успеху потому и открылась, что повезло родиться горбуньей, то есть заведомо, по праву рождения, избавиться от чувственной любви, семьи, материнства и прочих женских обременений. Какая это упоительная свобода – принадлежать самой себе! Кривой позвоночник и короткая нога, все эти боли и физические неудобства – ей-богу весьма умеренная плата за такую драгоценную привилегию.
В подобных приятных мыслях Епифьева коротала время в ожидании отчета удачно составленной пары. Никаких сомнений в том, что Антон Маркович и Тина Белицына понравятся друг другу, у нее не было. Но важны были детали и нюансы: что каждый из них чувствовал, каковы были первые впечатления и реакции. Вся эта информация пригодится и для уточнения диагнозов, и на будущее.
Гораздо интересней, конечно, было бы послушать Клобукова, потому что он знал про истинный смысл встречи и, конечно, проанализирует ее по-своему. Но первой пришла Тина, принесла мнимой больной молока и меда.
Выслушав горячие благодарности и всякое несущественное про Сислея да туман над Темзой, Мария Кондратьевна как бы между делом спросила про «академика» – не правда ли, симпатичный?
– Да, – ответила Тина. – Совсем не важничает, деликатный, интеллигентный, но очень уж нервный. Вдруг сорвался и ушел. Мы с экскурсоводом даже растерялись. Что произошло, я не поняла. И теперь никогда уже этого не узнаю.
Вздохнула – это было отлично. А про Клобукова очень интересно. Его формула никак не предполагает импульсивности, порывистости – только при каком-нибудь сильном потрясении. Но какое на художественной выставке может быть потрясение?
– Жаль, что у тебя не было возможности поговорить с Антоном Марковичем. Он личность недюжинная.
– Это видно. Но о чем ему со мной разговаривать? Он большой человек, член-корреспондент, а я серая мышка-норушка. Вы его хорошо знаете?
Но Епифьева перевела разговор на свое неважное самочувствие и усталость. Во-первых, рано было фиксировать «невесту» на «женихе», пусть душа сама проделает свою работу. Во-вторых, надо было поскорее Тину спровадить, а то придет Антон Маркович – им во второй раз пока встречаться не нужно.
После ухода Тины прошел час, другой, а Клобуков всё не появлялся.
В конце концов Мария Кондратьевна позвонила ему сама.
Голос у Антона Марковича был вялый, несчастный.
– Неужели моя кандидатка вам не понравилась?
– Нет, она чудесная. Не в ней дело.
– А в чем?
Молчит.
– Знаете, я действительно простудилась, – сказала Епифьева. – Соседей нет дома, а нужно полечиться. Огромная просьба. Не могли бы вы мне купить аспирин и молоко? Мед есть. Заодно расскажете, как всё прошло.
Пришел к больной старушке как миленький – ему, конечно, и самому хотелось выговориться. Тинину бутылку Епифьева спрятала.
Сказал:
– Да, ваша Юстина – прелесть. Просто «Серебряный век». Сейчас такие девушки повывелись. Ноль жеманства, простота поведения при внутренней сложности, тонко чувствует живопись. И, кажется, очень умная. Не понимаю, почему вы записали ее в «эмоционалы».
– Уровень ума напрямую не связан с рациональным или эмоциональным восприятием жизни. «Рационалы» часто бывают весьма недалеки, просто любят резонерствовать. Ну а пример глубокого мыслителя-«эмоционала» – Федор Михайлович Достоевский.
– А еще у нас с Юстиной полностью совпадают художественные вкусы, – мрачно сказал Клобуков.
– Почему вы об этом говорите похоронным тоном?
Лицо Антона Марковича страдальчески исказилось.
– Мы стояли перед картиной Клода Моне, которая нам обоим очень понравилась. Плечо к плечу. Я вдруг на минуту представил, что это моя жена, что мы пришли на выставку, а потом пойдем домой, будем обсуждать увиденное – как это было бы замечательно. Вы, конечно, правы – мне часто не хватает умного и заинтересованного собеседника, чтобы обсудить и перепроверить мысли, над которыми я ломаю голову… Но в следующем зале я увидел женский портрет… И это была моя Мирра. Неважно, что непохожа, но эта жадность к жизни, принятие ее такою, какая она есть, этот взгляд… Будто Мирра смотрит на меня, замурованная под стеклом, а я… А я… – Он задыхался. – А я только что ее предал. Был готов предать… Невыносима мысль, что я – предатель. Хотя, казалось бы, чему удивляться, – добавил он тихо, про что-то вспомнив, и совсем расклеился.
– Выпейте-ка вишневой наливки, – сказала Мария Кондратьевна. – Очень вкусная, соседка делает. И расскажите мне про вашу покойную супругу. Я же вижу, вам нужно сейчас о ней поговорить.
Рассказывал он долго, не меньше часа. То складно, то сбивчиво – перескакивал с одного на другое. Несколько раз утирал слезы.
Она задала несколько вопросов. Разлила чай.
– А теперь послушайте меня. Мои слова вас шокируют, даже вызовут негодование, но это очень важно. Вы любили Мирру, утрата осталась для вас незаживающей раной, однако это не ваш тип. Такая жена мешала вам развиваться. С ней вы не написали бы вашего трактата, а ведь это, может быть, самое важное дело в вашей жизни.
Клобуков, естественно, сначала сдвинул брови, но после взволнованного рассказа эмоциональных сил на возмущение у него не осталось.
– Не написал бы трактата… – Он горько усмехнулся. – Я любил Мирру. Всё остальное не имеет значения. Без нее моя жизнь – не жизнь.
– Жизнь – всегда жизнь. Если жить, а не предаваться жалости к себе, – отрезала Мария Кондратьевна, потому что сейчас была нужна резкость. – Есть три железных правила, без которых невозможно сохранять достоинство. Что бы ни случилось, никогда себя не жалеть. Это первое. Второе: никогда ничего не бояться. Любая беда – всего лишь испытание, которое нужно выдержать. Сдай этот экзамен, и ты перейдешь в следующий класс.
– Привет вам от блаженного Шопенгауэра. Эта философия хороша для одиночки, который никого не любит. Любящий всегда живет в страхе – за того, кого любит.
– Любовь – это роскошь, – тихо сказала Епифьева. – А за роскошь не жалко дорого заплатить. Если придется, то и болью. Но не страхом. Я никогда никого так не любила, вы правы, но мне кажется, что любить со страхом – это обкрадывать свое счастье.
– Вы сказали три железных правила? – помолчав, спросил Клобуков.
– Третье такое: не вздыхать по тому, чего у тебя нет, а сполна пользоваться тем, что у тебя есть. Это всегда немало – то, что у тебя есть. И самое главное богатство – диапазон выбора. Чем он шире, тем ты богаче.
Пришло время снизить эмоциональный накал разговора, и Мария Кондратьевна тихонько засмеялась.
– Это великое открытие я сделала в одиннадцатилетнем возрасте, когда начала самостоятельно мыслить. У детей-инвалидов этот процесс начинается раньше. Был 1894 год. На престол взошел Николай. Я подслушала разговор взрослых. Они царя жалели. Говорили: молодой оболтус, любит спорт, музыку, балерин, в государственных делах ни черта не смыслит, никогда ими не интересовался, а деваться некуда. Раз ты цесаревич – иди царствуй. И я вдруг подумала: а я богаче царя! Потому что у него выбора нет, а у меня есть. Можно пойти в монашки, как уговаривает няня. А нищий на паперти мне позавидовал. Эх, сказал, мне бы горб, горя бы не знал, все бы подавали. Можно взять суму и пойти с ней по Руси, всюду приютят, пожалеют, накормят. Можно поселиться на даче и каждый день гулять по лесу. А бедняжке Николаю ничегошеньки нельзя – только быть царем.
У Антона Марковича морщины на лбу разошлись.
– У меня в госпитале был один раненый, одноногий, точно такой же позитивист. Радовался, что, во-первых, остался жив и теперь вернется к семье. Во-вторых, слава богу отрезали не руку – можно работать. Развешивал по вагонам объявления: «У кого осталась левая нога 43 размера айда со мной на рынок обувку покупать».
Посмеялись. Потом он снова посерьезнел.
– Мария Кондратьевна, общение с вами доставляет мне несказанное удовольствие. Я буду счастлив, если вы позволите бывать у вас запросто. Но очень вас прошу навсегда оставить матримониальную тему. Пожалуйста, пообещайте.
– Обещаю, – легко согласилась она.
И незачем с ним теперь говорить о Тине. Живете вы, голубчики, по соседству и, если до сих пор не обращали друг на друга внимания, поскольку оба витаете в облаках, то теперь, встретившись, никуда не денетесь – вступите в разговор. Случай вас сведет, а остальное сделает эгохимия.
– Давайте просто поговорим, не о психологии, – предложил Антон Маркович. – Ужасно соскучился по нормальному общению. Даже забыл, что оно – нормальное. Знаете, – улыбнулся, – я про себя придумал вам прозвище.
– Надеюсь, не Квазимода?
– Нет. Пифия. Потому что вы похожи на жрицу-прорицательницу и потому что ваша фамилия Епифьева. Я вот о чем думал на этой замечательной выставке. Невеликое вроде бы событие – в музее выставили живопись. Но я прочитал, что скоро будет неделя французского кино, потом неделя итальянского кино. Кремль открыли для посещения. Кремль! Где работал Сталин! Самое главное, конечно, что из лагерей и тюрем возвращаются люди. Клетка открывается, понимаете? Я почему не люблю советскую власть… Видите, сказал такое и даже не оглянулся на дверь. Тоже знамение эпохи… Потому что суть коммунизма в том, чтобы загнать живых людей в клетку некоей теоретической конструкции, калечащей судьбы. Каждый отдельный человек, если это не Вождь, ничего не значит. Я видел, как постепенно сужается клетка, как сжимаются зазоры между железными прутьями, так что внешний мир уже не виден и нечем дышать. И вот – движение в обратную сторону. Нечто подобное происходило после кошмара Гражданской войны, в двадцатые. Сейчас, конечно, всё скучнее, приторможенней, но лучше, намного лучше. Потому что тогда пруд постепенно замерзал, полынья становилась всё уже, а сейчас наоборот. Каждый месяц чуть-чуть теплее, и лед тает.
– Основное, что происходит – реабилитация приватного мира, – сказала внимательно слушавшая Мария Кондратьевна. – В мире надчеловеческом, где все идут строем и в ногу, моей эгохимии делать нечего.
– Да, да! – подхватил Клобуков. – Я часто об этом думаю, только по-другому называю. Приватность, человеческие отношения, любовь, дружба – это Малый Мир. А пространство, в котором властвует политика, идеология, общественная или государственная целесообразность – это Большой Мир. Чем в худшем загоне Малый Мир, тем тяжелее жизнь.
– Категорически не согласна с вашими терминами, они переворачивают всё с ног на голову. Частный, индивидуальный мир больше общественного. Общество всего лишь продукт соединения и взаимодействия миллионов «я» – соединения конструктивного или деструктивного, в зависимости от того, счастливы или несчастны все эти «я». Хорошей страны никогда не получится, если ее населяют растерянные, не понимающие самих себя, бессмысленно живущие люди…
– Но об этом я и пишу свой трактат! – перебил всегда корректный Антон Маркович – так он был взволнован. – О смысле и цели нашего существования. О формуле правильной жизни. Я называю ее «аристономия». Аристономический, то есть правильно живущий человек, должен обладать шестью качествами: стремлением к развитию, чувством собственного достоинства, выдержкой, мужеством, а также уважением и сочувствием к окружающим. Каждый элемент тут обязателен, потому что…
– Всё это прекрасно, – в свою очередь перебила собеседника Мария Кондратьевна, тоже увлекшись дискуссией, – но ваша формула имеет дефект. Она универсальна, а люди, живые люди, не универсальны, они уникальны. Придется каждому эготипу перекраивать вашу аристономию по фигуре. А еще вы не учитываете, что человек в разные периоды своей жизни не один и тот же. Правила жизни «утром», «днем» и «вечером» будут неодинаковы!
И она повернула на своё – то, о чем в последнее время много думала. Заговорила о самом неисследованном, самом загадочном возрасте – о старости.
– Если человек обошелся со своей жизнью правильно (а мы оба согласны, что при этом личность постоянно развивается), то с каждым годом он должен становиться всё лучше и лучше, так ведь? В сорок лет он будет лучше, чем в тридцать, в восемьдесят лучше, чем в семьдесят, а если доживет до девяноста, то вообще должен превратиться в бодхисатву. Если же движения вперед и вверх не происходит, значит, человек со своей жизнью что-то делает не так.
– А дряхление? Болезни? Ограничение возможностей?
– Да, тело перестает быть источником радости и становится всё большей тяготой, но здесь есть великий смысл: это действует физиологический механизм постепенного отключения страха смерти, ведь с изношенным телом не жалко расставаться.
– Я человек не религиозный. Это значит, что расставаться мне придется не только с телом, но и с душой.
– Откуда вы это знаете? Вы уже умирали?
Одним словом, беседа вышла замечательно увлекательная. Оба собеседника получили от нее огромное удовольствие.
Антон Маркович ушел в восьмом часу, и Епифьева хотела внести в его досье кое-какие коррекции, но сесть за стол не успела.
В дверь трижды позвонили. Соседей дома не было, они еще в обед ушли в «Химтовары» стоять за хозяйственным мылом, пообещали взять и на долю Марии Кондратьевны.
Епифьева прохромала по коридору, открыла.
На лестнице стоял, переминался с ноги на ногу незнакомый человек. В габардиновом плаще и шляпе, сильно сконфуженный. Интересно. Солидная одежда и смущение дисгармонировали с молодым, мужественно красивым лицом, спортивной фигурой. Первый визуальный анализ: уверенный, даже оборотистый в обычной жизни «акционист», оказавшийся в непривычной и психологически некомфортной ситуации.
– Вы, я так понимаю, гражданка Епифьева, – сказал неизвестный. – Мария Кондратьевна, правильно?
Не интеллигент. Назвал «гражданкой», а не по имени-отчеству, сразу дал понять, что узнал по горбу – кто-то ему меня описал, уточняющий вопрос «правильно?» тоже не из лексикона человека воспитанного. В каком же смысле тогда шляпа?
– Проходите, пожалуйста. Вы…?
– Кочанов моя фамилия. Сергей Кочанов, можно без отчества. – Вошел, снял головной убор. Аккуратная стрижка, пахнуло одеколоном – следит за собой. – Я по рекомендации Кучумова Пал Семеныча.
Опять дискордия. «По рекомендации» – выражение сложное, «Пал Семеныч» – просторечие. Какая-то гибридная профессия, сочетающая канцелярит с коммуникативной незамысловатостью.
Павел Семенович Кучумов был респондентом и клиентом, «честолюбивый-освоитель» с отличной бульдожьей хваткой, директор магазина «Колбасы». Епифьева подобрала ему отличную пару. С тех пор Кучумов каждый месяц первого числа присылал подарок – кольцо краковской. Эту колбасу, которую без очереди не купишь, Мария Кондратьевна любила с детства.
– В общем, мне бы тоже… В смысле, хорошую невесту найти. Короче, жениться мне пора, вот что, – совсем засмущался Кочанов, и Епифьева немедленно начала его тестировать.
– Пора потому что, как поется в песне, сердцу хочется «хорошей, большой любви»? – улыбнулась она. – Вы снимайте плащ, милости прошу в комнату.
– У меня очередь на жилплощадь подошла. Я, конечно, со своей стороны председателя жилкомиссии простимулировал в плане поддержки. Он посоветовал: «Женитесь. Если один – получите комнату максимум 12 метров, а если молодая семья – можно ставить вопрос об отдельной квартире». Вот я и подумал. Жениться все равно рано или поздно надо, а ошибиться в человеке неохота. Будешь потом разводиться, разъезжаться…
«Рационал», ясно. И похоже, что «освоитель».
– Странно, что такой привлекательный, современный мужчина не может найти себе спутницу жизни сам. Как вам пришло в голову воспользоваться дедовским способом поиска невесты?
– Кучумов сказал, у вас способ не дедовский, а научный. Я науку уважаю. И вообще считаю, что во всяком серьезном деле лучше доверяться профессионалу.
Или «искатель»?
Сели к столу. Кочанов огляделся вокруг.
– Затейно живете. Будто в шкатулке, где заперто старое время.
Неужто ты, голубчик, «креативист»? – удивилась про себя Епифьева. Только человек отвлеченно-художественного склада мог такое сказать. Curiouser and curiouser[4].
– «Шкатулка запертого времени» – хорошо сказано.
– У вас красиво. Я люблю красивое. [Он еще и «артист»!]. Надеюсь, вы и невесту мне подберете с хорошими внешними данными. Я больше брюнеток люблю.
– Женщина покрасит для любимого волосы в такой цвет, который ему нравится, не беспокойтесь. Павел Семенович объяснил вам, как я работаю?
– Да. Только давайте сначала про оплату договоримся. Материально я человек обеспеченный. Могу соответствовать на уровне Кучумова.
– Вы тоже по торговой линии?
– Скажем так – по хозяйственной. Устроит вас такой же гонорар, какой вам заплатил Павел Семенович?
– Меня устроит любой гонорар. Даже нулевой, – озадаченно сказала Мария Кондратьевна. «Креативист-артист» не должен был бы так акцентировать материальный аспект – сразу бы заинтересовался спецификой поиска невесты. Вероятно, сказывается прагматическая профессия.
– Да бросьте вы – нулевой. Обижаете. Пал Семеныч говорил, что в первую годовщину свадьбы принес вам в конверте пять тысяч. Если буду доволен женой – мне это запросто. Договоримся на таких условиях?
– Хорошо.
– Не хорошо, а отлично и даже замечательно. – Кочанов сунул руку во внутренний карман. – Потому что пять тысяч рублей, гражданка Епифьева, это уже «особо крупное». Вы только что подтвердили показания, данные на допросе гражданином П.С.Кучумовым.
– На каком допросе? – удивилась Мария Кондратьевна.
– В УБХСС. Давайте я теперь представлюсь по всей форме. Оперуполномоченный Управления по борьбе с хищениями социалистической собственности старший лейтенант Кочанов.
На ладони лежала книжечка с печатью и фотографией.
– Мы взяли Кучумова за разные шахер-махеры, ему ломится от пяти до пятнадцати – это уж как прокурор запросит. Но товарищ подполковник сделал арестованному выгодное предложение. Сдавайте, говорит, Пал Семеныч, всех нарушителей соцзаконности, кого знаете. За каждого, кого принесете в клюве, вам от прокурора будет скощуха. За крупную рыбу по году, за среднюю по полгодика, за мелочь – по месяцочку. Вот Кучумов и старается. Ему до пятилетнего срока немножко дотянуть осталось. Вспомнил про сваху. Дальше у нас с вами неинтересно будет. – Старший лейтенант вздохнул. – Сейчас поедем в отдел. Будем показания снимать. Очная ставка со свидетелем, то-сё. Соберите сумку. Ночевать вы будете в другом месте.
– Как интересно! – воскликнула Епифьева. – Мой отец тоже был криминалистом. И как печально.
– Что вы попались? – ухмыльнулся милиционер.
– Нет. Что вы расходуете свою жизнь на дело, к которому не имеете ни вкуса, ни призвания. Мой-то отец свою работу любил. А вы своей томитесь.
– С чего вы взяли? – изумился Кочанов.
– Вернее так. Вы блестяще, с увлечением изобразили клиента. Очень убедительно разыграли смущение. Ввести в заблуждение меня – это дорогого стоит. Но стоило вам скинуть маску, и в глазах появилась скука. Вам не нравится милицейская работа, вам нравится лицедейство.
– Протоколы да отчеты-рапорты писать – занятие, конечно, кислое, – пожал плечами оперуполномоченный. – Но куда деваться? Работа она и есть работа.
– Как «куда деваться»? – рассердилась Мария Кондратьевна. – Сколько вам лет, Сергей?
– Двадцать девять. А что?
– А то, что у вас вся жизнь впереди! И вы не смеете выкидывать ее в мусор! У вас явный талант актера. Эти способности нужно развивать. Я позвоню моему доброму знакомому, он ведет курс в Щукинском училище. Попрошу послушать вас.
Молодой человек присвистнул.
– Правду Кучумов говорил. Вы уникальная старушка. Мне каких только взяток не предлагали, но такую – впервые. И главное, тут даже за попытку подкупа не привлечешь.
– Это не подкуп и не взятка. Никаких неприятностей вы мне доставить не можете, – стала объяснять Епифьева. – Во-первых, про пять тысяч было сказано без свидетелей. Во-вторых, статья, которую вы мне, как у вас называется, «шьете» – незаконная частнопредпринимательская деятельность – это срок до трех лет, причем инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры освобождаются от отбывания, иначе государству пришлось бы взять на содержание всех военных калек с бабушками, продающими редиску. Начальник скажет вам, что на меня жалко тратить бумагу и время. Но что по-настоящему жалко, так это губить свой талант и тратить жизнь на всякую чепуху. Вот чем вы занимаетесь, Сергей? Разоблачаете подпольных портних, зубных техников и мелких коммерсантов? Вам самому не тоскливо? Вы могли бы быть не Кочановым, а Качаловым!
Старший лейтенант слушал, не перебивал. Уже хорошо.
– Послушайте, давайте с вами сыграем в одну игру. Вы должны любить игры, я уверена.
– В карты играю, по воскресеньям. Есть такая американская игра – покер, на чуйку. Не на деньги играю, – быстро добавил он. – На интерес.
– Какой это интерес? Вот моя игра – настоящий интерес. Я буду описывать вам ситуацию, а вы – принимать решения. И в результате вы узнаете про себя то, о чем даже не догадывались.
Кочанов засмеялся.
– Занятная вы старушенция. Ладно, сыграем в вашу игру. Но потом поедем в отдел. Пускай товарищ подполковник решает, как с вами быть.
– С удовольствием пообщаюсь и с вашим начальником. Судя по тому, как успешно он разговорил Павла Семеновича, это должен быть очень интересный человек. Начнем?
– Ну давайте.
– Представьте, что вы летите на самолете к морю, на юг. Внизу – заснеженные пики кавказских гор. Настроение у вас отпускное. Справа сидит пассажирка. После взлета она спала, но теперь проснулась и поглядывает на вас искоса. Представили?
– Без проблем, – кивнул он. – А какая она по внешности, моя соседка? Ничего?
– Молодая брюнетка очень привлекательной наружности – грузинка или, может быть, армянка. Погода неважная. Небо в иллюминаторе черное, в нем посверкивают зарницы, самолет то и дело ныряет в воздушные ямы…
Хребтина
Прежде чем всё сошлось, целую неделю мотались по Савеловской туда-сюда: утром от Москвы-Бутырской до Лобни, под вечер обратно.
Иван Афанасьевич Щуп девятьсот тринадцатого г. р. того стоил. Самурай никого не включал в свой список по показаниям только одного свидетеля. Мало ли – может, личные счеты или фантазии. Но со старшим лейтенантом Щупом, начальником поездного конвоя «Москва-Воркута», всё было железно. Многие через его этап прошли, всем он запомнился.
Кличка у гражданина начальника была Дубина. Не из-за тупости, это у вертухаев качество обычное, а из-за резиновой дубинки с закатанной в верхушку чугунной гирькой. Этой штуковиной Щуп лично колошматил зэков и, если входил в раж, мог покалечить, даже забить до смерти. А в раж он входил часто, потому что вскоре после отбытия поезда тяжело напивался и впадал в бешенство. Ходил по вагонам, выискивал, к чему придраться. В пятидесятом Самурай лежал в больничке с одним паралитиком, которому Щуп своей дубинкой перебил позвоночник.
– Я из-под доходяги дерьмо вычищал, иначе он сгнил бы заживо, – рассказывал Шомберг, двигая желваками. – Он и сгнил, я думаю, когда меня выписали. Но показания Евгения Михайловича Лазарева, инженера завода «Калибр», остались. Никто не забыт, ничто не забыто. Что ты думаешь по поводу товарища Щупа, Санитар-сан?
– Очень хочу лично познакомиться, – ответил Санин.
Но личное знакомство всё откладывалось.
Первые два дня ушли на слежку – нужно было понять расписание и маршруты, выбрать удобное место. Дома исключалось, у приговоренного были соседи.
Раписание и маршруты были такие.
Утром он выходил мятый, похмельный, шел на базар, где калымил грузчиком. Со службы его, должно быть, поперли за пьянство, а может быть, в пятьдесят третьем, когда гэбуха стала из министерства комитетом и начала сокращать штаты.
Щуп таскал мешки и ящики, платили ему по два-три рубля. Как только набиралась потребная сумма, полсотни – уходил. Сумму вычислили, потому что прямо с рынка бывший старший лейтенант шел в магазин и покупал одно и то же: две «белых головки», буханку, полкило дешевой ливерной. Чесал домой и больше никуда не выходил. Квасил, ложился спать, и утром всё повторялось.
Единственное хорошее место было на пути от магазина до дома – на пустыре. Но в светлое время могли увидеть из окон соседнего барака. Знакомиться с Щупом надо было в сумерках, а лучше в темноте, то есть после шести.
Пока Санин с Самураем вели наблюдение, так и получалось. Свой прожиточный минимум Щуп нарабатывал только к закрытию рынка, потом еще стоял в очереди за ханкой и через пустырь шел уже в темноте.
Но потом несколько дней подряд гаду везло – он набирал нужную сумму раньше. Самурай в кустах скрипел зубами от злости, когда бугай в драном кителе проходил мимо, размахивая авоськой.
Только в следующий понедельник, двадцать четвертого, всё наконец срослось.
Щуп ушел с рынка только в полшестого. Из магазина, нагруженный, пробился через толпу уже в густых сумерках.
– На исходную позицию. Работаем! – сказал Самурай. Они наблюдали из-за угла.
Побежали. Напарник задыхался, отставал, у него еще был с собой тяжелый сверток.
Едва заняли заранее облюбованное место, едва отдышались – на дальнем конце пустыря появилась массивная фигура. Щуп топал по тропинке сосредоточенной походкой алкоголика, спешащего сесть за стол.
– Давай, – шепнул Самурай.
Санин неторопливо пошел навстречу. В лицо не посмотрел, еще и зевнул, но, оказавшись за спиной у Щупа, развернулся, подскочил и с размаху вмазал кулаком (в нем свинчатка) по бычьему загривку. С одного удара Щуп не упал, только покачнулся. Пришлось двинуть еще раз, сильнее. Тогда рухнул, зазвенело разбитое стекло.
От кустов вприпрыжку несся Шомберг.
Вдвоем они оттащили бесчувственное тело в кусты, перевернули на живот, вытянули руки. Санин каблуком впечатал в землю одну кисть, потом другую. Хрустнули кости. Для верности еще и наступил обеими ногами – чтоб не рыпался.
Самурай чуть не приплясывал. Даже запел, чего с ним никогда прежде не бывало:
- Озари стон ночи улыбкой,
- И стан твой гибкий
- Обниму любя!
- До зари, до утра прохлады
- Я петь серенады
- Буду для тебя!
Голос у него оказался неожиданно высокий, приятный.
Пнул лежащего ногой по уху. Тот застонал, приподнял голову, но ничего кроме санинских сапог увидеть не мог.
– Помнишь, начальник, воркутинский этап? – спросил Санин, нагнувшись. – Как зэкам кости ломал, помнишь?
Щуп промычал нечленораздельное.
– Высокий суд зэковской справедливости рассмотрел ваше дело, гражданин Щуп, и перед оглашением приговора дает вам возможность привести доводы, которые могли бы смягчить наказание. Нам такой возможности ваша поганая власть не давала. Есть вам что сказать в свою защиту?
– Сука, – прохрипел старший лейтенант, попробовал выдернуть руки из-под санинских подметок и взвыл от боли.
– То, что вы – сука, суду известно и основанием для облегчения участи не является. Иван Афанасьевич Щуп, вы приговариваетесь к тому же, на что обрекали других. К перелому хребтины и последующему параличу.
Самурай размотал свой сверток. Внутри был короткий ломик. Размахнулся и раз, другой, третий ударил в середину спины. Звук был тошнотворный. Щуп заклокотал горлом, обмяк.
– Живи подольше, тварь, – сказал Самурай, плюнув на неподвижное тело. – Будешь гнить – никто твоей грязи не вычистит. Всё, идем отсюда.
Лом зашвырнул в канаву со стоялой водой.
– Надо было с собой взять. Вдруг найдут? Хоть бы отпечатки стер, – встревоженно оглянулся Санин.
– Ничего они не найдут. Особо и искать не станут. Кому он нужен, пьянь, ради него корячиться. Может, для порядка поищут среди тех, кого Щуп этапировал, но это тысячи людей, и нас среди них не было. Нас с тобой никогда не найдут. Гениальность моего плана в том, что никто из приговоренных ни с тобой, ни со мной не пересекался. Конечно, после нескольких таких акций разнесется слух о мстителях. Многие, очень многие наложат в штаны и станут озираться по сторонам. Это тоже возмездие – пусть трясутся, гниды. А мы останемся невидимые, бесплотные, неуловимые и потому о-очень страшные. Красота!
Прокартавил по-ленински:
– Осуществляются вековые мечты угнетенного п’олета’иата, това’ищи! Весь ми’ насилья мы ’аз’ушим, кто был ничем, тот станет всем!
Кремлевская звезда
Перед входом в продмаг громко вещало радио. Звонкий голос декламировал «Стихи о Родине».