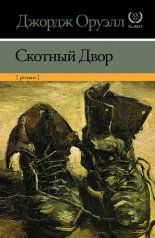Маленькая жизнь Янагихара Ханья

Тогда Лука встал, порылся в коробках, стоявших на верхних полках, и протянул ему стеклянную бутылку яблочного сока.
— Нельзя, — тотчас же сказал он.
Ему вообще запрещено было ходить в подвал, он сюда залезал через боковое окошечко и спускался вниз, хватаясь за полки. Кладовой заведовал брат Павел, который каждую неделю пересчитывал все припасы, если что-нибудь пропадет — он будет виноват. Как всегда.
— Не волнуйся, Джуд, — сказал брат. — Я потом положу туда новую бутылку. Ну же, бери. — И в конце концов он его уговорил.
Сок был сиропно-сладким, и он разрывался, не зная, то ли пить его мелкими глоточками, чтобы растянуть на подольше, то ли разом выхлебать, пока брат не передумал и не отобрал у него бутылку.
Он допил сок, какое-то время они просто сидели и молчали, а потом брат тихо сказал:
— Джуд… то, что они с тобой делают, это нехорошо. Нельзя так с тобой обращаться, нельзя так тебя обижать. — Тут он снова чуть не расплакался. — Я никогда тебя не обижу, Джуд, ты ведь это знаешь, да?
И тогда он смог взглянуть на Луку, на его вытянутое, доброе, встревоженное лицо с короткой седой бородкой и в очках, за которыми его глаза казались еще больше, и кивнуть.
— Знаю, брат Лука, — сказал он.
Брат Лука долго молчал, но наконец заговорил снова:
— Знаешь, Джуд, до того, как я приехал сюда, в монастырь, у меня был сын. Ты мне так его напоминаешь. Но он умер, а я вот здесь.
Он не знал, что сказать, но, похоже, ничего говорить было и не нужно, потому что брат Лука продолжал:
— Иногда я смотрю на тебя и думаю: ты не заслуживаешь того, что с тобой делают. Ты заслуживаешь того, чтобы быть с кем-нибудь другим, с кем-нибудь… — И тут брат Лука снова замолчал, потому что он опять расплакался.
— Джуд, — удивленно сказал брат.
— Пожалуйста, — всхлипывал он, — пожалуйста, брат Лука, помогите, я не хочу, чтоб меня выгнали. Я исправлюсь, честное, честное слово. Только пусть они меня не выгоняют.
— Джуд, — сказал брат и уселся рядом с ним, притянув его к себе. — Никто тебя не выгоняет. Я тебе обещаю, никто тебя отсюда не выгонит.
Наконец он успокоился, и они вдвоем долго сидели, не говоря ни слова.
— Я просто хотел сказать, что ты заслуживаешь того, чтобы быть с тем, кто тебя любит. Как я. Если б ты был со мной, я бы тебя не обижал. Нам было бы с тобой так хорошо.
— А что бы мы делали? — наконец спросил он.
— Ну-у, — медленно сказал брат Лука, — мы могли бы пойти в поход. Ты когда-нибудь ходил в поход?
В поход он, конечно, не ходил, и брат Лука рассказал ему, как это бывает: палатка, костер, запах и потрескивание горящих сосновых веток, маршмэллоу на палочках, совиное уханье.
На следующий день он вернулся в теплицу, и после этого брат Лука на протяжении многих недель и месяцев рассказывал ему о том, что они смогут делать вместе, только вдвоем: они поедут на пляж, в парк аттракционов, будут гулять по городу. Они будут есть пиццу и гамбургеры, вареную кукурузу и мороженое. Он научится играть в бейсбол и рыбачить, они будут жить в маленьком домике, только вдвоем, как отец с сыном, и каждое утро они будут читать, а каждый вечер — играть. У них будет огород, где они будут выращивать овощи, да, и цветы тоже — и как знать, может быть, и теплицу они свою когда-нибудь поставят. Они все будут делать вместе, будут всюду ходить вместе и будут самыми лучшими друзьями, только еще лучше.
Он упивался рассказами Луки, и когда все было совсем плохо, вспоминал их: огород, где у них будут расти тыквы и кабачки, ручей за домом, в котором они будут ловить окуней, домик — увеличенная версия домиков, которые он строил из своих брусочков, — где у него, как обещал брат Лука, будет настоящая кровать, где даже в самые холодные ночи им всегда будет тепло, где они смогут печь маффины хоть каждую неделю.
Однажды вечером — дело было в начале января, было так холодно, что не спасали даже обогреватели, и им пришлось обернуть все тепличные растения мешковиной — они молча работали вдвоем. Он всегда знал, когда Луке хочется поговорить об их доме, а когда нет, и чувствовал, что сегодня как раз такой тихий день, когда брат думает о чем-то своем. В таком состоянии брат Лука злым тоже не был, просто тихим, и он понимал, что эту тишину лучше не нарушать. Но он изголодался по рассказам Луки, они ему были нужны. День был такой ужасный, в такие дни ему хотелось умереть, и он хотел послушать, как брат Лука рассказывает об их домике и о том, что они там будут делать, когда останутся только вдвоем. В их домике не будет ни брата Матфея, ни отца Гавриила, ни брата Петра. Никто не будет кричать на него, никто не будет его обижать. Он будет все равно что целыми днями жить в теплице, где чары никогда не спадут.
Он твердил себе, что открывать рот нельзя, но тут сам брат Лука заговорил с ним.
— Джуд, — сказал он. — Мне сегодня очень грустно.
— Почему, брат Лука?
— Потому что… — сказал брат Лука и замолчал. — Ты ведь знаешь, как ты мне дорог, да? Но в последнее время мне кажется, что я тебе совсем не дорог.
Услышав эти ужасные слова, он на миг потерял дар речи.
— Это неправда! — сказал он брату.
Но брат Лука покачал головой.
— Я все рассказываю тебе о нашем домике в лесу, — сказал он, — но что-то мне кажется, ты на самом деле совсем не хочешь там оказаться. Для тебя это просто истории, сказки.
Он помотал головой:
— Нет, брат Лука. Для меня они тоже настоящие.
Как же ему хотелось объяснить брату Луке, какие они настоящие, как сильно они ему нужны, как сильно они ему помогают. У брата Луки был очень огорченный вид, но в конце концов ему все-таки удалось его убедить, что и он хочет так жить, что он хочет жить с братом Лукой, и ни с кем больше, что он сделает все что угодно, только бы так жить. И наконец, наконец брат Лука улыбнулся, наклонился и обнял его, потирая его спину.
— Спасибо, Джуд, спасибо, — сказал он, а он, обрадовавшись, что обрадовал брата Луку, поблагодарил его в ответ.
Внезапно брат Лука посерьезнел, взглянул на него. Он уже давно об этом думает, сказал он, он думает, что им пора уже начать строить себе дом, пора уехать отсюда вместе. Но один он, Лука, строить дом не будет — поедет ли Джуд с ним? Дает ли он честное слово? Хочет ли он быть с братом Лукой так же, как с ним хочет быть брат Лука — только вдвоем в их маленьком идеальном мире? Ну конечно же он хотел — конечно.
Тогда план такой. Они уедут через два месяца, перед Пасхой, а его девятый день рождения отпразднуют уже в домике. Брат Лука все организует, а ему нужно только хорошо себя вести, прилежно учиться и не бедокурить. И, самое важное, он должен пообещать, что никому ничего не расскажет. Если в монастыре обо всем узнают, сказал брат Лука, то его точно выгонят, и будет он жить один, и брат Лука тогда ничем не сумеет ему помочь. Он пообещал.
Следующие два месяца были и ужасными, и удивительными. Ужасными, потому что тянулись так медленно. Удивительными, потому что у него теперь была тайна, с которой ему легче жилось, ведь она означала, что его жизнь в монастыре закончится. Он стал охотнее просыпаться по утрам, потому что каждый новый день приближал его к жизни с братом Лукой. Каждый раз, когда к нему приходил кто-нибудь из братьев, он думал о том, что скоро уедет от них далеко-далеко, и тогда ему становилось чуть легче. Каждый раз, когда его били, когда на него кричали, он представлял, что он в домике, и тогда он стоически — этому слову его научил брат Лука — все это выносил.
Он умолял брата Луку, чтоб тот разрешил ему помочь с приготовлениями, и брат Лука велел ему собрать образцы всех цветов и листьев со всех растений в монастырском саду. Поэтому вечерами он бродил по саду с Библией в руках, перекладывая страницы лепестками и листьями. В теплице он теперь проводил меньше времени, но брат Лука всякий раз при встрече деловито ему подмигивал, и тогда он улыбался про себя от восхитительного тепла их тайны.
Заветный вечер настал, он нервничал. Рано вечером, сразу после ужина, к нему приходил брат Матфей, но потом наконец ушел, и он остался один. И вот вошел брат Лука, прижимая палец к губам, и он кивнул. Брат Лука раскрыл бумажный пакет, он помог ему сложить туда книги и белье, и потом они на цыпочках прокрались по коридору, спустились по лестнице, прошли сквозь сумеречное здание и вышли в темноту.
— До машины нужно пройти всего ничего, — прошептал ему Лука, но он вдруг замер. — Джуд, что такое?
— Мой мешок, — сказал он, — мешок, который в теплице.
И тогда Лука улыбнулся доброй своей улыбкой и положил руку ему на голову.
— Я уже отнес его в машину.
И он с благодарностью — брат Лука не забыл! — улыбнулся ему в ответ.
Было холодно, но холода он почти не замечал. Они все шли и шли, по длинной, усыпанной гравием подъездной дорожке, прошли через деревянные ворота, поднялись на холм, вышли к шоссе, пошли по шоссе — ночь была до того тихой, что в ушах звенело. Пока они шли, брат Лука показывал ему разные созвездия, называл их, а он повторял за ним все названия, ни разу не перепутав, и брат Лука, одобрительно бормоча, гладил его по голове.
— Ты такой умный, — говорил он. — Я так рад, что тебя выбрал, Джуд.
Теперь они шли по дороге, которую он видел всего пару раз в жизни — когда его возили к врачу или к зубному, — только сейчас на ней никого не было, и вокруг шныряли маленькие зверьки, ондатры и опоссумы. Потом они сели в машину — вытянутый бордовый универсал, рябой от ржавчины, заднее сиденье которого было завалено коробками и черными мусорными мешками, там же стояли любимые растения Луки — Cattleya schilleriana с безобразными пятнистыми лепестками, Hylocereus undatus с сонно обмякшими бутонами — в темно-зеленых пластмассовых гнездах.
Странно было видеть брата Луку в машине, гораздо страннее даже, чем самому в ней сидеть. Но особенно странно было чувствовать, что все это того стоило, что все его страдания окончены, что теперь у него начнется жизнь, и она будет ничуть не хуже, а может быть, даже и лучше той, о которой он читал в книгах.
— Ну что, готов? — прошептал ему брат Лука и улыбнулся.
— Готов, — прошептал он в ответ.
И брат Лука повернул ключ в зажигании.
Забывать можно было двумя способами. На протяжении многих лет он, не проявляя особой оригинальности, рисовал в воображении сейф и в конце дня собирал образы, события, слова, про которые не хотел думать, и открывал тяжелую стальную дверь — ровно настолько, чтобы забросить их внутрь и захлопнуть дверь снова, быстро и плотно. Но этот метод был неэффективен: воспоминания просачивались наружу. Он пришел к выводу, что их следует не просто прятать, а уничтожать.
Тогда он изобрел несколько приемов. Мелкие воспоминания — обиды, оскорбления — следовало переживать снова и снова, чтобы они потеряли остроту, стали почти бессмысленными от повторения или чтобы можно было поверить, будто все это случилось с кем-то другим, а ты об этом только слышал. Воспоминания посерьезнее надо было представить в виде отрезка киноленты — а потом стереть его кадр за кадром. Ни один из способов не был легок в исполнении: например, нельзя было останавливаться в процессе стирания и приглядываться к стираемому; нельзя было проматывать какие-то части в надежде не погрязнуть в деталях происшедшего — потому что не погрязнуть не удавалось. Трудиться надо было каждую ночь, пока воспоминание не стиралось полностью.
Хотя, конечно, полностью оно не пропадало. Но хотя бы отдалялось — уже не преследовало тебя, как привидение, дергая за рукав, прыгая перед носом, когда ты пытаешься его не замечать, претендуя на твое время, на твое внимание, так что думать о чем-то еще становилось невозможно. В неучтенные мгновения — перед тем как заснуть, перед посадкой на ночной рейс, когда для работы не хватает бодрости, а для сна не хватает усталости — они снова давали о себе знать, и тут надежнее всего было воображать белый экран, огромный, неподвижный, залитый светом, и держать его в уме подобно щиту.
После избиения он неделями пытался забыть Калеба. Прежде чем лечь, он шел к двери в квартиру и, чувствуя себя довольно глупо, пытался силой воткнуть старые ключи в новые замки, чтобы убедиться, что они не вставляются, что он снова в безопасности. Он устанавливал и переустанавливал новую сигнализацию в квартире, такую чувствительную, что даже пробегающие тени вызывали у нее обеспокоенный писк. А потом лежал с открытыми глазами в темной комнате и сосредоточенно забывал. Но это было ужасно трудно — его обступали и кололи бесчисленные воспоминания прошедших месяцев, их было слишком много. Он слышал, как голос Калеба ему что-то говорит, он видел, с каким выражением Калеб смотрит на его раздетое тело, вспоминал жуткую безвоздушную пустоту падения в лестничный пролет и сжимался в узел, закрывал уши руками, зажмуривался. В конце концов он вставал и шел работать в свой кабинет на другом конце квартиры. К счастью, ему предстояло участвовать в важном процессе; он был так занят целыми днями, что у него почти не оставалось сил еще о чем-то думать. Некоторое время он почти не появлялся дома — два часа на сон, час, чтобы принять душ и переодеться, — пока как-то вечером у него не случился приступ на работе, сильный, впервые. Уборщик, работавший по ночам, обнаружил его на полу, вызвал охрану, охранники позвонили президенту фирмы, человеку по имени Петерсон Тремейн, а тот позвонил Люсьену — только Люсьену он в свое время давал инструкции на случай чего-то подобного; Люсьен позвонил Энди, а потом вместе с президентом приехал в офис, и там они оба дожидались Энди. Он видел их, видел их ботинки, и, даже задыхаясь и извиваясь на полу, он все-таки пытался найти силы, чтобы попросить их уйти, уверить их, что все в порядке, что его просто надо оставить в покое. Но они не ушли, и Люсьен нежно обтер его рот от рвоты и держал его за руку, и он был смущен почти до слез. Позже он все повторял, что это ерунда, так часто бывает, но они заставили его отдохнуть до конца недели, а в понедельник Люсьен объявил, что они будут отправлять его домой в разумное время: в полночь в рабочие дни, в девять вечера в выходные.
— Люсьен, — раздраженно сказал он, — это смешно. Я не ребенок.
— Джуд, поверь мне, — ответил Люсьен, — я убеждал остальных членов правления, что тебя следует и дальше гнать как арабского жеребца на балтиморской скачке, но по какой-то непостижимой причине они обеспокоены твоим здоровьем. А, и процессом. Почему-то они считают, что, если ты заболеешь, мы не выиграем дело.
Он упорно спорил с Люсьеном, но без толку: в полночь свет на его рабочем месте вдруг выключался, и он в конце концов смирился и стал уходить домой, когда ему велели.
После случая с Калебом он почти утратил способность общаться с Гарольдом; любая встреча с ним превращалась в пытку. Это осложняло визиты Гарольда и Джулии, которые к тому же участились. Он был в ужасе оттого, что Гарольд застал его в таком виде: когда он думал о том, что Гарольд видел его окровавленные штаны, спрашивал о детстве (это настолько очевидно? Просто поговорив с ним, люди понимают, что произошло столько лет назад? Как же тогда скрыть все так, чтобы никто не замечал?), ему делалось до того дурно, что приходилось бросать все дела и ждать, пока пройдет. Он чувствовал, что Гарольд старается обращаться с ним так же, как раньше, но что-то изменилось. Гарольд больше не приставал к нему с нападками на «Розен Притчард», больше не спрашивал, каково ему потворствовать должностным преступлениям. И уж точно больше ни разу не заикнулся о том, что он может найти себе пару, жить с кем-то вместе. Теперь он задавал вопросы про самочувствие: как он? Как его здоровье? Как ноги? Он не слишком утомляется? Он часто пользуется креслом? Нужна ли ему какая-нибудь помощь? Он всегда отвечал абсолютно одинаково: в порядке, в порядке, в порядке; нет, нет, нет.
А еще Энди вдруг возобновил свои ночные звонки. Теперь он звонил в час ночи, и в клинике, куда он теперь являлся чаще прежнего, раз в две недели, Энди не был похож на себя и обращался с ним тихо и вежливо, отчего ему становилось не по себе. Энди осматривал его ноги, считал порезы, задавал все обычные свои вопросы, проверял рефлексы. И каждый раз, придя домой и выгребая мелочь из карманов, он обнаруживал, что Энди тайком сунул ему визитную карточку специалиста, психотерапевта по имени Сэм Ломан, с надписью: «ПЕРВЫЙ СЕАНС ЗА МОЙ СЧЕТ». Карточка оказывалась у него в кармане постоянно, каждый раз с новой запиской: «ДЖУД, РАДИ МЕНЯ» или «ОДИН РАЗ, И ВСЕ». Эти карточки напоминали надоедливые печенья с предсказаниями из китайского ресторана, и он всегда их выбрасывал. Намерение Энди казалось ему трогательным, но при этом утомительным, бессмысленным; с тем же чувством он всякий раз заменял пакет под раковиной после визитов Гарольда. Он шел в кладовку, где хранил в ящике сотни спиртовых салфеток и бинтов, стопки марли и десятки упаковок с лезвиями, собирал новый пакет и приматывал его в положенном месте. Как использовать его тело — это всегда решали другие, и, даже зная, что Гарольд и Энди пытаются ему помочь, он позволял чему-то детскому и упрямому в себе сопротивляться: нет, он сам решит. Он ведь и так почти не контролирует собственное тело, как они могут лишать его еще и этого?
Он говорил себе, что все в порядке, что он пришел в себя, что равновесие восстановлено, но на самом деле понимал: что-то не так, он изменился, он на грани. Вернулся Виллем, и хотя он не знал о произошедшем, не видел Калеба, не застал его унижения — он позаботился об этом, сказав Гарольду, Джулии и Энди, что никогда больше не станет с ними разговаривать, если они хоть словом кому-нибудь проболтаются, — он все равно теперь стеснялся Виллема, старался не попадаться ему на глаза. «Джуд, ох, ужас, — сказал Виллем, когда, вернувшись, увидел гипсовую шину. — Ты точно в порядке?» Но гипс — это была ерунда, самая нестыдная деталь, и на мгновение ему захотелось сказать Виллему правду, рухнуть ему на руки, как он никогда не делал, и зарыдать, признаться во всем, попросить его о помощи, попросить, чтобы он сказал, что по-прежнему любит его, даже вот такого. Но, конечно, он ничего подобного не сделал. Он давно уже послал Виллему длинное письмо с подробным враньем про автомобильную аварию, и, воссоединившись, они заболтались допоздна, обсуждая все на свете, кроме того письма, и Виллем не пошел домой и заснул вместе с ним на диване в гостиной.
Но жизнь продолжалась. Он вставал по утрам, он ходил на работу. Он одновременно стремился к людям, чтобы не вспоминать про Калеба, и сторонился людей, потому что Калеб напомнил ему, как он не похож на человека, как неполноценен, как отвратителен, и ему было стыдно оказываться в кругу других людей, нормальных людей. Он представлял свои дни так же, как представлял ступени, когда у него болели и немели ступни: он сделает шаг, и другой, и еще один, и в конце концов дела пойдут лучше. В конце концов он научится складывать эти месяцы в свою жизнь, принимать их и жить дальше. Ему не привыкать.
Начался процесс, и он его выиграл. Люсьен не уставал повторять, какая это грандиозная победа, а он знал, что так оно и есть, но испытывал по этому поводу лишь панику: а теперь что ему делать? У него уже были новые клиенты — банк, — но эта работа была рассчитана на долгую перспективу, на кропотливый и скучный сбор информации, а не на бешеную круглосуточную деятельность. Он останется дома, один, и его мысли не будут заняты ничем, кроме истории с Калебом. Тремейн лично его поздравил, и он знал, что этим следует гордиться, но когда он попросил Тремейна сильнее его загрузить, тот только рассмеялся.
— Нет, Сент-Фрэнсис, — сказал он. — Ты отправляешься в отпуск. Это приказ.
Он не отправился в отпуск. Он поклялся — сначала Люсьену, потом Тремейну, — что отправится непременно, просто сейчас не может. Но все происходило так, как он и опасался: он готовил ужин дома или шел в кино с Виллемом, и вдруг перед глазами вставала одна из сцен с участием Калеба. А потом появлялись другие воспоминания — о жизни в приюте, о годах с братом Лукой, о времени, проведенном у доктора Трейлора, о том, как его сбивает машина: белое сияние фар, его голова резко дергается вбок. Память заполнялась образами, ведьмами, которые требовали внимания, хватали его, царапали своими длинными, острыми пальцами. Калеб выпустил наружу что-то, всегда сидевшее в нем, и теперь он не мог заманить этих тварей обратно в подземелье — теперь он ясно осознавал, как много времени он проводит, сторожа свои воспоминания, сколько сосредоточенности это требует, какой ненадежной все это время была его власть над ними.
— У тебя все нормально? — однажды спросил его Виллем. Они сходили на пьесу, из которой он ничего не запомнил, а потом пошли в ресторан, и за ужином он вполуха слушал Виллема и надеялся, что отвечает впопад, передвигая еду по тарелке и стараясь выглядеть нормальным человеком.
— Да, — ответил он.
Дела шли все хуже; он это знал и не понимал, как все исправить. С того случая прошло восемь месяцев, и с каждым днем он думал о нем больше, а не меньше. Иногда ему представлялось, что месяцы, проведенные с Калебом, — это стая гиен, и каждый день они его преследуют, и каждый день он тратит все силы, убегая от них, пытаясь не попасть в их зловещие, вспененные пасти. Все, что раньше ему помогало — сосредоточенность, бритвы, — больше не могло помочь. Он резал себя все яростнее, но воспоминания не исчезали. Каждое утро он ходил в бассейн, и каждую ночь тоже, и проплывал целые мили, и утомлял себя так, чтобы сил оставалось только забраться в душ, а потом в кровать. Плавая, он заговаривал себя: спрягал латинские глаголы, декламировал математические доказательства, цитировал вердикты, которые проходил в юридической школе. Мой разум принадлежит мне, говорил он себе. Я властен над ним; я не позволю над собой властвовать.
— У меня есть мысль, — сказал Виллем после очередного ужина, когда он снова почти все говорил невпопад. Он реагировал на все слова Виллема с опозданием на секунду-другую, и в конце концов они оба притихли. — Давай поедем в отпуск вместе. В Марокко, как мы собирались два года назад. Можно поехать, как только я вернусь. Что скажешь, Джуд? Осенью там красиво.
Этот разговор состоялся в конце июня, спустя девять месяцев после случившегося. Виллем снова уезжал в начале августа на съемки на Шри-Ланку и возвращался только в начале октября.
Пока Виллем что-то говорил, он вспоминал, как Калеб назвал его уродом, и только молчание Виллема подсказало ему, что надо отвечать.
— Конечно, Виллем, — сказал он. — Отличная идея.
Ресторан был во Флэтайроне, и, расплатившись, они некоторое время шли пешком, в молчании, как вдруг он увидел, что навстречу идет Калеб, и, в панике схватив Виллема, толкнул его в сторону ближайшего подъезда, с силой и быстротой, удивившей их обоих.
— Джуд, — обеспокоенно сказал Виллем, — ты что делаешь?
— Тсс, молчи, — прошептал он Виллему. — Просто стой так и не оборачивайся. — Виллем послушался, стоя вместе с ним лицом к двери.
Он считал секунды и, убежденный, что теперь Калеб наверняка прошел мимо, осторожно выглянул на тротуар и увидел, что это вовсе не Калеб, просто какой-то другой темноволосый высокий мужчина, но не Калеб, и он с облегчением выдохнул, ругая себя за глупость и панику. Тут он заметил, что до сих пор держит Виллема за рубашку, и разжал кулак.
— Прости, — сказал он. — Прости, Виллем.
— Джуд, что произошло? — спросил Виллем, стараясь заглянуть ему в глаза. — Что это было?
— Ничего, — ответил он. — Просто показалось, что это человек, которого я не хочу видеть.
— Какой человек?
— Никакой. Один юрист, занят тем же процессом, что и я. Мерзкий тип, не люблю с ним иметь дело.
Виллем вгляделся в него.
— Нет, — наконец сказал он. — Это не другой юрист. Это кто-то еще, кто-то, кого ты боишься.
Оба молчали. Виллем посмотрел вслед незнакомцу, потом снова перевел взгляд на него.
— Ты испуган, — сказал он с некоторым удивлением в голосе. — Кто это был, Джуд?
Он помотал головой, пытаясь придумать, что именно соврать Виллему. Он всегда врал Виллему — всерьез и по мелочи. Их отношения в целом были ложью — Виллем принимал его за человека, которым он на самом деле не был. Только Калеб знал правду. Только Калеб понял, кто он.
— Я ж тебе сказал, — наконец произнес он, — один юрист.
— Нет.
— Да.
Мимо прошли две женщины, и когда они поравнялись с ними, он услышал, как одна взволнованно прошептала другой: «Это же Виллем Рагнарссон!» Он закрыл глаза.
— Так, — тихо сказал Виллем, — что вообще происходит?
— Ничего, — сказал он. — Я устал. Мне пора домой.
— Хорошо, — сказал Виллем, подозвал такси, помог ему сесть в машину и залез сам.
— Угол Грин и Брум, — сказал Виллем водителю.
В такси у него затряслись руки. Это случалось все чаще, и он не знал, что с этим делать. Началось оно еще в детстве, но происходило только в исключительных обстоятельствах — когда он пытался не заплакать или когда было очень больно, но нельзя было издать ни малейшего звука. Но теперь эти приступы случались неожиданно и непредсказуемо; справиться можно было только при помощи порезов, но иногда руки тряслись так сильно, что трудно было удержать лезвие. Он скрестил руки на груди в надежде, что Виллем ничего не заметит.
У входной двери он попытался спровадить Виллема, но Виллем отказывался уходить.
— Мне нужно побыть одному, — сказал он Виллему.
— Я понимаю, — сказал Виллем. — Будем одни вместе.
Они стояли лицом к лицу, и наконец он повернулся к двери, но не смог вставить ключ в замок, потому что его слишком сильно трясло, и Виллем вынул у него из рук ключи и отпер дверь.
— Да что ж с тобой такое творится? — спросил Виллем, как только они оказались в квартире.
— Ничего, — ответил он, — ничего. — Но теперь он еще и стучал зубами — в детстве, когда его трясло, такого никогда не бывало, а теперь случалось почти каждый раз.
Виллем подошел вплотную, но он отвернулся.
— Что-то случилось, пока меня не было, — сказал Виллем, прощупывая почву. — Я не знаю что, но что-то случилось. Что-то не так. Ты ведешь себя странно, с тех пор как я вернулся со съемок «Одиссеи». Не знаю, в чем дело. — Виллем замолчал и положил руки ему на плечи. — Расскажи мне, Джуд, — сказал он. — Расскажи, в чем дело. Расскажи, и мы придумаем, как с этим быть.
— Нет, — прошептал он. — Я не могу, Виллем, не могу. — Наступила долгая пауза. — Я хочу лечь, — сказал он, и Виллем отступил, и он пошел в ванную.
Когда он вышел, Виллем, в его футболке, раскладывал покрывало из гостевой комнаты на диване в его спальне — на том диване, что стоял под картиной, изображающей Виллема в гримерке.
— Ты что делаешь? — спросил он.
— Остаюсь ночевать, — сказал Виллем.
Он вздохнул, но Виллем не дал ему заговорить, потому что начал первым:
— У тебя есть три варианта, Джуд. Первый: я звоню Энди, говорю ему, что с тобой что-то серьезно не в порядке, и везу тебя в клинику на осмотр. Второй: я звоню Гарольду, он начинает сходить с ума и звонить Энди. И третий: я остаюсь здесь и слежу за тобой, раз ты разговаривать со мной не хочешь, раз ты, черт тебя дери, отказываешься мне хоть что-то сказать и, кажется, не понимаешь и вообще не можешь понять, что ты должен дать своим друзьям хотя бы попытаться помочь тебе — ты мне должен хотя бы это… — Его голос дрогнул. — Ну, и что ты выбираешь?
Ох, Виллем, подумал он. Если бы ты знал, как я хочу тебе все рассказать.
— Прости, Виллем, — сказал он вместо этого.
— Ага, «прости Виллем», — сказал Виллем. — Иди ложись. Запасные зубные щетки где обычно?
— Да, — ответил он.
На следующий день он вернулся с работы поздно вечером и обнаружил, что Виллем снова лежит на диване в его комнате и читает.
— Как дела? — спросил он, не отрываясь от книги.
— Хорошо, — ответил он, ожидая, что Виллем, может быть, как-то объяснит свое присутствие, но тот не стал, и он отправился в ванную. Проходя через гардеробную, он заметил большую спортивную сумку, набитую одеждой: очевидно, Виллем был намерен здесь на некоторое время обосноваться.
Ему было стыдно в этом признаться, но присутствие Виллема — не просто в квартире, а непосредственно в его комнате — помогало. Они разговаривали мало, но жизнь все равно делалась устойчивее, прочнее. Он меньше думал о Калебе; он вообще меньше думал. Как будто необходимость доказывать свою нормальность Виллему и в самом деле укрепляла его нормальность. Простое присутствие рядом человека, который никогда, ни за что не причинит ему зла, успокаивало; он мог утихомирить свой рассудок и заснуть. Испытывая благодарность, он одновременно ненавидел себя, свою зависимость, слабость. Получается, его нужда бездонна? Сколько людей помогает ему все эти годы — и зачем? Почему он принимает их помощь? Хороший друг велел бы Виллему отправляться домой, сказал бы, что сам отлично справится. Но он этого не делал. С его попустительства Виллем растрачивал немногие оставшиеся нью-йоркские недели, ночуя на его диване, как собака.
По крайней мере, он не боялся обидеть Робин, потому что Виллем и Робин расстались ближе к концу съемок «Одиссеи», когда Робин узнала, что Виллем переспал с костюмершей.
— И ведь она мне даже не особо нравилась, — сказал ему Виллем, еще когда звонил со съемок. — Я сделал это от скуки — хуже причины не придумаешь.
— Нет, — возразил он, немного подумав, — хуже было бы, если бы ты нарочно пытался уязвить Робин. Твоя причина всего лишь самая глупая из возможных.
После паузы Виллем расхохотался.
— Ну спасибо, Джуд, — сказал он. — Спасибо, мне теперь одновременно полегчало и поплохело.
Виллем жил у него до самого отъезда в Коломбо. Он собирался играть старшего сына обедневшей голландской купеческой семьи на Цейлоне начала 1940-х и отрастил по этому поводу лихо закрученные густые усы; когда Виллем обнял его на прощание, они пощекотали ему ухо. На мгновение ему захотелось разрыдаться и уговорить Виллема не уезжать. Не уезжай, хотел он сказать. Побудь со мной. Мне страшно оставаться одному. Он знал, что, скажи он такое, Виллем останется или по крайней мере попытается остаться. Но он ни за что не сказал бы так. Он знал, что Виллем никак не сможет отложить съемки и будет чувствовать себя виноватым. Вместо этого он прижал к себе Виллема крепче, что делал редко — его привязанность к Виллему редко выражалась физически, — и почувствовал, что Виллем удивился, но и сам обнял его сильнее, и они долго стояли так, уткнувшись друг в друга. Он помнил, что в тот момент подумал: на нем слишком мало слоев одежды, чтобы можно было позволить Виллему такое объятие, Виллем почувствует через рубашку шрамы на его спине, но в тот момент важнее было просто быть рядом; у него было ощущение, что это происходит в последний раз, что он больше не увидит Виллема. Он боялся этого каждый раз, когда Виллем уезжал, но на этот раз чувство было более острым, менее абстрактным, больше похожим на настоящее прощание.
После отъезда Виллема несколько дней прошли спокойно. Но потом все опять стало плохо. Гиены вернулись, их было больше прежнего, они оголодали и набрасывались на него с удвоенной силой. А потом вернулось и все остальное: годы воспоминаний, которые казались ему побежденными и обезвреженными, вновь обступили его, замельтешили, визжа, перед глазами — неумолчные, требующие неотступного внимания. Он просыпался, хватая ртом воздух; он просыпался, окликая людей, чьи имена давным-давно поклялся забыть. Он снова и снова прокручивал в голове ночь с Калебом, неотступно, покадрово, так, что секунды, когда он стоял голый под дождем на Грин-стрит, замедлялись в часы, так, что его полет вниз по ступенькам занимал целые дни, так, что изнасилование в ванной, в лифте тянулось неделями. Ему мерещилось, что он хватает нож для колки льда и втыкает его через ухо в мозг, чтобы воспоминания прекратились. Ему мечталось, что он лупит головой о стену, и она трескается, и серая мякоть выскальзывает из черепа с влажным кровяным чавканьем. Он воображал, как обливает себя из канистры с бензином и чиркает спичкой, как огонь пожирает его разум. Он купил набор лезвий X-ACTO, зажал три штуки в кулаке и смотрел, как кровь капает в раковину, он кричал во весь голос в тишине безмолвной квартиры.
Он попросил дать ему больше работы, и Люсьен загрузил его, но этого было недостаточно. Он попытался набрать дополнительные часы в арт-фонде, но все смены там и так были заняты. Он попытался сунуться в контору, где Родс когда-то что-то делал pro bono, там занимались защитой прав иммигрантов, но ему сказали, что им больше всего нужны люди со знанием китайского и арабского и он только зря потратит время. Он резал себя все чаще; он стал делать надрезы вокруг шрамов, так, чтобы можно было удалять клинышки кожи с серебристой пленкой рубцовой ткани, но это почти не помогало. По ночам он обращался к богу, в которого не верил уже много лет: помоги мне, помоги мне, помоги мне, молил он. Он терял себя; это не могло продолжаться. Нельзя убегать вечно.
Стоял август; город был пуст. Малкольм с Софи отдыхали в Швеции, Ричард был на Капри, Родс в Мэне, Энди — на Шелтер-Айленде («Учти, — сказал он перед отъездом, как всегда делал перед отпуском, — я всего в двух часах отсюда; если будет надо, я сяду на первый же паром»). Он не мог видеть Гарольда, потому что один его вид напоминал о пережитом унижении; он позвонил, сказал, что слишком занят, чтобы ехать в Труро. Вместо этого он вдруг купил билет в Париж и провел там длинный и одинокий уикенд на День труда, просто бродя по улицам. Он не виделся ни с кем из знакомых — ни с Ситизеном, который работал на французский банк, ни с Исидором, соседом сверху на Херефорд-стрит, который там преподавал, ни с Федрой, которая руководила филиалом нью-йоркской галереи, — да их все равно и не было в городе.
Он устал, он так устал. Удерживать зверей на расстоянии становилось все тяжелее. Иногда он представлял, что сдается на их милость и они набрасываются на него и рвут когтями, клювами, зубами, грызут, колют, клюют, пока он не превращается в ничто, и он не сопротивляется.
Вернувшись из Парижа, он увидел сон; в этом сне он бежал по растрескавшейся красной равнине. Его преследовала темная туча, и хотя бежал он быстро, туча надвигалась быстрее. Когда она подступила вплотную, он услышал жужжание и понял, что это рой насекомых, жутких, маслянистых и шумных, с клешнеобразными наростами под глазами. Он знал, что если он остановится, то умрет, но даже во сне понимал, что скоро не сможет бежать; потом он больше не мог бежать и заковылял, подчиняясь реальности даже во сне. А потом он услышал голос, незнакомый, но спокойный и властный, который обращался к нему. Остановись, сказал голос. Ты можешь это прекратить. Ты можешь остановиться. Слова принесли ему огромное облегчение, и он резко остановился и повернулся лицом к туче, которая отстала на считанные секунды, на считанные шаги, измотанный, в ожидании конца.
Он проснулся в испуге, потому что понял, что значат слова, которые его одновременно ужаснули и утешили. Теперь он день за днем неизменно слышал у себя в голове голос, который напоминал, что вообще-то он может остановиться. Что вообще-то он не обязан двигаться дальше.
Конечно, он и раньше задумывался о самоубийстве — в приюте, и в Филадельфии, и когда умерла Ана. Но что-то его всегда останавливало, хотя теперь он не помнил что. Теперь, убегая от гиен, он спорил с собой: зачем он убегает? Он так устал, он так хотел остановиться. Знать, что он не обязан бежать дальше, было утешительно; у него есть выход, помнил он, и даже если подсознание отказывается подчиниться сознанию, это не значит, что он не владеет ситуацией.
Он начал думать, что случится, если он уйдет, почти в порядке эксперимента: предыдущий год принес ему больше денег, чем все прежние, и в январе он обновил завещание, так что тут все было в порядке. Надо будет написать письмо Виллему, письмо Гарольду, письмо Джулии; что-то нужно будет черкнуть Люсьену, Ричарду, Малкольму. Энди. Написать Джей-Би и простить его. Потом можно уйти. Каждый день он думал об этом, и от таких мыслей все становилось проще. Эти мысли придавали ему сил.
А потом в какой-то момент это перестало быть экспериментом. Он не мог вспомнить, как принял решение, но он перестал мучиться, ему стало легче и свободнее. Гиены все еще бежали за ним, но теперь он видел где-то очень далеко впереди дом с распахнутой дверью и знал, что, как только доберется до этого дома, он окажется в безопасности и преследование прекратится. Им это, конечно, не нравилось — они тоже видели дверь, они знали, что он намеревается ускользнуть, — и с каждым днем погоня становилась все отчаяннее, мчавшаяся за ним армия — все сильнее, громче, настойчивее. Его мозг выблевывал воспоминания, в которых все тонуло, — он вспоминал людей, ощущения, случаи, о которых не думал много лет. Привкус чего-то вдруг алхимически возникал на языке, нос ощущал запахи, которые десятилетиями никак себя не проявляли. Это был системный сбой; он тонул в воспоминаниях; нужно было что-то сделать. Он пытался — он пытался всю жизнь. Он пытался стать лучше, пытался стать чище. Но не вышло. Приняв решение, он эйфорически радовался собственному оптимизму: он сможет избавить себя от долгих лет скорби, просто покончив с этим, — он будет сам себе спаситель. Никакой закон не принуждал его жить, он по-прежнему мог сделать со своей жизнью что угодно. Как он этого не понимал столько лет? Решение казалось теперь таким очевидным — непонятно было только, почему он так долго с этим тянул.
Он поговорил с Гарольдом, и по облегчению в его голосе понял: слышно, что он пришел в норму. Он поговорил с Виллемом. «У тебя голос повеселее», — сказал Виллем, и в его голосе он тоже услышал облегчение.
«Так и есть», — ответил он. Он почувствовал ноющее сожаление после этих двух разговоров, но его решимость не поколебалась. Так или иначе, им он ни к чему; он лишь скопище нелепых проблем, и больше ничего. Если он сам себя не остановит, он задавит их своими потребностями. Он будет бесконечно паразитировать на них, пока не сжует их плоть полностью; они справлялись с любыми сложностями, которые он создавал, и все равно он находил новые способы их уничтожать. Какое-то время они будут его оплакивать, потому что они хорошие люди, лучше не бывает, и ему хотелось попросить прощения за это — но в конце концов они увидят, что без него их жизнь стала лучше. Они увидят, сколько времени он у них крал; увидят, какой он был вор, как он высасывал всю их энергию, все внимание, как он их обескровливал. Он надеялся, что они простят его; он надеялся, что они поймут, что он таким способом просит у них прощения. Он отпускал их — он любил их больше всего на свете, и именно так поступают с любимыми людьми: им дарят свободу.
День пришел, понедельник в конце сентября. Накануне вечером он осознал, что прошел почти ровно год после избиения, хотя он ничего специально не подгадывал. В тот вечер он ушел с работы рано. Он провел уикенд, приводя в порядок свои проекты; написал Люсьену служебную записку, подробно описывая состояние всех своих рабочих дел. Дома он разложил на обеденном столе письма и экземпляр завещания. Он сообщил менеджеру мастерской Ричарда, что туалет в большой ванной комнате подтекает, и попросил, чтобы Ричард на следующий день в девять впустил в квартиру водопроводчика — и у Ричарда, и у Виллема были ключи от его квартиры, — потому что он сам будет в командировке.
Он снял пиджак, ботинки, часы, развязал галстук и пошел в ванную. Он сел в душевой кабине с закатанными рукавами. У него был с собой стакан виски, из которого он отхлебывал для уверенности, и канцелярский нож — он понимал, что нож будет легче удержать, чем лезвие. Он знал, что надо сделать: три прямых продольных надреза, глубоких и длинных насколько возможно, по венам на обеих руках. А потом он ляжет и будет ждать.
Он немного подождал и немного поплакал, потому что он устал, ему было страшно и потому что он был готов отправиться в путь, готов уйти. Наконец он потер глаза и начал. Сначала левая рука. Он сделал первый надрез, получилось больнее, чем он ожидал, он вскрикнул. Потом второй. Он снова отхлебнул виски. Кровь была густой, не жидкой, а скорее студенистой, переливчатой, яркой и маслянисто-черной. Штаны уже промокли от крови, хватка уже ослабевала. Он сделал третий надрез.
Когда с обеими руками было покончено, он прислонился к стене душевой кабины. Глупо, но ему не хватало подушки. Ему было тепло от виски и от собственной крови, которая плескалась вокруг, собираясь в лужу вокруг ног — нутро встречалось с оболочкой, внутреннее омывало внешнее. Он закрыл глаза. За спиной выли взбешенные гиены. Впереди маячил дом с распахнутой дверью. Он еще не добежал, но приблизился; приблизился достаточно, чтобы видеть, что внутри стоит кровать, на которой можно будет отдохнуть, где можно будет лечь и поспать после долгого бега, где он впервые в жизни окажется в безопасности.
Когда они въехали в Небраску, брат Лука остановил машину на краю пшеничного поля и поманил его наружу. Было еще темно, но он слышал, как оживляются птицы, отвечая пока что невидимому солнцу. Он взял брата за руку, и они подкрались к большому дереву, где Лука объяснил, что вся братия будет их искать, так что нужно замаскироваться. Он снял ненавистную рубаху и надел вещи, которые протянул ему брат Лука, — фуфайку с капюшоном и джинсы. Но перед этим он некоторое время стоял неподвижно, пока Лука обстригал его электробритвой. Братья редко его стригли, волосы отросли почти до плеч, и брат Лука печально хмыкал, орудуя бритвой.
— Такие красивые волосы, — сказал он, аккуратно заворачивая их в свою рубаху и запихивая ее в мешок для мусора. — Теперь ты выглядишь как обычный мальчик, Джуд. Но позже, когда мы будем в безопасности, ты их снова отрастишь, хорошо?
И он кивнул, хотя на самом деле он был доволен, что выглядит как обычный мальчик. А потом брат Лука сам переоделся, и он отвернулся, чтобы его не смущать.
— Да не отворачивайся, Джуд, — со смехом сказал Лука, но он помотал головой.
Когда он повернулся обратно, брат был неузнаваем в клетчатой рубашке и джинсах. Лука улыбнулся ему и стал сбривать бороду — серебристая щетина падала металлической стружкой. Для них обоих были заготовлены бейсболки, причем у брата Луки к бейсболке был прилеплен желтоватый парик, который закрывал его лысеющую голову. Еще были очки — для него в черной круглой оправе с простыми стеклами, для брата Луки — в большой квадратной коричневой оправе, с такими же толстыми стеклами, как его прежние очки (их он убрал в сумку). Он сможет снять очки, когда они будут в безопасности, сказал ему брат Лука.
Они отправлялись в Техас, где собирались построить свою хижину. Он всегда думал, что Техас плоский, что там только пыль, небо и дороги, и брат Лука подтвердил, что это, в общем, так и есть, но некоторые части штата — например, Восточный Техас, откуда он родом, — покрыты хвойными лесами.
Дорога до Техаса заняла девятнадцать часов. Они могли добраться быстрее, но в какой-то момент брат Лука съехал с шоссе и сказал, что должен поспать, и они на несколько часов заснули. Брат Лука взял с собой немного еды — сэндвичи с арахисовым маслом, — и в Оклахоме они снова остановились на заправке и съели их.
Его воображаемый Техас после нескольких скупых слов брата Луки преобразился из пейзажа пастбищ и перекати-поля в пейзаж с соснами, такими высокими и душистыми, что все звуки, вся жизнь отступала на задний план, поэтому, когда брат Лука объявил, что они пересекли границу Техаса, он поглядел в окно с разочарованным видом.
— И где же леса? — спросил он.
Брат Лука рассмеялся:
— Терпение, Джуд.
Им надо несколько дней переждать в мотеле, объяснил брат Лука, — во-первых, чтобы убедиться, что остальные братья не пустились в погоню, а во-вторых, чтобы начать поиски идеального места для их хижины. Мотель назывался «Золотая рука», и в комнате было две кровати — настоящих кровати; брат Лука позволил ему выбрать ту, которая ему больше нравится. Он выбрал кровать ближе к ванной, а брат Лука — у окна, откуда была видна их машина.
— Сходи прими душ, а я съезжу в магазин за продуктами, — сказал брат, и он сразу испугался.
— Ты вернешься? — спросил он, с отвращением слыша испуг в собственном голосе.
— Конечно я вернусь, Джуд, — сказал брат, обняв его. — Конечно вернусь.
Когда Лука вернулся, он принес нарезанный хлеб, банку арахисового масла, связку бананов, литр молока, пакетик миндаля, лук, перец, куриные грудки. Вечером брат поставил на парковке прихваченную с собой небольшую жаровню, и они поджарили лук, перец и курятину, и брат Лука дал ему стакан молока.
Брат Лука разработал их распорядок дня. Они просыпались рано, до рассвета, брат Лука заваривал во взятой из монастыря кофеварке кофе, и они ехали в ближайший город, на стадион местной школы, где Лука пускал его побегать и целый час сидел на трибунах со своим термосом, наблюдая за ним. Потом они возвращались в мотель и садились за уроки. До монастыря брат Лука преподавал математику в колледже, но он хотел работать с детьми и позже поступил работать в школу и учил шестиклассников. Другие предметы ему тоже были хорошо знакомы: история, литература, музыка, иностранные языки. Лука знал гораздо больше, чем остальные братья, так что он удивлялся, почему тот его никогда ничему не учил за годы жизни в монастыре. Потом они обедали — снова сэндвичами с арахисовым маслом — и продолжали заниматься до трех часов, когда ему разрешалось выйти и побегать по парковке или пройтись с братом вдоль шоссе. Мотель выходил окнами на федеральную трассу, и они вечно слышали гул проезжающих автомобилей. «Как будто живем у моря», — всегда говорил брат Лука.
После этого брат Лука заваривал третий термос кофе и уезжал искать место для строительства хижины, а он оставался в номере мотеля. Брат всегда запирал номер снаружи из соображений безопасности. «Никому не открывай, слышишь? — говорил он. — Никому. У меня есть ключ, я сам открою. И занавески не раздвигай: я не хочу, чтобы кто-нибудь видел, что ты тут один. Мир полон опасных людей, я не хочу, чтобы тебя кто-нибудь обидел». По этой же причине ему нельзя было пользоваться компьютером брата Луки, который тот всегда забирал с собой. «Ты не знаешь, на кого можно натолкнуться, — говорил брат Лука. — Я хочу, чтобы ты был в безопасности, Джуд. Обещай мне». Он обещал.
Он лежал на кровати и читал. Телевидение было под запретом: вернувшись в номер, Лука щупал телевизор, проверяя, не теплый ли он, а он не хотел его расстраивать, не хотел, чтобы на него сердились. Брат Лука взял с собой синтезатор, и он занимался музыкой; брат никогда на него не злился, но к занятиям относился серьезно. Когда небо начинало темнеть, он усаживался на кровать брата Луки и сквозь щель в шторах напряженно высматривал его машину; в глубине души он всегда опасался, что когда-нибудь брат Лука за ним не вернется, что он ему надоел, что он останется один. Он почти ничего не знал о мире, а мир был страшен. Он напоминал себе, что он может что-то делать, что он многое умеет, что, может быть, его возьмут уборщиком в мотель, но продолжал волноваться, пока не появлялся бордовый универсал, и он с облегчением обещал себе, что назавтра будет вести себя лучше и никогда не даст брату Луке причины не возвращаться к нему.
Однажды вечером брат вернулся в номер, и вид у него был усталый. Несколько дней назад он приехал в радостном возбуждении и сказал, что нашел идеальный участок. Он описал его: окруженная кедрами и соснами поляна, рядом небольшой ручей, полный рыбы, а воздух такой прохладный и тихий, что слышно, как падают шишки на мягкую землю. Он даже показал ему фотографию из сплошных темно-зеленых теней и объяснил, где они поставят хижину, и как он поможет ее строить, и где разместят спальню-чердак, тайную крепость, специально для него.
— Что случилось, брат Лука? — спросил он, когда молчание брата затянулось так надолго, что он больше не мог этого выдержать.
— Эх, Джуд, — сказал брат. — Не вышло у меня. — Он рассказал, как снова и снова пытался купить участок, но не хватило денег. — Прости, Джуд, прости, — сказал он, а потом, к его изумлению, расплакался.
Он раньше никогда не видел, как плачет взрослый.
— Но ведь ты можешь снова пойти работать в школу, брат Лука, — сказал он, пытаясь его утешить. — Ты хороший. Будь я школьником, я бы хотел, чтобы ты меня учил.
Брат слабо улыбнулся, погладил его по голове и сказал, что это так не работает, что нужно получать лицензию штата, а это долгое и сложное дело.
Он надолго задумался. А потом сообразил.
— Брат Лука, — сказал он, — я могу помочь, я могу пойти работать. Я могу помочь заработать.
— Нет, Джуд, — сказал брат. — Я тебе не разрешаю.
— Но я хочу помочь.
Он вспомнил слова брата Михаила о том, как дорого монастырю обходится его содержание, и одновременно устыдился и испугался. Брат Лука так много сделал для него, а он ничем не отплатил за это. Он не просто хочет помочь с деньгами — он обязан это сделать.
В конце концов ему удалось убедить брата, и тот его обнял.
— Ты один такой на свете, знаешь? — сказал Лука. — Ты — особенный.
И он улыбнулся, уткнувшись в свитер брата.
На следующий день они позанимались как всегда, а потом брат опять уехал, на этот раз — чтобы найти ему хорошую работу, чтобы он помог заработать денег на участок земли и строительство хижины. Вернулся Лука с улыбкой, в радостном возбуждении, и, увидев его, он тоже обрадовался.
— Джуд, — сказал брат, — я встретил человека, который хочет дать тебе кое-какую работу; он ждет прямо за дверью, начинать можно прямо сейчас.
Он улыбнулся брату.
— Что я буду делать? — спросил он.
В монастыре его научили подметать, убирать пыль, мыть полы. Он умел так здорово навощить паркет, что даже брат Матфей удовлетворенно хмыкал. Он умел чистить столовое серебро, и медь, и дерево. Он умел отчищать затирку между кафельными плитками и драить туалет. Он умел убирать опавшую листву из водостоков, чистить и перезаряжать мышеловки. Он умел мыть окна и стирать. Он умел гладить, пришивать пуговицы, он умел делать такие ровные стежки, что казалось, будто ткань прострочили на швейной машинке.
Он умел готовить. От начала до конца он мог приготовить всего с десяток блюд, но он умел мыть и чистить картошку, морковь, брюкву. Он умел нарезать гору лука и не заплакать. Он умел извлечь кости из рыбы, ощипать курицу. Он умел приготовить тесто и испечь хлеб. Он умел взбивать яичные белки так, чтобы они превращались из жидкости во что-то плотное, а потом — не просто в плотное — во что-то вроде воздуха, который обретает форму.
А еще он умел садовничать. Он знал, какие растения любят солнце, а какие — тень. Он знал, когда растение задыхается от жажды, а когда от избытка влаги. Он знал, когда деревце или куст пора перевалить в другой горшок, а когда им уже по силам прижиться в почве. Он знал, какие растения надо защищать от холодов и как это сделать. Он знал, как обрезать дерево и как вырастить из срезанной ветки новое. Он умел смешивать удобрения, добавлять яичную скорлупу в почву, чтобы повысить содержание белка, давить тлей, не повреждая листочков, на которых они устроились. Он многое умел, но надеялся, что его пошлют именно в сад, потому что хотел работать на воздухе, потому что во время утренних пробежек он чувствовал, что лето близко, а когда они ездили на стадион, он видел, что все луга покрыты ковром полевых цветов, и хотел быть к ним поближе.
Брат Лука опустился рядом с ним на колени.
— Ты будешь делать то, что ты делал с отцом Гавриилом и еще несколькими братьями, — сказал Лука, и, медленно осознавая смысл его слов, он отступил на шаг к кровати, все его внутренности сжались от страха.
— Джуд, теперь все будет по-другому, — сказал Лука, прежде чем он успел открыть рот. — Все кончится очень быстро, честное слово. У тебя ведь так хорошо получается. А я буду ждать в ванной, чтобы убедиться, что все хорошо, ладно? — Он взъерошил ему волосы. — Подойди ко мне, — сказал Лука и обнял его. — Ты такой замечательный мальчик. Это ты, своим трудом, добудешь нам нашу хижину, понимаешь?
Брат Лука все говорил и говорил, и в конце концов он кивнул.
Мужчина вошел (много лет спустя из их лиц он помнил очень немногие, и среди прочих — лицо этого человека, и иногда он встречал на улице кого-то смутно знакомого и думал: откуда я его знаю? Мы вместе выступали в суде? Он, что ли, был адвокатом ответчика по тому прошлогоднему делу? А потом вспоминал: этот человек был похож на первого из них, на первого клиента), и Лука ушел в ванную, расположенную прямо за кроватью, и они занялись сексом, а потом мужчина ушел.
Той ночью он совсем затих, и Лука был с ним мягок и нежен и даже принес ему имбирное печенье, а он попытался улыбнуться Луке и съесть печенье, но не смог, завернул его в бумажку и выбросил, пока Лука не видел. На следующее утро он не хотел отправляться на стадион, но Лука сказал, что от физической нагрузки ему полегчает, так что они поехали, и он пытался бегать, но было слишком больно, так что в конце концов он просто сел и дожидался, пока Лука скажет, что можно вернуться.
Их распорядок дня изменился: утром и днем они по-прежнему занимались уроками, но теперь были вечера, когда брат Лука приводил мужчин, его клиентов. Иногда клиент был один, иногда их было несколько. Мужчины приносили собственные полотенца и простыни, предварительно расстилали их на кровати, а потом сворачивали и уносили с собой.
Он очень старался не плакать по ночам, но если не получалось, брат Лука садился рядом, гладил его по спине и успокаивал.
— Сколько их еще нужно, чтобы у нас была хижина? — спрашивал он, но Лука только печально мотал головой.
— Пока не могу сказать, — говорил он. — Но ты так здорово справляешься, Джуд. У тебя так здорово получается. Тут нечего стыдиться.
Но он знал, что в этом было что-то стыдное. Никто и никогда ему этого не говорил, но он все-таки знал. Он знал, что все это нехорошо, неправильно.
А потом, спустя несколько месяцев и множество мотелей — они переезжали каждые десять дней или около того, кружа по всему Восточному Техасу, и после каждого переезда Лука вел его в лес, действительно очень красивый, на вырубку, где у них будет хижина, — все снова изменилось. Однажды ночью он лежал в кровати (эта ночь пришлась на неделю, когда клиентов не было. «Небольшие каникулы, — с улыбкой сказал Лука. — Всем нужен отдых, особенно если работать так усердно, как ты»), и Лука спросил:
— Джуд, ты любишь меня?
Он не знал, что сказать. Четыре месяца назад он ответил бы «да» — с гордостью и без раздумий. Но теперь — а любит ли он брата Луку? Он часто размышлял об этом. Он хотел его любить. Брат ни разу не обидел его, не ударил, не сказал ни одной гадости. Он заботился о нем. Он всегда ждал тут же, за стеной, и следил, чтобы ничего плохого не случилось. На прошлой неделе клиент попытался заставить его сделать нечто, что, по словам брата Луки, он ни за что не должен делать, если не хочет, и он вырывался и пытался закричать, но лицо его было накрыто подушкой, которая приглушала все звуки. Он был в отчаянии, почти рыдал, но тут вдруг подушка перестала давить ему на лицо, а вес клиента перестал давить на него, и он услышал, как брат Лука говорит мужчине, чтобы тот немедленно убирался, — таким тоном, какого он от брата никогда не слышал, а теперь вот услышал с испугом и восхищением.
Но что-то подсказывало ему, что он не должен любить брата Луку, что брат делает с ним что-то нехорошее. Только ведь это неправда. В конце концов, он сам вызвался; он делает все это ради хижины в лесу, где у него будет собственный чердак. Поэтому он сказал брату «да».
Увидев улыбку на лице брата, он испытал мгновенный прилив счастья, как будто тот уже подарил ему заветную хижину.
— Ох, Джуд, — сказал Лука, — я не могу вообразить подарка лучше. Знаешь, как я люблю тебя? Больше, чем себя. Ты для меня как мой собственный сын.
И он тогда улыбнулся в ответ, потому что иногда он про себя действительно думал о Луке как об отце, а о себе — как о его сыне.
«Твой папаша сказал, что тебе девять, но выглядишь ты постарше», — с подозрением сказал один из клиентов, прежде чем они приступили к делу, и он ответил так, как научил его Лука: «Я высокий для своих лет», — одновременно довольный и отчего-то недовольный, что клиент принял Луку за его отца.
Тогда брат Лука объяснил ему, что, когда люди любят друг друга так сильно, они спят в одной постели, раздевшись. Он не знал, что на это ответить, и не успел еще ничего придумать, а брат Лука уже ложился к нему в кровать и раздевал его, а потом целовал. Он раньше никогда не целовался — брат Лука не позволял клиентам этого делать, — и ему не понравилось, не понравилось ощущение мокрой настойчивости.