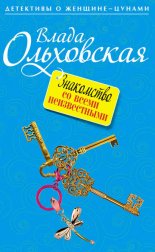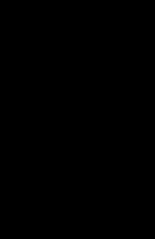Циники. Бритый человек (сборник) Мариенгоф Анатолий
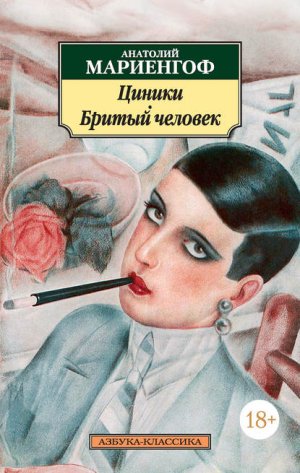
– И был это он огромнейший любитель петушиных боев. Жизни по ним учился. Птицу имел родовую. Одно загляденье. Все больше пера светло-солового или красно-мурогого. Зоб – как воронье крыло. Ноги либо горелые, либо зеленые, либо желтые. Коготь черный, глаз красный… Подлить, Владимир Васильевич?
– Подлейте.
– В бою всего более переярка ценил. Это, значится, петуха, который вторым пером оделся.
Докучаев встал и прошелся по комнате.
– Птицу, как и нашего брата, в строгости держать надо. Чуть жиру понадвесила, сейчас на катушки из черного хлеба и сухой овес. Без правильной отдержки тело непременно станет как ситный мякиш. А про гребень там или про «мундир» – и разговоров нету. Какой уже пурпур! какой блестк!.. Приумножим, Владимир Васильевич!
– Приумножим.
– В бою, доложу я вам, каждая птица имеет свой ход. Один боец – «на прямом». Как жеребец выступает. Красота глядеть. Рыцарь, а не петух. Только все это ни к чему. Графское баловство.
Илья Петрович улыбается.
– Есть еще «кружастые». Ну, это будет маленько посмышленее. Рыцаря завсегда, значится, отчитает. Да. Потом, Владимир Васильевич, идет «посылистый». Хитрый петух. Спозади, каналья, бьет. Нипочем «кружастому» его не вытерпеть.
Докучаев налил еще рюмку. Выпил. Закусил белым грибом. И с таинственной значимостью нагнулся к моему уху:
– А всем петухам петух и победитель, Владимир Васильевич, это тот, что на «вороватом ходу». Сражение дает для глазу незавидное. Либо, стерва, висит на бойце, либо под него лезет. Ни гонору тебе, ни отваги, ни великолепия. Только мучает и нерв треплет. Удивительная стратегия. Башка! Башка, доложу я вам. Сократ, а не птица… Наше здоровье, Владимир Васильевич!.. Дед меня, бывало, пальцем все в лоб тычет: «Учись, Ильюшка, премудрости жизни. Не ходи, болван, жеребцом. Не плавай лебедем. Кто, спрашиваю тебя, мудр? Гад ползучий мудр. Искуситель мудр. Змий. Слышишь – змий! Это, брат, ничего, что брюхо-то в дерьме, зато, брат, ум не во тьме. Понял? Не во тьме!»
И Докучаев вдруг забрызгался, залился, захлебнулся смехом.
– Чему смеетесь?
– Строителям коммунизму.
Он потер колено о колено, помял в ладонях, будто кусок розовой замазки, свою толстую нижнюю губу и козырнул бровью.
– Только что-с довершил я, Владимир Васильевич, маленькую коммерческую комбинацию. Разрешите в двух словах?
– Да.
– Спичечному, видите ли, Полесскому тресту понадобился парафин. На внешнеторговской таможне имелся солидный пудик. Цена такая-то. Делец, Владимир Васильевич, «на прямом ходу» как поступит? Известно как: купил на государственной таможне, надбавил процент и продал государственному спичечному тресту.
– Полагаю.
– Ну, «кружастый» или «посылистый», скажем, купил, подержал, продал. Процентик, правда, возрос, но капитал не ворочался. Тучной свиньей лежал. Обидно для капитала.
– А на «вороватом ходу»?
У Ильи Петровича загораются зрачки, как две черные свечки:
– Две недели тому назад гражданин Докучаев покупает на таможне парафин и продает Петрогубхимсекции. Играет на понижение. Покупает у Петрогубсекции и продает Ривошу. Покупает у Ривоша и перепродает Северо-Югу. Покупает у Северо-Юга, сбывает Техноснабу и находит желателя в Главхиме. Покупает в Главхиме и предлагает… Спичтресту. Причем, изволите видеть, при всяком переверте процент наш, позволю себе сказать, был в побратанье…
– …с совестью и законом?
– Именно… Прикажете, Владимир Васильевич?
– Пожалуй!
Докучаев открывает бутылку шампанского:
– Сегодня Спичтрест забирает парафин с таможни.
– Так, следовательно, и пролежал он там все эти две недели?
– Не ворохнулся. Чокнемся, Владимир Васильевич!
Вино фыркает в стаканах, как нетерпеливая лошадь.
Илья Петрович ударяет ладонь об ладонь. Раздается сухой треск, словно ударили поленом о полено.
Ему хочется похвастать:
– Пусть кто скажет, что Докучаев не по добро-совести учит большевиков торговать.
Я говорю с улыбкой:
– Фиораванти, сдвинувший с места колокольню в Болонии, а в Ченто выпрямивший башню, научил москвитян обжигать кирпичи.
Он повторяет:
– Фиораванти, Фиораванти.
Сергей подбрасывает в камин мелкие дрова. Ольга читает вслух театральный журнальчик:
– «Форрегер задался целью развлечь лошадь. А развеселить лошадь нелегко… Еще труднее лошадь растрогать, взволновать. Этим делом заняты другие искатели. Другие режиссеры и поэты… Лошадиное направление еще только развивается, еще только определяется…»
Сергей задает вопрос, тормоша угли в камине железными щипцами:
– А как вы считаете, Ольга, Докучаев – лошадь или нет?
– Лошадь.
Я встреваю:
– Если Докучаев и животное, то, во всяком случае…
Сергей перебивает:
– Слыхал. Гениальное животное?
– Да.
– А по-вашему, Ольга?
– Сильное животное.
– Неужели такое уж сильное?
Тогда, не выдержав, я подробно рассказываю историю с парафином.
Сергей продолжает ковыряться в розовых и золотых углях:
– Ты говоришь… сначала Петрогубхимсекции… потом Ривошу… потом Северо-Югу… Техноснабу… Главхиму и, наконец, Спичтресту… Замечательно.
Ольга хохочет.
– Замечательно!
Сергей вынимает из камина уголек и, улыбаясь подергивающимся добрым ртом, закуривает.
От папиросы вьется дымок, такой же нежный и синий, как его глаза.
«Людоедство и трупоедство принимает массовые размеры» («Правда»).
Вчера в два часа ночи у себя на квартире арестован Докучаев.
Сергей шаркает своими смешными поповскими ботами в прихожей. Он будет шаркать ими еще часа два. Потом, как большая лохматая собака, долго отряхаться от снега. Потом сморкаться. Потом…
Я взволнованно кричу:
– Ты слыхал? Арестован Илья Петрович!
Он протягивает Ольге руку. Опять похож на добродушного ленивого пса, которого научили подавать лапу.
– Слыхал.
– Может быть, тебе известно за что?
– Известно.
Ольга сосредоточенно роется в шоколадных конфектах. Внушительная квадратная трехфунтовая коробка. Позавчера ее принес Докучаев.
Вздыхает:
– Больше всего на свете люблю пьяную вишню.
И, как девчонка, прыгает коленями по дивану:
– Нашла! нашла! целых две!
– Поделитесь.
– Никогда.
Сергей сокрушенно разводит руками, а Ольга сладострастно запихивает в рот обе штуки.
– Расскажи про Докучаева.
– Что же рассказывать?
Он оборачивает на меня свои синие нежные глаза:
– Арестован за историю с парафином. Мы проверили твои сведения…
Кричу:
– Кто это «мы»? Какие это такие «мои сведения»?
– Ну и чудак. Сам же рассказал обстоятельнейшим образом всю эпопею, а теперь собирается умереть от разрыва сердца.
Ольга с улыбкой протягивает мне на серебряном трезубчике докучаевскую конфекту:
– Владимир, я нашла вашу любимую. С толчеными фисташками. Разевайте рот.
1924
Заводом «Пневматик» выпущена первая партия бурильных молотков.
Госавиазавод «Икар» устроил торжество по случаю первого выпуска мощных моторов.
Завод «Большевик» доставил на испытательную станцию Тимирязевской сельскохозяйственной академии первый изготовленный заводом трактор.
– Ольга, не побродить ли нам по городу? Весна. Воробьи, говорят, чирикают.
– Не хочется.
– Нынче премьера у Мейерхольда. Что вы на это скажете?
– Скучно.
– Я позвоню Сергею, чтобы пришел.
– Не надо. С тех пор как его вычистили из партии, он брюзжит, ворчит, плохо рассказывает прошлогодние сплетни и анекдоты с длинными седыми бородами.
– От великого до смешного…
И по глупой привычке лезу в историю:
– Князь Андрей Курбский после бегства из Восточной Руси жил в Ковеле «в дрязгах семейных и бурных несогласиях с родственниками жены». Послушайте, Ольга…
– Что?
– Я одним духом слетаю к Елисееву, принесу вина, апельсинов…
– Отвяжитесь от меня, Владимир!
Она закладывает руки под голову и вытягивается на диване. Каждый вечер одно и то же. С раскрытыми глазами будет лежать до двух, до трех, до четырех ночи. Молчать и курить.
– Фу ты, чуть не запамятовал. Ведь я получил сегодня письмо от Докучаева. Удивительно, вынесли человека на погреб, на полярные льды…
– …а он все не остывает.
– Совершенно верно. Хотите прочесть?
– Нет. Я не люблю писем с грамматическими ошибками.
Бульвары забрызганы зеленью. Ночь легкая и неторопливая. Она вздыхает, как девушка, которую целуют в губы.
Я сижу на скамейке с стародавним приятелем:
– Слушай, Пашка, это свинство, что ты ко мне не заходишь. Сколько лет в Москве, а был считаных два раза.
У «Пашки» добрые колени и широкие, как соборные ступени, плечи. Он профессор московского вуза. Но в Англии его знают больше, чем в России. А в Токио лучше, чем в Лондоне. Его книги переводятся на двенадцать языков.
– И не приду, дружище. Вот тебе мое слово, не приду. Отличная ты личность, а не приду.
– Это почему?
Он ерзает бровями и подергивает короткими смышлеными руками – будто пиджак или нижняя рубаха режет ему под мышкой.
– Почему же это ты не придешь?
– Позволь, дружище, сказать начистоту: гнусь у тебя и холодина. Рапортую я зиму насквозь в полуштиблетишках и не зябну, а у тебя дохлые полчаса просидел и пятки обморозил.
– Образно понимать прикажешь?
Он задумчиво, как младенец, ковыряет в носу, вытаскивает «козу», похожую на червячка, с сердитым видом прячет ее в платок и бормочет:
– Ты остришь… супруга твоя острит… вещи как будто оба смешные говорите… все своими словами называете… нутро наружу… и прочая всякая размерзятина наружу… того гляди, голые задницы покажете – а холодина! И грусть, милый. Такая грусть! Вам, может, сие и непризаметно, а вот человека бишь со свежинки по носу бьет.
Зеленые брызги висят на ветках. Веснушчатый лупоглазый месяц что-то высматривает из-за купола храма Христа. Ночь вздыхает, как девушка, которую целуют в губы.
Пашка смотрит в небо, а я – с завистью на его короткие, толстые – подковками – ноги. Крепко они стоят на земле! И весь он чем-то напоминает тяжелодонную чашку вагона-ресторана. Не красива, да спасибо. Поезд мчит свои сто верст в час, дрожит, шатается, как пьяный, приседает от страха на железных икрах, а ей хоть бы что – налита до краев и капли не выплеснет.
Заходил Сергей. Ольга просила сказать, что ее нет дома.
– Ольга, давайте придумывать для вас занятие.
– Придумывайте.
– Идите на сцену.
– Не пойду.
– Почему?
– Я слишком честолюбива.
– Тем более.
– Ах, золото мое, если я даже разведусь с вами и выйду замуж за расторопного режиссера, Комиссаржевской из меня не получится, а Коонен я быть не хочу.
– Снимайтесь в кино.
– Я предпочитаю хорошо сниматься в фотографии у Напельбаума, чем плохо у Пудовкина.
– Родите ребенка.
– Благодарю вас. У меня уже был однажды щенок от премированного фокстерьера. Они забавны только до четырех месяцев. Но, к сожалению, гадят.
– Развратничайте.
– В объятиях мужчины я получаю меньше удовольствия, чем от хорошей шоколадной конфекты.
– Возьмите богатого любовника.
– С какой стати?
– Когда город Фивы был разрушен македонянами, гетера Фрина предложила согражданам выстроить его наново за свой счет.
– И что же?
– К сожалению, предложение было отвергнуто.
– Вот видите!
– Гетера поставила условием, чтобы на воротах города красовалась надпись: «Разрушен Александром, построен Фриной».
Ольга вынула папиросу из портсигара, запятнанного кровавыми капельками мелких рубинов:
– Увы! если бы мне даже удалось стать любовницей самого богатого в республике нэпмана, я бы в нужный момент не придумала столь гениальной фразы.
И добавила:
– А я тщеславна.
Был Сергей. Сидели, курили, молчали. Ольга так и не вышла из своей комнаты.
По предварительным данным Главметалла выяснилось, что выплавка чугуна увеличилась против предыдущего года в три раза, мартеновское производство – в два раза, прокатка черного металла – на 64 %.
В Николаеве приступлено к постройке хлебного элеватора, который будет нагружать океанский пароход в два с половиной часа.
На заводе «Электросила» приступлено к работе по изготовлению генераторов мощности в десять тысяч лошадиных сил.
Как-то я сказал Ольге, что каждый из нас придумывает свою жизнь, свою женщину, свою любовь и даже самого себя.
– …чем беднее фантазия, тем лучше.
Она кинула за окно папиросу, докуренную до ваты:
– Почему вы не подсказали мне эту дельную мысль несколькими годами раньше?
– А что?
– Я бы непременно придумала себя домашней хозяйкой.
Мне шестнадцать лет. Мы живем на даче под Нижним на высоком окском берегу. В безлунные летние ночи с крутогора широкая река кажется серой веревочкой. На версты сосновый лес. Дерево прямое и длинное, как в первый раз отточенный карандаш. В августе сосны скрипят и плачут.
Дача у нас большая, двухэтажная, с башней. Обвязана террасами, верандами, балкончиками. Крыша – веселыми шашками: зелеными, желтыми, красными и голубыми. Окна в резных деревянных мережках, прошивках и ажурной строчке. Аллеи, площадки, башня, комнаты, веранды и террасы заселены несмолкаемым галдежом.
А по соседству с нами всякое лето в жухлой даче без балкончиков живет пожилая женщина с двумя некрасивыми девочками. У девочек длинные худые шейки, просвечивающие на солнце, как промасленная белая бумага.
Пожилая женщина в круглых очках и некрасивые девочки живут нашей жизнью. Своей у них нет. Нашими праздниками, играми, слезами и смехом; нашим убежавшим вареньем, пережаренной уткой, удачным мороженым, ощенившейся сукой, новой игрушкой; нашими поцелуями с кузинами, драками с кузенами, ссорами с гувернантками.
Когда смеются балкончики, смеются глаза у некрасивых девочек – когда на балкончиках слезы, некрасивые девочки подносят платочки к ресницам.
Сейчас я думаю о том, что моя жизнь, и отчасти жизнь Ольги, чем-то напоминает отраженное существование пожилой женщины в круглых очках и ее дочек.
Мы тоже поселились по соседству. Мы смотрим в щелочку чужого забора. Подслушиваем одним ухом.
Но мы несравненно хуже их. Когда соседи делали глупости – мы потирали руки; когда у них назревала трагедия – мы хихикали; когда они принялись за дело – нам стало скучно.
Сергей прислал Ольге письмо. Она не ответила.
– Владимир, верите ли вы во что-нибудь?
– Кажется, нет.
– Глупо.
Ночной ветер машет длинными, призрачными руками, кажется – вот-вот сметет и серую пыль Ольгиных глаз. И ничего не останется – только голые странные впадины.
– Самоед, который молится на обрубок пня, умнее вас…
Она закурила новую папиросу. Какую по счету?
– …и меня.
Где-то неподалеку пронесся лихач. Под копытами горячего коня прозвенела мостовая. Словно он пронесся не по земле, а по цыганской перевернутой гитаре.
– Всякая вера приедается, как рубленые котлеты или суп с вермишелью. Время от времени ее необходимо менять – Перун, Христос, Социализм.
Она ест дым большими, мужскими глотками:
– Во что угодно, но только верить!
И совсем тихо:
– Иначе…
Как белые земляные черви ползают ее пальцы по вздрагивающим коленям. Приторно пахнут жасмином фонари. Улица прямая, желтая, с остекленелыми зрачками.
Прибыл Чрезвычайный посланник и Полномочный министр Мексики Базилио Вадилльо.
Одного знакомого хлопца упрятали в тюрьму. На срок пустяшный и за проступок нестоющий. Всего-навсего дал по физиономии какому-то прохвосту. У хлопца поэтическая душа золотоногого теленка, волосы оттенка сентябрьского листа и глаза с ласковым говорком девушки из черноземной полосы. Так и слышится в голубых поблесках: «Хром худит… хора хромадная».
Теленок попал в компанию уголовников. Публика все увесистая, матерая, под масть. А старосту камеры хоть в паноптикум: рожа круглая и тяжелая – медным пятаком, ухо в боях откручено, во рту – забор ломаный. У молодца богатый послужной список – тут и «мокрое», и «божией» старушки изнасилование, и ограбление могил.
Вот однажды мой теленок и спрашивает у старосты:
– Скажите, коллега, за что вы сидите?
Бандит ответил:
– Кажись, братишка, за то, что неверно понял революцию.
Я смотрю в Ольгины глаза, пустые и грустные:
– За что?..
Думаю над ответом и не могу придумать более точного, чем ответ бандита.
По всем улицам расставлены плевательницы. Москвичи с перепуга называют их «урнами».
Опять было письмо от Сергея. Толстое-претолстое. Ольга, не распечатав, выбросила его в корзину.
– Владимир, вы любите анекдоты?
– Очень.
– И я тоже. Сейчас мне пришел на ум рассказец о тщедушном еврейском женихе, которого привели к красотке ростом с Петра Великого, с грудями, что поздние тыквы, и задом, широким, как обеденный стол.
– Ну?..
– Тщедушный жених, с любопытством и страхом обведя глазами великие телеса нареченной, шепотом спросил торжествующего свата: «И это все мне?..»
– Прекрасно.
– Не кажется ли вам, Владимир, что за последнее время какой-то окаянный сват бессмысленно усердно сватает меня с тоской таких же необъятных размеров? Жаль только, что я лишена еврейского юмора.
Звезды будто вымыты хорошим душистым мылом и насухо вытерты мохнатым полотенцем.
Свежесть, бодрость и жизнерадостность этих сияющих старушек необычайна.
Я снова, как шесть лет назад, хожу по темным пустынным улицам и соображаю о своей любви. Но сегодня я уже ничем не отличаюсь от дорогих сограждан. Днем бы в меня не тыкали изумленным пальцем встречные, а уличная детвора не бегала бы горланящей стаей по пятам – улыбка не разрезала моей физиономии от уха до уха своей сверкающей бритвой. Мой рот сжат так же крепко, как суровый кулак человека, собирающегося драться насмерть. Веки висят; я не могу их поднять; может быть, ресницы из чугуна.