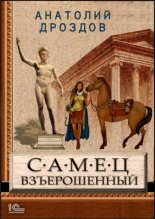Диктатор Снегов Сергей

Мы отключились, чтобы не утомлять его разговорами.
Пеано ушёл в штаб, переход клуров из врагов в союзники требовал новых приказов по армии. Прищепа удалился к себе — уже, наверно, накопилась новая информация. Я остался в помещении главного военного экрана. Мне не хотелось к себе, там меня уже ждали министры, там надо было думать и решать, не отвлекаясь на посторонние дела. Но я жаждал ещё немного побыть зрителем, а не деятелем. Я хотел полюбоваться возвещённым триумфальным шествием клуров и наших воинов из тех, что прибыли в Клур с эшелонами помощи.
Площадь перед дворцом появилась на экране за пять минут до полудня. Окраины её заполняла публика, а в центре выстроились две воинские колонны — по одну сторону офицеры и солдаты Клура при всех регалиях, а по другую, в своей походной форме, несколько десятков солдат нашей охраны эшелонов помощи. Нашу колонну возглавлял Корней Каплин, старый полковник водолётной дивизии. Над Каплиным развевалось боевое знамя наших войск — по виду очень ветхое, очевидно, когда-то пленённое, а ныне взятое из трофейных запасов Клура (наши охранники помощи не брали в дорогу воинские знамёна). Голову генерала из Клура осеняло многоцветное знамя гвардейского полка, тоже из старых, — по военной традиции Клура, потрёпанные в боях знамёна окружались особым почётом. А позади двух неравных колонн — маленькой нашей и большой клуров — взвод музыкантов был готов грянуть торжественный марш, когда перед строем появится Арман Плисс.
И он появился точно в полдень. Он возник в дверях дворца, постоял, красуясь, вынул саблю, поднял её над головой и стал вышагивать к построенным колоннам. Он именно вышагивал, а не шёл. Он демонстрировал церемониальный шаг, ни за какие блага мира, даже под угрозой страшных кар сам я, ныне тоже военный, даже генерал, не смог бы воспроизвести его походку. Он прошагал этим удивительным шагом до колонн, картинно повернулся к ним, отдал салют своему флагу, снова повернулся, стал во главе — Каплин оказался по одну сторону, а по другую — свой генерал. Знаменосцы придвинулись, теперь два знамени осеняли Плисса с двух сторон. Он снова поднял саблю, грянула музыка, и колонны пошли.
Всё так походило на спектакль, что мне показалось, что я смотрю сцены из какой-то оперетты. Мне даже захотелось засмеяться. Появившаяся в эфире картинка триумфального парада была чудовищно далека от той войны, которую я знал и которую вёл. Но потом я подумал, что вся мировая история смахивает порой на оперетту и что естественны не только кровь, грязь и страдания, но и такие яркие спектакли, как разыгранный Арманом Плиссом. И ещё я подумал, что крупнейший деятель современной истории, наш диктатор, так артистически превращает политические катаклизмы в театрализованные представления не только потому, что театральность сродни его натуре, а ещё и потому, что сама история театральна, и он тесным слиянием с самой историей ощущает эту её особенность.
Обе колонны, предводительствуемые Плиссом, пошагали вслед за ним с дворцовой площади на парадную улицу Фермора — Аллею Побед.
Во внутреннем дворе правительственного дворца гражданского народа было немного — несколько сот очень чинных, очень дисциплинированных особ, никто из них не аплодировал появившемуся генералу, не бросал в воздух шапки, не заглушал восклицаниями музыку. Гости дворца только подчёркивали своим дисциплинированным молчанием и важной недвижностью значение начинающегося шествия. Но на Аллею Побед прихлынуло полгорода. И военный парад, едва начавшись, сразу завершился. Рёв голосов заглушил медные громы оркестра, толпа ринулась на Плисса, схватила его на руки, то же проделала и с нашим Корнеем Каплиным, сперва обоих тянули в разные стороны, они перекатывались из рук в руки — и какую-то минуту я опасался, что их и вправду разорвут на части, во всяком случае, ни от скромной полевой одежды нашего полковника, ни от роскошного мундирного великолепия генерала Плисса не останется и живой нитки. Однако буйный восторг толпы до таких крайностей не дошёл. Даже восстановился некоторый порядок — правда, не тот, что намечался по военной росписи. И Плисс, и Каплин по-прежнему двигались впереди колонн, только генерал, для симметрии шагавший слева от Плисса, куда-то пропал. И двигались Плисс и Каплин не своими ногами, а на руках десятка дюжих мужчин, отбивших свою добычу у сотен других.
И теперь, вспоминая шествие по Аллее Побед, я думаю, что оно стало гораздо красочней и выразительней, чем то, что расписывалось по первоначальному сценарию. Толпа, теснившаяся на тротуарах, радостно бесновалась, пела, размахивала руками, бросала вверх головные уборы. Холод уже стоял изрядный, но ни одно окно, выходившее на проспект, не осталось закрытым, и в каждом окне теснились жители и тоже неистовствовали, орали, пели и махали руками, охваченные единством восторга.
И самым удивительным в этом удивительном параде был его виновник — корпусной генерал Арман Плисс. Он покоился на высоко поднятых руках, но покоился так, словно не сидел, а по-прежнему шёл, только по воздуху, а не по брусчатке. Он вытянулся в воздухе во весь рост, левой рукой делал какие-то приветственные жесты бушевавшей толпе, а в правой высоко поднимал саблю, словно вёл своих солдат в сражение. И эта закоченевшая в прямизне фигура, ухваченная десятками рук с боков и сзади — ни один не осмелился стать впереди, — и взметённая в грозном замахе сабля производили воистину волшебное действие: генерал звал толпу куда-то вперёд, может быть, на немедленную схватку с самим Аментолой, и толпа готова была бежать за ним хоть на край света, во всяком случае, до завершающей Аллею Подвигов величественной Триумфальной Арки. До сих пор не понимаю, как реально не возник такой бег и не были потоптаны те, кто стоял впереди приближающегося генерала с высоко поднятой саблей.
А генерал плакал. Он что-то говорил, не опуская сабли и не переставая махать толпе, а по щекам его катились слёзы. Ему надо было перестать махать рукой, опустить саблю и вытереть платком щёки, но он не мог этого сделать, это было бы недостойное признание в слабости, он должен был грозить саблей далёкому врагу, должен был благодарить своих сограждан за то, что они тоже были ему благодарны. И неудержимые слёзы скапливались в усах, соскакивали на пышные погоны, на роскошный мундир. И генерал Арман Плисс снова и снова странно морщил лицо и сердито моргал, чтобы удержать слёзы, а они лились и лились — его слёзы в тот удивительный день в Ферморе были, вероятно, единственным, что отказывало ему в повиновении.
У Триумфальной Арки парад завершился новой короткой речью генерала. Выходя на трибуну, Плисс успел вытереть щёки.
Война в Клуре завершилась.
Рискованный план Гамова — прийти на помощь нашим врагам, чтобы поразить не их, а их вражду к нам, — полностью удался.
Сразу по завершении парада в Ферморе я посетил Гамова и принёс мои поздравления.
— Рад, страшно рад, что я ошибся и что вышло по-вашему, а не по-моему, — сказал я от души.
Он радовался вместе со мной.
11
Мы не сомневались, что референдум о помощи Клуру и Корине породит смятение в душах, поставит перед каждым в этих странах проблему, нравственно ли продолжать войну. И мы были уверены, что выход Корины из войны и переход Клура на нашу сторону потрясёт и народ заокеанской державы. Но в какую сторону — на мир или на усиление вражды — повёрнут Кортезию события в Корине и Клуре, знать не могли. Всего можно было ожидать от страны, в течение добрых ста лет считавшейся первой в мире, по могуществу равновеликой всему остальному миру. В ней всегда была сильна национальная гордость, переходящая в национальное чванство. Кортезия могла и возмутиться, что от неё отходят друзья, она могла мстительно доказать, что и при полном одиночестве способна бороться с врагами.
Волнение за океаном, естественно, было огромное. Но то было волнение информационное, а не организационное. И стерео, и газеты соревновались в нагромождении известий из Клура, из Корины, особенно из Нордага — мы сохранили особый режим в этой стране, там было много иностранных журналистов. Воротившийся в свою страну Путрамент чуть ли не ежедневно беседовал с этими журналистами — он становился хорошим помощником нашему Омару Исиро. Кортезию набивали удивительными сообщениями об удивительных событиях, её могло разорвать от бездны трудно перевариваемой информации.
И её разорвало. Но по-иному, чем мы прикидывали. Не только я, но и сам Гамов и даже Гонсалес — все мы соглашались, что акция террора не удалась. Если министра Милосердия, нашего добряка Пустовойта, заваливали просьбами всяческие комитеты помощи — та же Норма Фриз, к примеру, — то к Гонсалесу даже не поступало счетов от террористов. Сам он считал, что причина в силе заокеанской полиции, быстро раскрывающей разрозненные террористические группы. Но причины таились глубже. Индивидуальный террор чужд кортезам. Пока их страна побеждала, пока вела за собой другие страны, пока провозглашала себя бастионом лучшего мироустройства, деятели этой страны окружались почётом, ими гордились, с ними могли спорить, но их уважали, даже не соглашаясь с ними. Здесь не было почвы для злодейского — исподтишка — нападения на них.
Всё переменилось после ухода Клура и Корины из союза с Кортезией. Все как-то осознали, что совершилось нечто невероятное и что Кортезия, кичившаяся своей благотворительностью, никогда бы не могла зайти так далеко, чтобы помогать врагам. С великой страны вдруг сорвали покрывало нравственного величия, аура её щедрости вдруг потускнела. Прозвучало два оглушительных взрыва: старый друг, верный союзник Корина вышла из союза, ибо не увидела в нём ни дружеского союзничества, ни братской помощи в годину бедствия. Королева Корины разорвала вековечные связи двух держав — и никто в Кортезии не осудил её за такой оскорбительный поступок.
А второй взрыв ударил ещё больней. Военный правитель Клура не только заклеймил Кортезию печатью предательницы, но и объявил ей войну как изменнице чести, как трусливой эгоистке, требующей от других самопожертвования, но не способной ничем поступиться самой. Должен признаться, что я ожидал взрыва ярости в Кортезии, негодования на генерала Плисса. И великой неожиданностью было, что ничего похожего не произошло — глухая растерянность охватила страну. «Оглядываются на самих себя и не понимают, кто же они такие» — так доложил Прищепа на Ядре о положении в Кортезии.
Вудворт высказался с необычной для него категоричностью:
— Тяжёлое недоумение — верная формулировка. Срок его будет невелик. Ожидаю вскоре бури. Возможно, всегда единая Кортезия распадётся на полярности и вспыхнет междоусобица.
— Считаете возможной гражданскую войну? — спросил Гамов. Он задал этот вопрос с улыбкой. Никогда не было гражданских войн в этой самой благополучной из стран.
Вудворт ответил с той же категоричностью:
— И гражданской войны не исключу. Ещё никогда моей родине не наносили столь обидных оплеух. Кортезы сейчас спрашивают себя — кто же мы такие, что нас так оскорбляют? Если есть в том наша вина, то кто носитель этой вины? Результаты такого внезапного самоанализа не замедлят показать себя.
И они, точно, показали себя, только со стороны, какой и он не ожидал. Гонсалес в своё время надеялся на группы гангстеров, выполняющих его террористические приговоры ради высоких заработков за злодеяния. Такие группы и вправду создались, но настроение общества долго не благоприятствовало террору. Убийства политиков и промышленников, как бы высокопарно их ни обвиняли в преступлениях перед человечностью, слишком явно шли на пользу Латании и слишком явно вредили усилиям самой Кортезии. Террор, названный Гамовым Священным, в Кортезии выглядел уголовщиной. Профессионалы разбоя не спешили накинуть на себя плащи политических уголовников, они предпочитали оставаться уголовниками простыми.
Но всё разительно переменилось после референдума и ответных действий Корины и Клура.
Вдруг прогремело три выстрела — один в фабриканта боевых вибраторов и резонансных установок, два в судовладельца, чьи корабли второй месяц, доверху нагруженные, простаивали в портах. На оплату двух убийств немедленно предъявили счета по ценнику казней Гонсалеса. Уверен, что террористы сильно просчитались, потребовав уплаты, политическая природа казней побледнела перед жаждой денег. Гонсалес пообещал перевести гонорар за убийство в любой банк любой страны, куда террористы пожелают, либо вручить его тайно. Правительство в ответ на террор наконец само опубликовало список заочно приговорённых Чёрным судом к смерти и обязалось обеспечить каждого из приговорённых надёжной охраной. Объявление о правительственной охране нагнало страху больше, чем несколько удачных выстрелов: полиция Аментолы вдруг открыто призналась, что убийцы стали организованной силой и с ними надо бороться всеми средствами.
— Аментола впадает в панику, — прокомментировал Прищепа ситуацию в Кортезии. — Он не мог придумать ничего глупей, чем всенародно признать силу террористов. Этим он прибавит им боевого духа. Не исключаю, что следующей их мишенью станет он сам — наградная ставка очень велика, ради такого приза не один гангстер поставит свою голову против пули полицейского.
Прогноз Прищепы оказался неточным только в том, что до покушения на президента ещё несколько человек из списка Гонсалеса распростились с жизнью. На эти разбойные казни кортезы не реагировали прежним всеобщим возмущением.
Удар террористов настиг наконец и Аментолу. Его водоход, специально оборудованный внутренней защитой, промчался над хитро заложенной вибрационной миной. Президента спасло, как ни странно, что мина оказалась много сильней, чем нужно для уничтожения машины. Первая же судорога в почве бросила водоход вверх, и он по инерции, содрогаясь в воздухе всеми рычагами и переборками, пролетел почти двадцать лан над землёй и рухнул в отдалении от эпицентра вибрации. А там растрескалась земля и нескольких прохожих, остановившихся поглазеть на президента, провибрировало до распада тел на части. Президент отделался только страхом и несколькими часами страданий — противорезонансного жилета, которым снабжается каждый солдат, на нём не оказалось, и в панике не удалось быстро доставить эти жилеты со склада. Я бы жестоко солгал, если бы сказал, что покушение на президента не вызвало возмущения в стране. И волновались, и возмущались, но как-то без запала и страсти. И сразу стали слышаться недобрые голоса: «Взялись за президента, много он нагородил ошибок — теперь заставят расплачиваться». А неугомонная Радон Торкин не преминула снова дать знать о себе: «Нужно было взять импульсатор, а не вибрационное устройство, — посетовала она. — Когда мне удастся подобраться к Аментоле поближе, я пущу в ход импульсатор, пусть он не сомневается». Думаю, что Аментола и не сомневался в серьёзности замыслов бывшей актрисы, из мести за погибшую дочь разрядившей карманный импульсатор в собственного мужа. Но у полиции хватало бдительности не подпускать и на тысячу шагов хорошо всем известную Радон к президентскому дворцу.
Я разговаривал с Гамовым о террористических актах в Кортезии:
— Вы знаете, Гамов, деятельность Гонсалеса отвратительна мне во всех её проявлениях, — сказал я прямо. — Но то, что вы назвали Священным Террором, имело хоть какой-то рациональный смысл у нас в стране. Террор шёл против бандитов и помог усмирить разгул разбоя. А против кого террор в Кортезии? Против политиков, против промышленников, против всех, кто способствует войне. А ведь и у нас есть поборники войны, нас с вами тоже можно к ним отнести. Мы ведь не просто воюем, а воюем усердно, самозабвенно, в общем, с охотой. Но мы ведь не организуем террор против себя? Уж больно выгоден террор в Кортезии национальным интересам Латании. И тогда все эти гангстеры, пришедшие на службу к Гонсалесу, должны считаться изменниками своей родины, а не исполнителями каких-то высоких философских идей, как задумали вы.
Гамов очень странно посмотрел на меня, хорошо помню, что меня удивил этот взгляд, хотя я и не понял тогда его значения.
— Интересная мысль, Семипалов. Террор против себя… Не тривиально…
— В стиле ваших любимых опровержений классики, — сказал я, засмеявшись. — Нет, серьёзно, чего нам следует ожидать в Кортезии? Корина отстранилась, в Клур Пеано вводит наши войска, там сплошное братание и праздники. Южные соседи замерли на границах — войны Кортезии, естественно, не объявляют, но и воевать с нами раздумали, на это у них ума хватает. А дальше что? Если Кортезия ещё может вторгнуться весной на континент, то у нас ни в одно время года нет сил перенести войну за океан. Лучшая наша перспектива — война замирает, но не прекращается. Это далеко от победы.
Гамов с первых моих слов имел готовое возражение.
— Кортезия слишком большая страна, чтобы внутреннее напряжение сразу выплеснулось на поверхность. Я согласен с Вудвортом — в Кортезии зреет буря. Наберёмся того, что у нас всегда в дефиците, — обыкновенного человеческого терпения.
Гамов, проповедующий терпение, — ситуация не из ординарных! Я всё же не мог оставить разговор незавершённым.
— Очень хорошо — буря. Но кто возбудит бурю? Откуда подует ветер, поднимающий волны?
— Я говорю не о той буре, что исчерпывается волнами на поверхности, а о тектонических взрывах внутри. Я предвижу их. Но детали не спрашивайте — не знаю. Мы с вами политики, а не пророки.
Про себя я, как и Гамов, надеялся, что волнения в Кортезии не ограничатся активизацией бандитских групп, перекрашивающихся в политических террористов. Но единственным, что в какой-то степени подтверждало формулу Вудворта «буря зреет», было возрождение Комитета Помощи, возглавляемого Нормой Фриз. Правда, он изменил вывеску и назывался Комитетом Мира, но руководила им всё та же Норма Фриз. И она начала с того же, что положила в основу прежнего Комитета Помощи, — отстранила мужчин от руководства. Мужчин в её новом Комитете было, конечно, больше, чем женщин, но только на второстепенных должностях. Она прямо объявила на учредительном съезде нового Комитета: «Мужчины, к сожалению, слишком любят войну, чтобы им можно было поручить дело мира. Они в любом мирном договоре оставляют возможность для новой войны. Такими воинственными рожаем мужчин мы, женщины, приходится считаться с этой нашей оплошностью. Но мириться с ней не нужно. Это значит, что дело мира надо взять в свои руки». Это было уже новое в деятельности энергичного профессора математики, променявшей науку на политику. И она не стеснялась, когда речь заходила об Аментоле. Он, конечно, был образцом настоящего мужчины — высокий, красивый, идеально сложенный, умный, достаточно смелый. И ему доставалось за всех мужчин от Нормы Фриз — она недаром, до политической карьеры, считалась самым красноречивым оратором на профессорской кафедре.
Мне, впрочем, её наскоки на президента казались столь же несерьёзными, как и террористические угрозы Радон Торкин. Было огромное различие между голодным бунтом женщин, захвативших стереостанцию и яростно сопротивлявшихся потом усмиряющему их генералу Арману Плиссу в Клуре, и критикой президента с трибуны Нормой Фриз. В первом случае это была трагедия, а во втором разыгрывался спектакль.
— Ты неправ, Андрей, — сказал Павел Прищепа. — Кортезия не Клур, в ней свои обычаи, в ней логика пока сильнее эмоций. Норма Фриз методично разрушает фундамент, на котором зиждется военная концепция страны. А что до легковесного спектакля, то вспомни, что мы ещё недавно считали Армана Плисса чуть ли не опереточной фигурой. Норма Фриз созывает на будущей неделе антивоенный съезд женщин Кортезии. Не сомневаюсь, что на съезде примут важные решения.
Я приказал осведомлять меня обо всём, что произойдёт на антивоенном съезде женщин. Поначалу казалось, что Прищепе изменило его понимание ситуации за океаном. Норма Фриз произнесла академический доклад о пользе мира и вреде войны и о том, что новая обстановка в Корине и Клуре после великодушных действий Латании делает войну не только вредной, но и бессмысленной. Она явно остерегалась острых формулировок, не нападала на президента, не грозила отстранить мужчин от политического руководства в стране, о чём незадолго до съезда уже высказывалась открыто. Она недоговаривала, это скоро стало ясно каждому слушателю.
И всё, о чём она умолчала, вынесли на трибуну другие ораторы. И первой, конечно, Радон Торкин.
Говорят, она в молодости была очень красива. Молодые ведьмы, слетающиеся, по преданиям, на ежегодный шабаш на Гору Сатаны в Родере, все сплошь красавицы, отбор на шабаш очень строг, и уродство там непростительней, чем на наших благотворительных балах. Это каждый знает, хотя мало кто честно признается, что участвует в увеселениях на знаменитой горе. Но типичный образ ведьмы — это всё же красочная старуха, до того необыкновенно уродливая, что безобразие уже не вызывает отвращения, а только удивление и любопытство. Так вот, Радон Торкин была классической старой ведьмой. Я знал, что её, по старой памяти, в газетах называют красавицей. Но на трибуне съезда появилась ведьма. Седовласая, плохо причёсанная, костлявая, он простёрла длинные жилистые руки — и зал замер. Вероятно, не одному мне почудилось, что ещё до речи Радон взлетит над трибуной, сделает два-три хищных круга и только потом, плавно опустившись, начнёт говорить. И если бы даже в эту минуту у неё изо рта вырвалось пламя с дымом и распространился серный запах, это не вызвало бы ошеломления, ибо вполне соответствовало её облику.
А говорила она хорошо, это надо признать.
Как умелый оратор, она начала не с проклятий, а с деловых обвинений. Мы сами выбираем наших президентов, в последний раз выбрали с большим преимуществом перед другими кандидатами Амина Аментолу. Почему захотели этого человека? Мужчины — потому, что он наболтал им с три короба о величии Кортезии, о высоком благе быть кортезом и о том, что это преимущество Кортезии перед всеми другими народами он усилит и умножит! А чем задурил красавчик Аментола женские головы? Да именно этим — отличной мужской статью. На него любовались, им восхищались, заслушивались его медоточивым голосом, а о том, что он вещает своим хорошо поставленным баритоном, не задумывались, просто не верили, что от такого мужественного мужчины можно ожидать чего-либо плохого. Гордились, что наконец появился президент, на которого стоит смотреть, а не только слушать его. Извечная слабость женщины — безмерно преувеличивать достоинства мужчины. Сколько женских драм совершилось из-за неконтролируемого возвеличивания мужчины! Пока твой дружок — ухажёр и жених, он для тебя живое воплощение всех добродетелей. А когда станет мужем и отцом? Где его вымечтанные тобой достоинства? Ты словно прозрела! Перед тобой не полубог, не рыцарь без страха и упрёка, не преданный тебе поклонник, а обычный мужлан, грубое существо, к тому же плохой любовник и скверный отец — нечто недостойное ни уважения, ни горячей любви. А куда деться? Ведь нет таких фирм, чтобы поставляли мужей по каталогу, где гарантируются одни хорошие качества. И смиряешься. Таков же и наш президент. Он покорил нас внешностью и обхождением, мы восхищались им, ждали от него только блага. А чем он одарил нас? Войной, в которой мы терпели поражения, в которой гибнут наши дети, бездарно, непоправимо, непростительно гибнут! Потерей уважения наших союзников, они кричат нам в лицо: «Кортезы — предатели!», а раньше кричали: «Кортезия — спасительница!» Президенту плюют в лицо бывшие друзья, и нам заодно с ним, а он утирается и сохраняет красивую улыбку, и нам предлагает держаться так же — улыбаться в ответ на плевки! Пора, пора взглянуть правде в лицо — наш брак с президентом Аментолой не удался, в нём нет ни одного из тех достоинств, какими он пленил нас, кроме разве красивой фигуры, её он пока сохраняет.
— В семейной жизни мы чаще всего смиряемся, — продолжала Радон, сделав короткую передышку. — Лучшие годы ушли, мужчины твоего возраста все разобраны — жизненный автобус мчится по скверной дороге. Но почему терпеть негодного президента? На его место — десятки претендентов. Брак с ним не удался, устроим новое замужество! Мужчины ещё не потеряли веры в него, а женщины трусят, боятся развода, хотя и понимают, что от Аментолы можно ждать только новых оскорблений, нового горя. Я прощаю мужчинам их тупое непонимание, они на тонкие отношения неспособны, прощаю и женщинам их трусость. Пристрелить Аментолу мне не удастся, с горечью констатирую. Но почему не выбросить его из президентского дворца? И выбросить досрочно! Провести всенародный референдум о президенте!
Зал зашумел, и Радон Торкин сделала передышку. Она ещё не перешла на крик, но уже повысила голос. Владела она голосом превосходно — сказывалось артистическое умение, сделавшее её знаменитой.
— Повторяю: немедленно референдум! И не спрашивать согласия правительства, Аментола не будет копать себе могилу собственными руками. А просто назначить дату и призвать всех кортезов отдать свой голос за или против удаления Аментолы из дворца. Это не такой уж трудный вопрос — гнать или не гнать неудавшегося руководителя. В Латании голосовали по тысячекратно более трудному вопросу. Кружится голова, когда думаешь — согласен ли ты пожертвовать своим продовольственным пайком, чтобы помочь голодному врагу? Я спрашивала себя, могу ли ответить «да» на такой вопрос, и колебалась — найду ли в себе такую жертвенность. А они нашли. Президент Аментола усиливает войну против них, вместо того чтобы благодарно протянуть им руки в знак дружбы и поклонения. Женщины, не говорю, кричу: наш президент вполне созрел быть выброшенным в мусорную яму, и великий позор нам всем, если мы не сделаем этого!
— Закономерен вопрос — кого в новые президенты? — продолжала Радон. — Известного политика? Все политики — радетели войны! Каждый — тот же Аментола, если не хуже. Был один хороший человек, вечный противник Аментолы — Леонард Бернулли. Но мужчина в президенты не годится. Пора признать этот печальный факт. Наша руководительница Норма Фриз призывает отстранить мужчин от руководства, ибо они воинственны, жестоки, вздорны, их головы забиты соображениями чести, воинской храбрости, готовности к смерти ради национальной, местнической гордости, обывательского чванства. Ни одно из таких иллюзорных понятий не годится для реальной жизни, для пропитания, устройства жилища, здоровья детей. Но мужчины носятся с надуманными призраками, как дураки с раскрашенными игрушками. Реальную жизнь устраиваем мы, женщины, а мужчины только под угрозой непрерывных скандалов соглашаются нам помогать.
Так сделаем реальный вывод из реальной обстановки — отстраним их от руководства страной, как практически отстраняем своих мужчин от каждочасной заботы о семье. Президентом нужно избрать женщину, министрами должны быть только женщины. Пришла пора для новой революции: мужчины так же не могут благоустроить страну, как неспособны сами устроить семейное счастье. Предлагаю в президенты Норму Фриз!
Последние слова Радон Торкин не произнесла, а выкрикнула. Помолчав, пока зал не успокоился, она продолжала, всё усиливая голос:
— Я знаю: очень многие мужчины сочтут личным оскорблением вручить женщине верховную власть. Природная грубость и мужское чванство спровоцируют их на отпор нашим настояниям. От мужчин можно ждать любых эксцессов. Ну и что? Я спрашиваю вас — ну и что? Почему мы должны бояться их грубости? Разве в семье мы не сталкиваемся с яростью наших мужчин, с их невоспитанностью, с их угрозами физического воздействия? И разве не научились мы преодолевать их физическое превосходство нашим моральным превосходством? Я спрашиваю вас, женщины: разве большинство семейных скандалов не завершаются нашими победами? Разве мужчины, побесившись и побушевав, не покоряются нашим настояниям? Кто извиняется после скандалов — мы или устыжённые своим хамством мужчины? Так заставим их покориться нам в политике, как мы принуждаем их покоряться в семье!
И опять её прервали шум и аплодисменты зала. И опять она, помолчав, продолжала речь. Теперь её голос возвысился до крика, только крик соответствовал содержанию речи — она хорошо рассчитала соответствие голоса и смысла.
— Вы скажете, это объявление войны мужчинам! Нет, отвечу я, это продолжение нашего вечного сопротивления их жажде власти — всегда и во всём. Неизменное наше сопротивление, только перенесённое из семейных клетушек на государственную арену. И в этой новой схватке с мужчинами мы победим, как побеждаем в семье. Есть великий факт нашей жизни, мы просто его не всегда осознаём. Нам без мужчин очень трудно, а им без нас невозможно — вот этот великий факт. Кто первый лезет с примирениями после семейных скандалов? Мужчина! Ни одна женщина, когда её оскорбляют, не попросит прощения, не полезет с ласками, не заберётся ночью в постель к своему мужчине, выпрашивая любви. Нет, на такие повороты настроения способен только мужчина! Вспомните, женщины, разве не ваши мужчины после грохота и проклятий шепчут вам в ночной темноте ласковые слова, готовы, как в дни ухаживаний, носить вас на руках, уверять в вечной любви. И мы покоряемся их настроениям, потому что воображаем, что наш мужчина единственный среди всех. Вздор, женщины! Все мужчины одинаковы, можете мне поверить, я их хорошо изучила. Я не призываю вас ненавидеть мужчин, но уважения они заслуживают мало.
— Возвращаюсь к нашему неудачному президенту, — продолжала она. — Убить его сложно, хотя это решило бы многие проблемы, да и латаны отвалили бы огромную премию за такой разумный акт. Но выгнать его из президентского дворца надо. Все мы должны проголосовать за его уход — и заставить мужчин поддержать нас. Всегда и всюду мы должны помнить великий факт — нам без них только плохо, а им без нас невозможно. А если не сдадутся, если не покорятся, то значит, что мы сами неспособны использовать наши женские преимущества, что мы — никудышные женщины. Обращаюсь к вам только с одним призывом — женщины, будьте настоящими женщинами!
И этот последний призыв она не произнесла, а прокричала. Зал неистовствовал. Я никогда и представить не мог, что собрание почтенных, хорошо одетых, пристойно воспитанных дам может орать и выть, как банда пьяных молодчиков вокруг ринга, где их любимый боксёр валит на канаты своего соперника. Норма Фриз выждала минуты три и попыталась водворить спокойствие в зале, но её никто не слушал. Радон Торкин пробиралась к своему месту, но так и не добралась — к ней отовсюду тянулись руки, её обнимали, целовали, тянули к себе, и она пропала где-то в глубине зала.
Женская антивоенная конференция проголосовала за мир с Латанией и досрочные перевыборы президента, назначили и день референдума — первый выходной первого зимнего месяца.
События были столь важные, что я попросил от Павла Прищепы подробного доклада на Ядре. Впервые я видел его смущённым. Он признался, что слишком уж необычны известия от информаторов. Он всё же был отличным разведчиком, но политиком иного ранга — выуживать секреты мог, но если один секрет противоречил другому и надо было выбирать между ними, он не всегда угадывал тёмную ещё возможность, лишь впоследствии становящуюся истиной.
Вот что доложил нам Прищепа.
Окружение Аментолы проигнорировало женскую конференцию. Аментола собрал своих министров, но речь шла только о погоде в океане и о подготовке весеннего наступления. Военная обстановка оценивается как благоприятная. Отпадение Корины и уход Клура в стан врагов занесены в список неудач, но не решающих. Мы плохо воевали раньше, а сейчас мы воюем лучше, ресурсы же наши несравнимы с латанскими — так Аментола смотрит в будущее.
Гамов удивился:
— Неужто и слова не сказали о женской конференции?
— Ни одного! На заседании правительства, я имею в виду. А на запрос журналистов уполномоченный по печати ответил, что женское движение — одно из многочисленных общественных движений, правительство их не контролирует и не опекает. На вопрос, не устроит ли жена ему скандал, если он не выступит против президента, он засмеялся: доныне у него с женой были мир и согласие, он не вмешивался в её хозяйственные дела, она — в политику. Он надеется, что и дальше будет так.
Я уточнил:
— Значит, правительство не будет запрещать референдума?
— Ни запрещать, ни поддерживать. И поскольку референдум становится частным делом одной из общественных организаций, результаты его правительство проигнорирует, как игнорирует само женское движение.
Гамов сказал:
— Неумная политика. Аментоле нужно найти соглашение с Нормой Фриз, если он хочет твёрдо сидеть во дворце. Он ещё раскается в своём высокомерии.
Я не удержался от иронии:
— Хотите поделиться с Аментолой соображениями, как ему усидеть на посту и продолжать спокойно готовить победу над нами?
Гамов засмеялся. Доклад Прищепы порадовал его той неопределённостью, что смущала самого Прищепу. Президент завяз в тенётах исторической обыденности, он мыслит классическими штампами, он неизбежно разочаруется, и это пойдёт нам на пользу — вот такую концепцию рисовал нам Гамов.
А события развивались так.
Референдум вышел не столь удачным, как надеялись его вдохновители. Голосовать против Аментолы пришло меньше половины женщин, мужчин было совсем мало. У пунктов голосования мужчин собралось изрядно, но они относились к женской акции как к весёлому спектаклю — сходились кучками, хохотали, поздравляли своих жён и подруг с приобщением к политике, но бюллетени в руки не брали. Все были настроены беззлобно, особенно свирепых женщин-ораторов награждали аплодисментами, но, в общем, не поддерживали. Референдум, по существу, шёл не о президенте, а о том, быть миру или продолжать войну, а измена женщин их недавнему кумиру воспринималась с улыбкой. Так же и правительство восприняло женский демарш — это, Гамов был прав, стало крупнейшей ошибкой Аментолы.
Всё разительно переменилось уже на другой день.
Норма Фриз объявила, что результаты референдума она сама во главе женской делегации вручит правительству. Ни один мужчина не удостоился делегирования — только женщинам разрешалось посетить приём во дворце. Но уже за час до появления делегации у дворца собралось множество весёлых мужчин, некоторые несли в руках роскошные букеты — вручать своим подругам после того, как они покинут дворец. Шёл первый месяц зимы, время не для цветов, но все оранжереи и сады опустошили — цветов в руках у мужчин было больше, чем в любой весенний праздник. Часы шли к трагедии, а всем участникам церемонии ещё мнилось, что совершается веселье.
Радон Торкин в женской делегации не было. Её сочли слишком воинственной, а приход во дворец мыслился операцией мирной — он должен знаменовать единство всех кортезов. И Норма Фриз, возглавлявшая делегацию, обычно скромно одетая, выступала в роскошном цветастом платье, она украсила себя и гарнитуром тёмных камней. Женщин было всего двадцать, и все, разодетые, как на бал, по одной выходили из водохода, подошедшего ко дворцу, и поднятием рук отвечали на приветствия, смех, весёлые пожелания успеха от мужчин, двумя плотными шпалерами выстроившихся на подходе.
Норма Фриз с декларацией в руке подошла к воротам. Двери раскрылись, наружу вышли два офицера. В глубине двора виднелись ряды вооружённых солдат. Обстановка показывала, что обитатели дворца, в отличие от гогочущих мужчин на улице, отнюдь не расположены считать приход женщин развлекательной сценой. Норма Фриз потребовала президента, чтобы вручить ему заявление о всенародном недоверии. Один офицер взял в руки микрофон, голос его разнёсся по рядам собравшихся.
— Президента не интересуют ваши декларации. Он занят более важными делами.
— Тогда пусть явится его полномочный представитель — взять у нас декларацию недоверия президенту! — настаивала Норма Фриз.
Ответ офицера был категоричен:
— Никто к вам не явится. Никто вашей декларации не возьмёт.
— И вы не возьмёте?
— И я не возьму. Моё дело держать оружие, а не писульки.
Норма Фриз обернулась к своим делегаткам. В толпе оживлённых мужчин вдруг установилось молчание. Мужские шпалеры стали сдвигаться поближе к женщинам. Норма Фриз с обидой воскликнула:
— Вот как относятся к женщинам военные слуги президента. Даже говорить с нами не хотят!
Одна из делегаток, высокая красивая девушка с длинными кудрями, эффектно уложенными на плечи, выдвинулась вперёд.
— Мы пройдём силой. Пустите! — крикнула она офицеру.
— Запрещаю! — сказал офицер. — Ни одна не пройдёт во дворец. А будете прорываться, применю силу.
Вот в этот момент в молчаливой толпе мужчин пронёсся первый, ещё глухой гул. Шпалеры сдвинулись тесней. Солдаты во дворе стали продвигаться к воротам. Высокая девушка гневно крикнула:
— Всё равно пройдём! Попробуйте применить силу!
Она оттолкнула офицера и шагнула за ворота. За ней метнулось ещё несколько женщин. Офицер схватил девушку за руку, другой дёрнул её за платье. Она рванулась, платье разорвалось. Первый офицер толкнул её в грудь. Удар был сильным, она пошатнулась, но устояла. И повернувшись к толпе, ухватив разорванное на груди платье, с рыданием прокричала кому-то:
— Твою невесту бьют, а ты смотришь!
Из толпы, свирепо расталкивая соседей, вырвался рослый парень с огромным букетом в руках. Он метнул букет в офицера, порвавшего платье на его невесте, и сразил кулаком другого. На него навалились набежавшие солдаты, он разметал их и снова бросился на обидчика невесты. Офицер выхватил импульсатор. Сухой треск, усиленный микрофоном, отчётливо разнёсся над толпой, парень, уже сражённый, успел выхватить импульсатор и повернуть его на офицера — оба рухнули под ноги солдат. Женский отчаянный визг потонул в яростном вопле мужчин. Толпа всей массой бросилась на солдат.
Женщины, вытесненные на тротуары, с плачем убирались подальше, озверевшие мужчины сорвали ворота. Солдаты опасались в толчее выхватывать импульсаторы, да и приказа не было, а оба офицера, бездыханные, попирались ногами толпы. Разъярённые мужчины брали массой, один за другим солдаты валились наземь либо бежали в глубину сада и прятались во дворце. Какой-то мужчина вскочил на садовую скамью перед операторами стерео — те одни не поддались ни панике, ни ярости — и дико вопил:
— Наших женщин избивают! Мужчины мы или не мужчины? Все прекращайте работу! На улицу!
Из сада с обеих сторон дворца выползли, натужно ревя, бронированные водоходы. Ни один не стрелял, на это у правительства хватило ума. Они напирали на толпу, вытесняя её наружу. На них карабкались, плевали в прорези машин, но уже скоро во дворе не осталось ни одного вторгнувшегося мужчины. Опрокинутые ворота подняли и захлопнули. Солдаты снова высыпали из помещений. Неподвижные водоходы сторожили ворота, готовые к новой схватке с толпой. Толпа рассеивалась. Мужчины кучками провожали делегаток, высокая девушка, первая завязавшая сражение во дворце, шла под охраной доброго десятка мужчин, и то рыдала, что её жениха больше нет в живых и она повинна в его смерти, то громко проклинала солдат президента и его самого. А тело жениха водрузили на открытую машину, куда забрались ещё несколько раненых, и везли с криками по улицам.
Отчаянный призыв мужчины остановить все работы и выйти на улицы защищать женщин услышала вся страна. О делегации к президенту оповещали заранее, о том, что церемония вручения декларации будет показана по стерео, тоже знали. И ещё не завершилась схватка во дворце, как загудели заводы столицы, и их призывный рёв подхватили все сирены, все уличные гудки, все клаксоны. Не прошло и часа, как вся страна гудела, свистела и клаксонила. А потом каменное молчание опустилось на города и сёла. Всё остановилось — производство на заводах, движение на улицах, занятия в школах, торговля в магазинах.
Великая забастовка сковала Кортезию.
И сразу стало ясно, что простой остановкой работ не ограничится. Страна созрела для великих перемен — и они приближались.
Прищепа докладывал нам, что президент Аментола непрерывно заседает с министрами и генералами — вырабатываются решения. Что они будут важными, а не отвлекающими внимание и не канализирующими общественные страсти на пустяковые перемены, явствует из того, что помощники президента запрашивают о настроениях на заводах, в казармах, в клубах; о каждом сборище на улице, каждом митинге на площадях сообщается правительству. В армии и на флоте объявлена повышенная готовность.
— Не исключаю, что президент готов подавить народное возмущение военными средствами, — суммировал свою информацию Прищепа. — Он всё же не из тех, кто пугается женских истерик.
— А если в истерику впадут и мужчины? — спросил я.
Прищепа не исключал такой возможности, но считал её маловероятной. Бастуют в Кортезии все, но политической программы не выдвинули. Господствуют эмоции, а не программы. Женщины негодуют, что правительство не пожелало с ними считаться, и с прежним жаром требуют отставки недавно любимого президента. Но кандидатура Нормы не муссируется. Вряд ли её поддержат мужчины, если Аментола и уйдёт. Забастовщики требуют, чтобы президент извинился перед женщинами, сам взял из их рук петицию о своей отставке, а вот уходить ли досрочно, пока его дело. И это нечто совсем иное, чем требование немедленного мира, пока такое требование остаётся только за женским движением.
— Если Аментола наберётся ума публично и достаточно искренно попросить прощения у женщин, то волнение рассосётся, — докладывал Прищепа и добавил: — Он, правда, пока не показывает смирения, а всеобщая забастовка уже наносит урон самим бастующим — в квартирах не хватает тепла и света, магазины открылись, товары мгновенно расхватываются. Идёт борьба нервов: у кого крепче, тот и возьмёт верх.
В резиденции Нормы Фриз — одна из богатых её поклонниц предоставила ей для политики свой особняк — каждый день собираются не только женщины, но и мужчины: бастующие присылают своих представителей, чтобы выработать единую линию. Но главенство остаётся за женщинами, они по-прежнему заводилы смуты, а от мужчин требуют только поддержки, а не инициативы. На время пропавшая в тени Радон Торкин снова бесчинствует на ярком свету, сплачивая вокруг себя всё больше женщин. Она требует ни много ни мало, а смерти президента — в том случае, конечно, если он немедленно не уйдёт. И кликушествует, как уже не раз заявляла, что готова в любой момент соединить в своей особе функции обвинителя, судьи и палача. Ей нужна только поддержка — смять охрану президента, чтобы прорваться во дворец, а уж там, с глазу на глаз с Аментолой, она не потеряет решимости. И она демонстрирует зрителям крохотный, специально для неё изготовленный импульсатор и на нём надпись: «Последний аргумент против Аментолы».
— Если ещё недавно её пассажи лишь вызывали усмешки и привлекали любопытных, — сообщал Прищепа, — то сейчас определяются сторонники, готовые на всё. И это уже не группа, а отряд боевиков, которых прибывает ежечасно. На последнем митинге она страстно кричала в толпу: «Мужчины, у вас последний шанс реабилитировать себя — перестаньте трусить и идите за мной!» И её поддерживали одобрительными криками.
— Митинг был на улице, Павел?
— У дома, где Норма Фриз устроила свою резиденцию. Кстати, и с ней перемены. Чувствуется, что она обижена пренебрежением президента. Когда она возглавляла Администрацию Помощи пленным, он отзывался о ней как о великой кортезианке, принял во дворце, обнял и пожал руку.
— Тогда она не требовала его отставки. Он тоже чувствует себя обиженным.
В настроении кортезов перемены совершались по-иному, чем мы ждали. Негодование против недостойного поведения президента с женщинами оттеснило политическую суть события. Женщины, забывая, что они требовали мира, теперь настаивали, чтобы президент извинился перед ними, — и как-то получилось, что извинение его стало всем важней и его отставки, и отказа от продолжения войны. Забастовка не прекращалась, но о том, что война идёт и подготавливаются новые грандиозные сражения, как-то перестали говорить. Личность президента заслонила собой все поля сражений.
Я посовещался с Вудвортом.
— Всё идёт закономерно, — сказал он. — Вы снова не поняли психологию моих бывших соотечественников. Кортезы — индивидуалисты. Для вас великие события истории значительны сами по себе, вы абстрагируетесь от личностей. А кортезы персонифицируют историю в фигурах её деятелей. Наберитесь терпения, Семипалов.
Мне показалось интересным, что в дни всеобщей забастовки вдруг прекратились все террористические акты. Было впечатление, что добровольные слуги Гонсалеса забыли о своём выгодном ремесле и дружно присоединились к общему отказу от работы, заменив импульсаторы и мины на уличный рёв против недостойного обращения Аментолы с женщинами. Логика такого явления не укладывалась в моём сознании.
Кипение страстей в многочисленных комнатах резиденции Нормы Фриз всё накалялось, толпы у её дома становились всё гуще, мужчин появлялось там всё больше — подходил час разрядки всеобщего напряжения. Норма Фриз объявила второй поход к президенту. На этот раз не для вручения петиции об отставке Аментолы, а для реального удаления его из дворца.
Стерео Кортезии передало её новое обращение — уже не к одним женщинам, а ко всему народу:
— Мы не знаем, на что решится теряющий спокойствие и разум президент! Я не исключаю, что нас встретят молнии импульсаторов, что нас пойдут давить военные водоходы. В прошлый раз Аментола побоялся встретиться с нами. Сейчас он может набраться храбрости расправиться с нами. Нас это не остановит. Если иного выхода не будет, мы пойдём на приступ президентского дворца. Зову всех жителей страны поддержать нас и разделить нашу участь.
Вот такую решительную команду отдала Норма Фриз своим сторонникам. И уже за день до нового похода в столицу стали прибывать жители других городов. Радон Торкин, отстранённая от прежней делегации, вышла на авансцену. Она создала свой особый отряд и поставила его во главе общей процессии. И один взгляд на её спутников — не только женщин, но и мужчин — показывал, что разговорами дело не ограничится. Передовая группа Радон Торкин была военным отрядом, все носили какое-либо оружие, многие были даже с армейскими пистолетами-вибраторами старых моделей, в армии уже списанных, но ещё вполне пригодных разлучить душу с телом, если попасть в тело. Ручной вибратор — штука громоздкая, картина была довольно забавная: молодые женщины, сгибающиеся под тяжестью боевых аппаратов, — только сомневаюсь, что даже у тех, кто созерцал эту картину по стерео, возникло веселье, слишком уж неигрушечными были эти игрушки. Зато в мужской толпе, заполнившей все подступы к правительственному дворцу, вибраторов я не увидел — наверное, опасались, что полиция отберёт их ещё на подходе ко дворцу, но что половина мужчин вооружена карманным оружием, сомнения не было: толпа готовилась дать отпор войскам, если они нападут на женщин, в нестройной схватке карманные импульсаторы ещё эффективней вибраторов.
Радон Торкин, артистка не только по недавней профессии, но и по призванию, постаралась превратить второй поход во дворец в красочное театральное действие. Она шла впереди колонны, вышедшей из дома Нормы Фриз, размахивала импульсатором над головой и выкрикивала не то призывы, не то проклятия — в общем гуле слова пропадали. Вероятно, она догадывалась, что улица не театральный зал и крики её разберут только близкие соседи, и потому дополняла слова ещё и командными жестами — все её спутники в передовом отряде дружно кричали, когда кричала она, отвечали ей воплями ненависти к президенту. И она, конечно, позаботилась о своей внешности — длинные её волосы были старательно растрёпаны, грим на впалых щеках рисовал мертвенную бледность, наведённые чёрным глаза свирепо горели. Если раньше она только походила на ведьму, то сейчас была подлинной ведьмой, предводительницей бесовского воинства, достойной подругой Верховного Сатаны на хорошо организованном шабаше.
Отряд её двигался неистовой орущей толпой, а за ним, держа отчётливую дистанцию, шествовала Норма Фриз в окружении своих сторонников. Здесь не раздавалось диких криков, не взмётывались над головами руки, никто не размахивал оружием — Норма помнила, что её собираются выдвигать в президенты, надо сохранять чинность, чтобы не умножать противников при голосовании. Вокруг Нормы Фриз теснились мужчины, я всматривался в них, стараясь заранее постигнуть, на что они способны. Они способны на всё, показывали их нахмуренные, злые лица и то, что многие не вынимали рук из карманов — сжимали приготовленные к бою импульсаторы. Они шли не защищать свою руководительницу от охраны дворца, они готовились требовать, а не упрашивать. И я, разглядывая их угрюмые лица, предчувствовал, что близится тот решающий взрыв событий, какой предвещал Джон Вудворт.
А к двум колоннам, шедшим от дома Нормы Фриз, присоединилась уличная толпа. К отряду Радон Торкин пристало немного, на него больше любовались, чем стремились влиться в его орущие ряды, но окружение Нормы Фриз удваивалось с каждым кварталом. Ко дворцу подошли уже не сотня, а тысячи человек — воинское соединение, готовое к схватке, так показало нам стерео Кортезии. И колонну, приблизившуюся к воротам, тут же умножила вся собравшаяся в окрестностях толпа. Я видел, как многие вынимали из карманов импульсаторы, в последний раз проверяя, правильна ли настройка на разряд, и снова — до поры — прятали. Не знаю, сознавали ли две руководительницы, на что ведут толпу, но толпа готовилась к драке за них.
Охрана дворца настроилась на отпор. К вооружённой страже, оснащённой лишь личным оружием, добавились войска. Два ряда водоходов выстроились на центральной аллее, нацелив стволы своих вибраторов на дорогу. Из люков машин выставились их командиры — выжидали приказа из дворца, чтобы нырнуть вглубь и начать боевой обстрел. У меня стеснилось сердце. Две женщины вели толпу, распалённую негодованием и жаждой мщения. Их были тысячи, орущих и кипящих от молчаливой ярости мужчин. А им противостояло два десятка машин с исполнительными операторами и хладнокровными командирами, послушными только приказу. Силы были слишком неравны, я лучше всякого другого мог это понять. И осатанело распатланная старуха Радон Торкин, и исступлённо-спокойная Норма Фриз даже и отдалённо не представляли себе реальной раскладки сил. Одно, только одно ещё оставляло надежду на благоприятный исход. Амина Аментолу до сих пор никто не мог упрекнуть в глупости, да и в ненужной жестокости его не укоряли. Вся эта масса прихлынувших ко дворцу людей была обречена на быстрое и беспощадное уничтожение, но что будет потом? Восстание всего народа, гражданская война? Аментола не мог допустить такого чудовищного завершения своей политической карьеры! Но зачем тогда он вызывал во дворец боевые машины? Толпа могла не ведать, но я-то знал — это была последняя модель, самое грозное из передвижных средств уничтожения, мы уже встречались с такими машинами на поле боя — и встреча у самых оснащённых наших войск порождала на линии их движения завалы трупов.
Последний отряд подошёл к воротам. Радон Торкин выдвинулась вперёд и замахала своим ручным импульсатором, как сигнальным флажком. Многотысячная толпа замерла в грозном молчании. Тишина была настолько полной, что повелительный крик Радон услышали и в отдалении:
— Отворяйте ворота! Стража, вы слышите меня? Мы идём к президенту. Немедленно отворяйте.
И словно услышав её приказ, ворота стали отворяться. Ни одного человека не виделось за ними в глубине сада, ни один охранник не подошёл к воротам, они раскрывались сами. Дворец не противился толпе, ей разрешали войти. Какое-то мгновенье Радон Торкин не верила в такой поворот событий и не решалась на первый шаг, но тут же, справившись с неожиданностью, двинулась внутрь. Она шла неторопливо, словно возглавляла какое-то торжественное шествие, и ещё выше вздымала над головой свой почти невидимый в костлявой руке — не длиннее одного из её длинных пальцев — карманный импульсатор.
И подчиняясь заданному ею шагу, двигался за ней правильными шеренгами переставший кричать боевой отряд. А за отрядом Радон Торкин так же торжественно шествовала группа Нормы Фриз с охраной из мужчин. И ни один из её отряда не возвышал голоса, не выкрикивал призывов и угроз — молчание вдруг стало обязательно для каждого, кто переступал ворота президентского парка.
И толпа, валившая вслед двум отрядам, так же согласно подчинялась никем не отданному, но всеми понятому приказу не бесчинствовать, не нарушать недостойным шумом готовящегося важного события.
А я с волнением глядел на бесконечную колонну — несколько тысяч человек явились на встречу с президентом — и думал о том, что в момент, когда вся площадь перед дворцом и вся длинная аллея будут заполнены, внезапно нырнут в глубину машин их командиры, захлопнутся люки водоходов и повернувшиеся на людей орудия озарятся вибрационными залпами! И осуждённой на гибель толпе не придётся сражаться, ни одного живого человека не видно вокруг дворца, только могучие железные машины на аллее. Заполнявшие дворцовую площадь люди готовились к сражению, но сражения не будет, будет жестокое истребление всех пришедших сражаться.
Радон Торкин подошла к парадному входу во дворец и остановилась. Остановилась и ведомая ею толпа, второй отряд во главе с Нормой Фриз пристроился к первому, сама Фриз встала рядом с Торкин. Замерли и плотно сдвинутые ряды всех идущих за двумя женщинами. Радон Торкин взмахнула своим импульсатором и прокричала:
— Президента на расправу! Амин Аментола, выходи!
Я не отрывал глаз от водоходов. Если командиры машин нырнут вниз и задрают люки, ничто не спасёт толпу от казни. И самый раз, прикидывал я, начинать боевые действия. Я чуть не кричал от боли и бессилия — я ничем не мог помочь безрассудным женщинам и увлечённым ими мужчинам. Они стояли вплотную перед жерлами своей смерти, а я был слишком далеко!
Ни один командир машин не спускался вниз. Они по-прежнему недвижимо высились над люками, молча следили за толпой и ожидали команд из дворца. Радон Торкин снова взмахнула своим крохотным импульсатором и прокричала:
— Аментола, сколько мне ждать? Выходи, я убью тебя!
Створчатые двери дворца медленно раскрылись, из дверей вышел Аментола. Он шёл один — неторопливо приблизился к Радон Торкин, встал перед ней на первой ступеньке дворцовой лестницы. Он молча смотрел на неё, его грудь, открытая для удара, была на уровне её головы — лучшей мишени и вообразить нельзя было!
Нет, он был всё же очень импозантен, Амин Аментола, последний президент Кортезии. Я много раз видел его на экране, но не любовался его обликом, не восхищался его мужественной красотой — он был моим врагом, врагами не восхищаются, их ненавидят. Но сейчас, когда он встал перед своей убийцей, воспроизведённый десятками тысяч стереоэкранов, я невольно залюбовался. Высокий, широкоплечий, пропорциональный, с очень умным и тонким лицом, с ухоженной, кофейного цвета, гривой, он молча возвышался над распатланной, костлявой, неистовой женщиной и спокойно ждал, что же она осмелится совершить.
А она с дико перекошенным уродливым лицом какое-то мгновение только ошеломлённо глядела на него, потом подняла руку с импульсатором и снова её опустила. Три раза она поднимала на него руку и три раза опускала её, а он стоял и ждал, на его лице медленно возникала немного грустная, понимающая улыбка. В толпе каменело безмолвие.
— Бросайте оружие, Радон! — негромко сказал президент.
Радон Торкин бросила импульсатор на землю и разрыдалась. Президент поднял руку. Таким жестом показывают, что хотят говорить, и взывают к молчанию. Молчание уже было, его нарушал только бессильный плач маленькой, похожей на ведьму, старухи, закрывавшей лицо обеими руками.
Президент сказал, разрывая негромким голосом горячую тишину:
— Друзья мои, спасибо, что вы пришли сюда. Хочу порадовать вас важной новостью. Только что закончилось последнее заседание правительства. Больше недели мы взвешивали все возможности международной обстановки. Наши решение единогласно. Мы отказываемся от дальнейшей войны с Латанией и её союзниками. Только что я послал об этом депешу диктатору Гамову.
То, что произошло вслед за последними словами президента, я увидел только впоследствии и неоднократно потом наслаждался удивительным зрелищем всеобщего восторга. Амин Аментола долгое время был самым популярным президентом Кортезии, но неудачной войной и невежливостью с женской делегацией подорвал свой престиж. И сегодня, в одно мгновение, всего несколькими словами вернул себе и популярность, и любовь.
А я в то мгновенье, забросив стерео, включил связь с Гамовым. То же сделал и он. Мы глядели один на другого, и смеялись, и плакали, и бесcвязно орали друг другу:
— Гамов, победа! — кричал я. — Победа! Наконец-то победа, Гамов!
— Семипалов, мир! — орал он. — Дорогой мой Семипалов, мир!
Часть шестая
Очищение
1
Воистину это был сияющий зенит его политической славы!
Должен сделать важное пояснение.
Весь мир считал, что я замещаю Гамова во всех его делах, то есть что мне досконально известно о всех его замыслах. Но у него были тайны и от меня, только сам я не подозревал, что утаивается нечто важное. И когда Гамов захотел собрать всемирный съезд для учреждения мирового правительства, я согласился, что наконец-то завоёвана возможность всепланетного государственного единства. Меньше всего я мог предполагать, что и такое истинно историческое совещание Гамов тоже превратит в театральный спектакль — к тому же самый блистательный из всех, поставленных им на мировой сцене. Только два человека понимали его замысел — Гонсалес и Пустовойт. И не только понимали, но и усердно — каждый в своей отрасли — способствовали его постановке и блеску. Поэтому буду описывать увиденное не как активный участник события — так до сих пор я строил своё повествование — а как зритель, в достаточной мере посторонний, чтобы искренне поражаться тому, что совершалось.
А реально всё происходило так.
В Адан съезжались приглашённые издалека. Список гостей составлял не я, а Вудворт, ему помогал Гонсалес — кажется, единственный случай, когда эти два человека сочинили что-то дружески согласованное. Правда, Гонсалес — и тоже впервые в своей мрачной карьере — не ставил себе цели кого-то схватить и свирепо наказать. Просто он лучше любого знал, какова ответственность и истинная роль в войне каждого, кого пригласили, — и Вудворт не мог не оценить такой помощи. Что же до Павла Прищепы, то наш блистательный разведчик скромно объяснил мне потом, что считает себя открывателем тайн, а тайны всё же составляют лишь часть мировых событий, которые относятся к специальности Вудворта и Гонсалеса. Приглашения, естественно, подписывал не Гонсалес, вряд ли его имя могло вызвать охоту приехать в Адан — они шли от Гамова и Вудворта, так мы постановили на Ядре.
Я говорю всё это потому, что для меня стало неожиданностью появление многих людей, а ещё больше то, как они держались в Адане. Конечно, я не удивился, что тощий король Кнурка Девятый всюду выступает в сопровождении своего министра, посла и разведчика — уж не знаю, какая из профессий была важнейшей, — толстощёкого Ширбая Шара, а тот каждую свободную минутку — об этом доносил Прищепа — использует для встречи с красавицей Анной Курсай. И ещё меньше удивило меня, что подслеповатый и надменный властитель Великого Лепиня Лон Чудин ни разу не показывался на людях вместе со своим братом Киром Кируном: тайные враги, они открыто расплевались после того, как брат-президент впал в панику, когда эшелоны помощи пошли в Корину и Клур — властительный чурбан предвидел, что наступает конец войны и Великий Лепинь вскоре окажется без пособий Кортезии; а свирепый брат-главнокомандующий доказывал, что самый раз нанести нам удар, ибо щедрые подачки врагам обессилили нашу армию. Но Гамов с Вудвортом пригласили обоих — и ни один не осмелился отказаться. Естественным я счёл и то, что королева Корины Агнесса всюду ходит вместе с президентом Нордага Францем Путраментом и его диким зверьком — дочкой Луизой, тут всё же была душевная близость; и даже то, что блистательная Людмила Милошевская не расстаётся с двумя взаимными врагами, Вилькомиром Торбой и Понсием Марквардом: она заставляет обоих мужчин (каждый почти на голову ниже её) держать себя под руку, — и оба, отворачивая один от другого лицо, одновременно преданно прижимаются к ней. И то не удивило меня, что два других непримиримых врага, скелетообразный Пимен Георгиу и гориллоподобный Константин Фагуста, ещё больше, чем оба патина, отворачиваясь друг от друга, бдительно держатся вместе — не проронить бы ни слова из того, что может каждый сказать в любую минуту.
Но что импозантный Амин Аментола тоже будет расхаживать не один, а в троице, выбрав в сопровождающие величественную Норму Фриз и ведьмообразную Радон Торкин, больше чем просто удивляло меня. Я ожидал, что два старых противника, президент и сенатор Леонард Бернулли, радостно пожмут друг другу руки и дружески поговорят, ведь с Бернулли сняли все обвинения в предательстве. Но они не захотели встречаться, да и обе женщины, не отходившие от президента, и не предоставили бы ему времени для общения с сенатором. А ведь одна недавно провозглашала, что её жизненной целью является согнать Аментолу с его правительственного кресла, а другая — тоже публично, к тому же размахивая миниатюрным импульсатором, свирепо клялась, что разрядит это оружие в президента при первой же их встрече. А сейчас они расхаживали втроём, Аментола что-то говорил, улыбаясь, Норма Фриз подтверждала его слова кивками головы, а Радон Торкин махала костлявыми руками — тоже, очевидно, в знак согласия.
Впрочем, если бы я подробно описывал всё, что показалось мне невероятным в поведении гостей, пришлось бы заполнить много страниц. И всё это предстало бы ничтожным в сравнении с тем, что совершилось на самой конференции.
День был как все другие дни в эту пору года — по небу тащились ватные облака, с утра просеивался дождь, к обеду дождь превратился в снег и похолодало. И облака, и дождь, и снег, тем более внезапное похолодание, были вольным творением самой природы — ни один метеогенератор не задействовали, так Штупе велел сам Гамов.
За час до открытия конференции все улицы, ведущие ко дворцу, заполнили любопытствующие, почти половина города захотела посмотреть, как поедут из гостиниц водоходы с участниками и гостями. К назначенному часу зал больших заседаний — тот, где с Гамовым недавно случился сердечный припадок — был уже заполнен. Он показался мне незнакомым: одиноко стоял на возвышении маленький стол для столь же маленького президиума, а все кресла, раньше заполонявшие помещение от стены до стены, были вынесены. Зато, это я тоже отметил, собравшиеся свободно общались друг с другом, кто теснился к стенам, кто прохаживался, звучало многоголосье — зал смутно гудел, как большая машина.
— Пора, друзья, — сказал Гамов мне и Вудворту. Всё Ядро находилось в комнатке рядом с залом, но выйти к собравшимся должны были только мы трое, так решили заранее, остальные же удалились в зал. Гамов был очень бледен, глаза его лихорадочно блестели. Он волновался, это не одному мне бросилось в глаза. Я встревожился — мне показалось, что он способен на новый публичный припадок.
— Идём, конечно, — сказал я и взял его на всякий случай под руку.
Мы трое разместились на возвышении за столом — Гамов в центре, я по правую его руку, Вудворт по левую. Я увидел в зале дружно соприкасавшихся плечами Пустовойта и Гонсалеса. И этому тоже удивился — соседство было всё же противоестественное. Что до остальных наших руководителей, то они затерялись в общей массе, и никто не собирался выделяться.
Я забыл упомянуть ещё одно — и достаточно важное — обстоятельство. Перед возвышением выстроилась охрана и оттеснила публику подальше от стола. Образовалась странная ситуация — трое за крохотным столиком на возвышении, перед ними пустое пространство с добрую треть зала, а на двух остальных третях сгустилось человек триста. Мне почудилось, что Гамов страшится нападения и не хочет, чтобы бывшие враги приблизились к столику. Помню, как это меня возмутило. Чего-чего, а нападения ожидать было глупо, такая акция не к моменту. Снова повторяю — я даже не догадывался о замыслах Гамова.
— Начнём! — Гамов торжественно встал. — Наша тема сегодня — послевоенное устройство мира.
И хоть было по меньшей мере странно призывать к серьёзному обсуждению серьёзнейшей проблемы людей, стоящих на ногах и в сутолоке толкающих друг друга, никто, и я в том числе, не удивился призыву Гамова. Все мы ожидали новой большой речи диктатора, речи можно выслушивать и стоя.
Но вдруг впавшая в истерику Радон Торкин не дала Гамову начать речь. Старая дама стояла впереди с Амином Аментолой и, услышав слова Гамова, кинулась к нему. Двое охранников задержали её, она забилась в их дюжих руках и подняла свой громкий голос до вопля:
— Где моя дочь? Диктатор, что вы сделали с моей дочерью?
Глубоко уверен, что Гамов не планировал заранее внезапного неистовства бывшей певицы, но мгновенно сообразил, что отчаяние и ярость Торкин могут принести только пользу его планам. Он мигом преобразился. В нём сразу пропало всё болезненное, на бледные щёки вернулась краска, он даже как-то вдруг ощутимо вырос. Он сделал резкий жест, даже неистовая Торкин поняла, что он будет отвечать ей, и так оборвала свой крик, словно захлебнулась собственным воплем.
— Радон Торкин, — громко произнёс Гамов, — разве вы не читали извещения о казни вашей дочери?
Старая дама снова впала в неистовство:
— Дайте то, что осталось от моей дочери! Будьте вы все прокляты, будьте вы все прокляты!
Она снова пыталась прорваться сквозь охрану, и снова её отбросили назад. Гамов опять поднял руку, призывая к спокойствию. Радон Торкин больше не пыталась пробиться к столику, только глухо, какими-то собачьими всхлипами, рыдала. Гамов приказал:
— Комендант! Выдайте матери то, что осталось от её дочери!
Весь зал вдруг вздохнул единым вздохом. Боковые двери наискосок от нашего столика распахнулись, в проёме у створок встала стража. Сам я до того взволновался, что словно бы со стороны услышал тяжкий стук моего сердца. Радон Торкин, обессилев, повисла на руках охранников, только глаза, полубезумные, налитые кровью, старались высмотреть, что совершалось там, у двери. А за дверью кто-то бежал, стуча каблуками по паркету, в зал ворвалась молодая женщина, охрана расступилась перед ней. Женщина взмахнула руками и бросилась к Радон Торкин, непрерывно, ликующе крича:
— Мама, это я! Мама, я жива! Мама, мама, я живая!
И на радостный крик дочери Радон Торкин зал ответил ликующим, в триста глоток, воплем и толкотнёю. И сам я тоже что-то кричал, и вскочил со стула, и махал руками, так это было всё неожиданно, так невероятно для меня. А охрана оттесняла назад нахлынувшую толпу, только двум разрешила быть в пустом пространстве возле нашего столика — кричащей дочери и Радон Торкин, рыдающей на её груди.
Я повернулся к Гамову, хотел и поздравить его, и упрекнуть, что он таил от меня такое радостное событие, как вызволение дочери Торкин из жестоких лап Гонсалеса. Но он, не оборачиваясь ко мне, поднял руку, призывая зал к молчанию, — торжественное действо ещё не завершилось.
Не сразу увидели его поднятую руку и не сразу поняли, что готовится новая неожиданность. А когда установилась тишина, её снова прервал шум в коридоре. На этот раз не цокот дамских каблучков, а тяжкий грохот мужских сапог донёсся из дверей — в коридоре шагал строй мужчин, шагал неторопливо и стройно, шагал военным церемониальным шагом, мощно печатая шаг по звонкому паркету. Я вскочил, снова сел, на мгновение прикрыл глаза — не сумел поверить в правду того, что глаза показали.
В зал входили нордаги, те взятые в плен офицеры, о которых я твёрдо знал, что они были приговорены к расстрелу Аркадием Гонсалесом и что слабые увещевания министра Милосердия Пустовойта не смягчили свирепость приговора. И впереди в парадном обмундировании вышагивали два генерал-лейтенанта — командующий армией Сума Париона и начальник его штаба Кинза Вардант. И на оживших мертвецов они не походили, тогда, в Забоне, в конюшне, превращённой в тюрьму, и в стеклянной клетке, ставшей для них камерой, я видел их в значительно худшем состоянии.
Они остановились, подняли руки и дружно выкрикнули приветствие.
Я перевёл глаза с генералов Нордага на стоявших рядом Гонсалеса и Пустовойта. И то, что я увидал, тоже отнёс к неожиданностям. Они уже не просто стояли рядом, два старых противника, министр Террора и министр Милосердия, а обнимались, как друзья. И, обнявшись, смотрели на меня, на меня одного — ловили и наконец поймали мой взгляд. Гонсалес захохотал и состроил мне гримасу, Пустовойт погрозил кулаком. И я понял: Гонсалес упрекает меня в том, что я видел в нём лишь злотворение, а Пустовойт напоминает, как я жестоко отчитал его, когда он проговорился, что обеспечит пленным хорошие условия. «Хорошие условия после расстрела? — с ненавистью сказал я тогда своему другу Николаю Пустовойту. — А есть ли у тебя хоть понятие о милосердии, министр Милосердия?» Хорошо бы теперь нам посчитаться, да нельзя, время для торжества, а не для свары, сказал мне шутливо поднятый кулак. И я чуть не заплакал, так хорош был его запоздалый упрёк за неверие в милосердие.
Франц Путрамент, бросив королеву Агнессу и дочь, кинулся к своим нежданно воскресшим генералам и жал им руки, и что-то радостно твердил, а они стали вытирать глаза — так расстрогались. Что до меня, то я на их месте не тратил бы голоса на хорошие слова, а горько бы упрекнул президента за то, что в трудную минуту он предал их, отказавшись выручить из плена. Впрочем, рассуждал я тогда же, сейчас не до укоров, да, вероятно, и сами генералы не видят ничего зазорного в том, что их бросили на произвол судьбы: махнуть рукой на попавших в плен — это вполне согласуется с благородным кодексом воинской чести, в этом смысле Путрамент не отступал от правил.
А в зал, уже без особых приказаний Гамова, входили, вбегали, вливались шумными волнами всё новые люди, неожиданные люди — из тех, об аресте и плене которых объявлялось официально, о которых знали, что они испытали муки свирепых допросов и в завершение получили самую распространённую кару — пулю в затылок в тайных застенках, либо, для особо отмеченных, виселицу на городской площади. Я вспомнил о своей мнимой казни на такой же площади и поразился, до чего же я был наивен. Мне ведь думалось, что только для меня одного придумывалась техника видимого умерщвления без реальной смерти, а это была хорошо разработанная практика. И в доказательство того в зале появлялись люди, приговорённые к смерти до меня, те самые, за гибель которых я ненавидел чёрного палача Гонсалеса. Был момент, когда мне показалось, что все вообще смерти на войне и кары Чёрного суда не больше чем огромный обман — так неожиданно, так невероятно, так чудовищно немыслимо всё новые бывшие мертвецы с ликованием вторгались в зал. Но я одёрнул себя. Я велел себе вспомнить тысячи трупов, тысячи разорванных тел, усыпавших поля войны. Только часть людей проходила через застенки Гонсалеса, только часть этой малой части удостоилась тайного спасения — вот они и возникают в зале, словно воскресшие из небытия, можно поражаться, но безмерно радоваться нечему. Но я продолжал безмерно радоваться. Я вскрикивал при появлении каждого давно засчитанного в погибшие, до того радостно было само чудо воскрешения, даже если оно совершалось хоть для одного человека, — а в зал вторгались сотни внезапно воскресших.
Уже не осталось свободного пространства перед нашим столиком, нас стали толкать. Гамов не сумел сразу подняться, у него вдруг ослабели ноги. Мы с Вудвортом взяли его под руки и отвели к стене, там было спокойней. Гамов вдруг заплакал. Он пытался достать платок из кармана, но не достал и стал вытирать щёки рукой. Две стереокамеры вмиг нацелились на него, я погрозил кулаком одной, потом другой, обе отвернули свои раструбы, но какие-то другие стереокамеры продолжали фиксировать нас троих: уже на другой день стерео разнесло по всей планете не только торжество в зале, но и неожиданную слабость Гамова.
— Вам надо уйти, — сказал я. — Вы ещё не оправились от болезни.
— Да, я пойду, — сказал он покорно. — Помогите мне.
Мы довели его до выхода из зала, там подскочили Сербин и Варелла. Мы передали Гамова солдатам и воротились в зал. Вудворту хотелось пообщаться с Амином Аментолой — всё же старые, со студенчества, знакомые. Я спросил, хочет ли он встретиться с Леонардом Бернулли, ведь не просто знакомые, а бывшие друзья. Вудворт встречи с Бернулли не искал — непредсказуемо едкий язык у его старого друга, — но если Бернулли сам отыщет его, то от разговора Вудворт не откажется. А мне надо было потолкаться в толпе, поздравить воскресших из небытия с вызволением.
— Какие неожиданности! — сказал я. — Всего мог ожидать, но не милосердия у Гонсалеса и хитрости у простака Пустовойта. И как умело скрывали свои секреты!
— Неожиданности ещё будут, Семипалов. Душой ощущаю, что придётся ещё поражаться.
— О каких новых неожиданностях вы говорите, Джон?
— Не знаю. Но чую, что мы вступили в эру непредсказуемых событий.
2
Утром Гамов созвал Ядро.
Он явился в овальный зал преображённым. Последние остатки болезни, сказавшейся во время «Марша заведомо погибших» — именно так обозвал эту акцию Константин Фагуста, — исчезли, словно их и не бывало. И особого ликования по поводу «воскрешения мертвецов» он не показывал. Он выглядел энергичным, живым, быстрым в решениях. Можно было не опасаться, что новая волна болезни опять повалит его в постель. Уверенностью в его здоровье и был продиктован упрёк, которым я открыл Ядро.
— Хочу задать личный вопрос, Гамов. Впрочем, он касается не одного меня, а всех нас. Мы радуемся, что много людей, которых считали погибшими, остались в живых. Но почему это надо было скрывать от нас? Камуфляж, придуманный Гонсалесом и Пустовойтом, был нужен для остального мира — страх кары действовал на врагов сдерживающе. Но мы? Руководители, связанные единой целью?
Гамов заранее предвидел мой вопрос.
— Во-первых, не двое, а трое членов Ядра знали секрет, — спокойно возразил он. — Я придумал эту маскировку, а министры Террора и Милосердия согласились со мной.