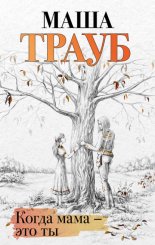Весь невидимый нам свет Дорр Энтони

Мари-Лора снимает платок и отдает его мадам Манек. Соленый, водорослевый, серо-блестящий воздух забирается за воротник.
— Мадам?
— Да?
— Что мне делать?
— Просто иди.
Она идет. Вот под ногами холодная окатанная галька. Вот — хрусткие водоросли. Вот что-то более мягкое — гладкий мокрый песок. Она наклоняется и растопыривает пальцы. На ощупь он как холодный шелк. Роскошный холодный шелк, на который море выложило дары: окатанные камешки, раковины, щепки. Пальцы зарываются в песок, щупают; капельки дождя колют шею сзади, тыльную сторону ладоней. Песок выпивает тепло из кончиков пальцев, из босых ступней.
Узел, который Мари-Лора весь месяц чувствовала в себе, понемногу слабеет. Она идет, нагнувшись, вдоль приливной полосы медленно-медленно и воображает, как берег тянется в обе стороны, очерчивая мыс, обнимая внешние острова — всю ажурную филигрань бретонского побережья с его заросшими мысами, полуразрушенными батареями и развалинами средь дикого винограда. Воображает город у себя за спиной, его высокие укрепления, спутанные улочки. И внезапно он становится маленьким, как папин макет. Только папа не сумел передать то, что окружает макет. И оно — то, что вокруг макета, — поразительно.
Над головой проносятся чайки. Каждая из сотен тысяч песчинок в кулаке Мари-Лоры трется о соседнюю. Ей кажется, что отец поднял ее в воздух и три раза прокрутил.
Никакие немецкие солдаты их не арестовывают. Никто даже с ними не заговаривает. За три часа онемевшие пальцы Мари-Лоры нашли медузу, обросший ракушками буй и тысячу отшлифованных морем камешков. Она зашла в воду по колено и вымочила подол платья. Когда мадам Манек наконец приводит ее, мокрую и ошарашенную, на улицу Воборель, Мари-Лора взбегает на пятый этаж, стучит к Этьену и входит. Все лицо у нее в мокром песке.
— Вас долго не было, — тихо произносит он. — Я волновался.
— Вот, дядя. — Из кармана она вынимает ракушки и тринадцать шершавых от песка кварцевых окатышей. — Я принесла тебе это. И это, и это, и это.
Гранильщик
За три месяца фельдфебель фон Румпель съездил в Берлин и в Штутгарт; оценил сотню конфискованных колец, десятки браслетов с бриллиантами, латвийский портсигар с голубыми топазами. Последние недели он живет в парижском Гранд-отеле и рассылает запросы, как почтовых голубей. Каждый вечер перед ним заново оживает мгновение, когда он двумя пальцами держал увеличенный лупой грушевидный алмаз и верил, что перед ним стотридцатикаратное Море огня.
Он смотрел в льдисто-синее нутро камня, где миниатюрные горные хребты горели алым, коралловым и малиновым огнем, а многоугольники цвета вспыхивали и гасли при вращении, и почти убедил себя, что легенды не лгут, что столетия назад царевич носил корону, ослеплявшую гостей, что владелец камня бессмертен, что прославленный алмаз извилистыми путями истории скатился точно ему в ладонь.
То была несравненная радость торжества, но к ней примешивался страх: камень казался зачарованным, не предназначенным для человеческих глаз. Такое, раз увидев, не забудешь.
Но. Рассудок все-таки взял верх. Грани сходились под недостаточно четким углом, рундист блестел не алмазным, а чуть жирным блеском. А главное, в камне не было тончайших трещинок, вростков, ни одного включения. «Не бывает настоящих алмазов без дефектов, — говорил когда-то отец. — Настоящий алмаз всегда небезупречен».
Неужто он впрямь рассчитывал заполучить камень с первого раза? Одержать такую победу за один день?
Конечно нет.
Кое-кто подумал бы, что фон Румпель впадет в отчаяние, но это не так. Напротив, он чувствует себя обнадеженным. Музейщики не заказали бы такую качественную подделку, не будь в их распоряжении настоящего камня. В Париже в промежутках между другими делами фон Румпель сократил список гранильщиков с семи до трех, потом — до одного. Это некий Дюпон, полуалжирец, который начинал со шлифовки опалов. Перед войной он зарабатывал тем, что гранил из шпинели фальшивые бриллианты для престарелых дам и баронесс. И для музеев.
Как-то февральским утром фон Румпель заглядывает в опрятную мастерскую Дюпона неподалеку от Сакре-Кёр. Разглядывает экземпляр «Драгоценных камней и минералов» Стритера, зарисовки плоскостей спайности и тригонометрические диаграммы, используемые при огранке. Найдя несколько пробных форм, сделанных в попытке точно передать грушевидную форму музейного камня, он понимает, что вышел на верный след.
По указанию фон Румпеля Дюпону выдают фальшивые продовольственные талоны. Теперь фон Румпель ждет. У него уже готовы вопросы. Делали ли вы другие копии? Сколько? Знаете ли вы, у кого они сейчас?
В последний день февраля сорок первого года щеголеватый гестаповец является с известием, что Дюпон попытался отоварить поддельные талоны. Его задержали. Kinderleicht — детская игра.
Мокрый, по-своему красивый зимний вечер, по краям площади Согласия — полосы тающего снега, на окнах блестят капли дождя, и весь город кажется каким-то призрачным. Короткостриженый унтер-офицер проверяет у фон Румпеля документы и отправляет его не в камеру, а в просторный кабинет на третьем этаже, где за столом сидит машинистка. На стене у нее за спиной намалевана глициния — от модернистской мешанины выцветшей и облупившейся краски у фон Румпеля неприятно рябит в глазах.
Дюпон пристегнут наручниками к дешевому стулу из кафетерия. Лицо у него цвета и фактуры полированного тропического дерева. Фон Румпель ожидал, что гранильщик будет напуган, возмущен и голоден, однако тот сидит прямо и спокойно. Если бы не треснувшее стекло в очках, и не скажешь с первого взгляда, что арестант.
Машинистка тушит сигарету, измазанную ярко-красной губной помадой. Пепельница до краев наполнена смятыми окурками — они похожи на горку окровавленных трупов.
— Можете идти, — кивает машинистке фон Румпель и переводит взгляд на Дюпона.
— Он не говорит по-немецки, герр фельдфебель.
— Мы объяснимся, — отвечает он по-французски. — Закройте дверь, пожалуйста.
Дюпон поднимает глаза, явно храбрясь; какая-то железа впрыскивает ему в кровь отвагу. Фон Румпелю не надо изображать улыбку: уголки губ сами ползут вверх. Он надеется получить имена, но на самом деле довольно узнать и число копий.
Милая моя Мари-Лора!
Мы сейчас в Германии, и все хорошо. Я нашел ангела, который попытается переслать тебе эту весточку. Зимние ели и осины тут на удивление красивы. И ты не поверишь — но я очень прошу поверить! — нас замечательно кормят. Меню — высший класс. Перепелки, утка, тушеный кролик. Куриные ножки, картофель, жаренный на шкварках, и пироги с абрикосами. Вареная телятина с морковью. Кок-о-вен с рисом. Пироги со сливой. Фрукты и мороженое. И добавки сколько захочешь. Я всегда с такой радостью жду обеда!
Будь вежлива с дядюшкой и мадам. Поблагодари их за то, что прочли тебе это письмо. И помни, что я всегда с тобой, всегда рядом.
Папа
Энтропия
Всю следующую неделю заключенный остается у столба, серый и промороженный насквозь. Кто-то надел на него каску и патронташ. Мальчишки останавливаются и спрашивают у трупа дорогу. Две вороны повадились садиться ему на плечи и долбить клювом голову. Наконец дворник с двумя старшеклассниками ломом вырубают ноги трупа изо льда, погружают его на тачку и увозят.
Трижды за девять дней Фредерика выбирали слабейшим. Бастиан отходит дальше обычного и считает быстрее, так что Фредерику приходится бежать метров триста — триста пятьдесят, часто по глубокому снегу, а мальчишки гонятся за ним так, будто от этого зависит их жизнь. Каждый раз его настигают, каждый раз бьют под надзором Бастиана, а Вернер молчит и смотрит.
В первый раз Фредерик выстоял семь ударов, прежде чем упасть. Во второй — шесть. В третий — три. Он не просит пощады и не уходит из школы, и Бастиана это доводит до белого каления. Отрешенность Фредерика, его инаковость — как запах, который чуют все остальные.
Вернер ищет забвения в работе. Он собрал опытный образец приемопередатчика и теперь проверяет лампы, предохранители, наушники, микрофон, контакты. И все равно вечерами в лаборатории ему кажется, будто небо померкло, а школа стала еще более темной и зловещей. У него болит живот, часто расстраивается желудок. Он просыпается среди ночи и мысленно видит берлинскую комнату, где Фредерик, в очках и рубашке с галстуком, освобождает нарисованных птиц из толстого бумажного фолианта.
Ты сообразительный мальчик. У тебя получится.
Как-то вечером, когда Гауптман сидит у себя в кабинете дальше по коридору, Вернер украдкой смотрит на величаво дремлющего Фолькхаймера и говорит:
— Тот заключенный.
Фолькхаймер моргает: каменная глыба ожила.
— Так бывает каждый год. — Он снимает кепи и проводит ладонью по жесткому ежику волос. — Говорят, это поляк, коммунист, казак. Украл выпивку, или керосин, или деньги. Каждый год одно и то же.
Ученики по всей школе заняты десятками разных дел. Четыреста детей ползут по краю бритвы.
— И фраза всегда одна и та же, — добавляет Фолькхаймер. — «Издыхающий пес».
— Но это же не по-человечески, оставлять его так? Пусть даже мертвого.
— А их не волнует, чт по-человечески.
За дверью стук шагов — идет Гауптман. Фолькхаймер откидывается в кресле, его глазницы вновь заполняются тенью, и Вернер уже не может спросить, кто эти «они».
Мальчишки подкладывают Фредерику в ботинки дохлых мышей. Зовут его давалкой, вафлером, тысячей обидных мальчишеских прозвищ. Дважды старшеклассники уносят его бинокль и мажут линзы калом.
Вернер убеждает себя, что делает все возможное. Каждый вечер он драит ботинки Фредерика до зеркального блеска — у Бастиана, воспитателя или старшеклассников не будет хоть этого повода к нему прицепиться. По воскресеньям они сидят рядом в залитой солнцем столовой и Вернер помогает Фредерику с уроками. Тот шепчет, что надеется весной найти в траве за школьной стеной гнездо жаворонка. Как-то поднял карандаш, уставился в пространство и произнес: «Малый пестрый дятел». Прислушавшись, Вернер различил далекую, отдающуюся через стену дробь.
На занятиях Гауптман начинает объяснять законы термодинамики:
— Кто может сказать, что такое энтропия?
Мальчишки пригибаются к партам. Никто не поднимает руку. Гауптман идет вдоль рядов. Вернер пытается не шевельнуть ни единым мускулом.
— Пфенниг.
— Энтропия — это мера случайности или беспорядка в системе, доктор.
Мгновение Гауптман пристально смотрит на Вернера, взгляд разом соревает и леденит.
— Беспорядок. Вы слышали это слово от коменданта. От воспитателя. Необходим порядок. Жизнь, господа, — это хаос. И мы его упорядочиваем. Вплоть до генов. Мы упорядочиваем эволюцию видов. Отсеиваем все низкое и неправильное, всю мякину. Таков великий проект рейха, величайший проект за всю историю человечества.
Гауптман пишет на доске. Кадеты переписывают себе в тетради. «В замкнутой системе энтропия не уменьшается. Всякий процесс необратимо затухает».
За покупками
Несмотря на протесты Этьена, мадам Манек каждое утро водит Мари-Лору на пляж. Девочка сама завязывает шнурки, на ощупь спускается по лестнице и ждет в прихожей, с тростью наготове, пока мадам заканчивает убираться в кухне.
— Я сама найду дорогу, — говорит Мари-Лора в их пятый выход. — Не надо меня вести.
Двадцать два шага до перекрестка с рю-д’Эстре. Сорок — до арки в стене. Девять ступеней вниз, и вот она уже на песке, окруженная двадцатью тысячами морских звуков.
Она собирает шишки, принесенные волнами из неведомой дали. Толстые обрывки канатов. Скользкие катышки полипов. Один раз находит утонувшую ласточку. Больше всего ей нравится в отлив доходить до северного края пляжа, сидеть под островом, который мадам называет Гран-Бе, и шарить пальцами в оставленных морем лужицах. Только в эти минуты, когда ступни и руки ощущают холодную воду, Мари-Лора перестает думать об отце, о том, сколько в его письме правды, когда он напишет снова и за что его посадили. Она просто слушает, просто дышит.
Ее спальня заполняется камешками, окатанными стекляшками, раковинами. Сорок раковин гребешка на подоконнике, шестьдесят одна раковина трубача на комоде. Мари-Лора раскладывает их сперва по разновидностям, потом по размеру. Самые маленькие слева, самые большие справа. Заполняет ими банки, ведерки, подносы. Спальня уже пропитана запахом моря.
Почти каждое утро они с пляжа идут на зеленной рынок, иногда заглядывают к мяснику, потом разносят еду тем соседям, которые, по мнению мадам, сильнее всего нуждаются в помощи. Поднимаются по гулкой лестнице, стучат в дверь; старуха-хозяйка приглашает войти, спрашивает, какие новости, уговаривает выпить по глоточку хереса. Мадам Манек совершенно неутомима и брызжет энергией: встает рано, работает допоздна, ухитряется испечь печенье без капли молока, хлеб из горстки муки. Они вместе шагают по узким улочкам, Мари-Лора держится сзади за фартук мадам, следует за ароматом пирогов и тушеного мяса. В такие секунды мадам Манек кажется ей огромной движущейся стеной роз, колючих и благоуханных, наполненных пчелиным гулом.
Еще теплый хлеб — старенькой вдове мадам Бланшар. Суп — мсье Саже. Постепенно в голове Мари-Лоры складывается трехмерная карта с яркими ориентирами: толстый платан на Пляс-оз-Эрб, девять подстриженных шариками деревьев в горшках перед отелем «Континенталь», шесть ступенек вверх по узенькой рю-де-Коннетабль.
Несколько раз в неделю мадам относит еду безумному Юберу Базену, ветерану Великой войны, который в любую погоду спит в нише за библиотекой. Который потерял при артобстреле нос, левое ухо и глаз. Который закрывает пол-лица розовой металлической маской с нарисованным глазом.
Юбер Базен любит рассказывать про городские стены, чернокнижников и пиратов Сен-Мало. На протяжении веков, говорит он Мари-Лоре, крепость защищала горожан от кровожадных грабителей — римлян, кельтов, норвежцев, а если верить легендам, то и от морских чудищ. Тринадцать столетий, продолжает он, стены сдерживали безжалостных англичан, которые со своих кораблей обстреливали город зажигательными снарядами, и пытались уморить жителей голодом, и готовы были уничтожить все и вся.
— Женщины Сен-Мало говорили детям: «Сядь прямо. Веди себя хорошо. Иначе ночью придет англичанин и перережет тебе горло».
— Юбер, перестань, — просит мадам Манек. — Ты ее пугаешь.
В марте Этьену исполняется шестьдесят. Мадам Манек тушит маленьких двустворчатых моллюсков с луком-шалотом и укладывает на тарелки вместе с шампиньонами и четвертинками сваренных вкрутую яиц. Во всем городе еле-еле удалось сыскать два яйца, говорит она. Этьен своим мягким голосом рассказывает об извержении Кракатау, когда — одно из самых его ранних воспоминаний — вулканический пепел из Вест-Индии окрасил алым закаты над Сен-Мало и каждый вечер над морем горели ярко-малиновые полосы. У Мари-Лоры карманы полны песком, обветренное лицо горит, и ей кажется, будто оккупация где-то далеко-далеко, за тысячи километров отсюда. Она скучает по папе, по Парижу, по доктору Жеффару, по садам, по своим книгам и шишкам — все это дыры в ее жизни. Однако за последние несколько дней существование сделалось выносимым. По крайней мере, на побережье ее страхи и горести уносит ветром, запахами и светом.
После того как они с мадам Манек возвращаются домой, Мари-Лора обычно сидит на кровати под раскрытым окном и путешествует по макету. Ее пальцы движутся мимо кораблестроительной верфи на рю-де-Шартр, мимо булочной мадам Рюэль на улице Робера Сюркуфа. В воображении она слышит, как булочники скользят по засыпанному мукой полу, словно конькобежцы по льду, и ставят противни в ту самую четырехсотлетнюю печь, у которой стоял еще прадедушка мсье Рюэля. Ее пальцы проходят мимо ступеней собора — здесь старик подстригает розы в саду, там, за библиотекой, безумный Юбер Базен разговаривает сам с собой, заглядывая в горлышко пустой бутылки, вот монастырь, вот ресторан «У Шуше» рядом с рыбным рынком, вот дом номер четыре по улице Воборель с парадной дверью в неглубокой нише; здесь на первом этаже мадам Манек, снявши обувь, стоит на коленях перед кроватью и, перебирая четки, молится почти о каждой живой душе в городе. А на пятом этаже Этьен ходит вдоль шкафов, ведет пальцами по опустевшим полкам, где раньше были его приемники. А где-то за краем макета, за краем Франции, там, куда не добираются пальцы Мари-Лоры, сидит в камере папа. На подоконнике десятки его выструганных макетов, а надзиратель несет ему обед. Ей отчаянно хочется верить, что это и впрямь перепелки, утка, тушеный кролик. Куриные ножки, картофель, жаренный на шкварках, и пироги с абрикосами — десять подносов, дюжина тарелок, ешь не хочу.
Nadel im Heuhaufen
Полночь. Гончие доктора Гауптмана капельками ртути несутся по заснеженным полям за школой. Сам учитель в меховой шапке идет за ними мелкими шагами, словно отмеряет расстояние. Замыкает процессию Вернер с двумя приемопередатчиками, которые они тестировали последние месяцы.
Гауптман поворачивает сияющее лицо:
— Отличное место, отличные линии визирования, ставьте приборы на землю, Пфенниг. Я отправил нашего друга Фолькхаймера вперед. Он где-то там, на холме.
Вернер не видит следов — только искрящий лунный свет и заснеженный темный лес вдали.
— У него с собой передатчик в снарядном ящике. Он должен спрятаться и передавать, пока мы его не найдем или пока не сядет аккумулятор. Даже я не знаю, где он. — Гауптман хлопает руками в перчатках, и собаки принимаются скакать вокруг него, их дыхание клубится в ночном воздухе. — Десять квадратных километров. Найдите передатчик, найдите нашего друга.
Вернер глядит на десять тысяч засыпанных снегом деревьев:
— Там, герр доктор?
— Там. — Гауптман вытаскивает из кармана флягу и не глядя отвинчивает крышку. — Это-то и есть самое занятное, Пфенниг.
Гауптман вытаптывает на снегу пятачок, Вернер ставит первый приемопередатчик, рулеткой отмеряет двести метров, ставит второй. Разматывает провода заземления, поднимает антенны, включает приборы. Пальцы у него уже занемели.
— Ищите на восьмидесяти метрах, Пфенниг. Обычно полевая команда не знает, на какой частоте искать, но сегодня, для первого испытания, мы немного смухлюем.
Вернер надевает наушники, и его слух наполняется треском. Он настраивает радиочастотный усилитель и фильтр. Скоро оба прибора уже слышат пиканье передатчика.
— Я засек его, герр доктор.
Собаки скачут и фыркают от волнения. Гауптман широко улыбается. Он достает из кармана стеклограф:
— Прямо на радио, кадет. У команды обычно не бывает бумаги.
Вернер пишет на металлическом корпусе формулы и начинает подставлять числа. Гауптман протягивает ему логарифмическую линейку. Через две минуты у Вернера есть пеленг и расстояние: два с половиной километра.
— А на карте? — Маленькое аристократическое лицо Гауптмана светится довольством.
Вернер с помощью циркуля и транспортира проводит линии.
— Ведите меня, Пфенниг.
Вернер прячет карту в карман куртки, запаковывает приемопередатчики и, неся по одному в каждой руке, словно парные чемоданы, начинает взбираться на холм. В лунном свете сыплются крошечные снежинки. Вскоре школа и служебные строения вокруг нее уже кажутся игрушечными. Ущербная луна, словно полуприкрытый глаз, ползет вниз. Собаки держатся ближе к хозяину, из пастей у них идет пар. Вернер уже вспотел.
Они спускаются в овраг, вылезают наружу. Один километр. Два.
— Знаете, что такое великое мгновение, Пфенниг? — спрашивает Гауптман, тяжело дыша от подъема. Он пьян, оживлен, почти болтлив; никогда еще Вернер не видел его таким. — Это миг, когда одно становится другим. День — ночью, гусеница — бабочкой. Жеребенок — конем. Эксперимент — результатом. Мальчик — мужчиной.
На третьем отрезке подъема Вернер достает карту и по компасу проверяет азимут. Вокруг мерцают безмолвные деревья. На снегу — ничьих следов, кроме их собственных. Школы позади давно не видно.
— Запеленговать еще раз, герр доктор?
Гауптман подносит пальцы к губам.
Вернер повторяет триангуляцию и видит, что они очень близки к точке, которую он первый раз отметил на карте, — меньше чем в полукилометре. Затем убирает приборы в ящики и прибавляет шаг. Он охотник, идет по запаху. Все три собаки это чувствуют, и Вернер думает: я сумел, я решил задачу, числа стали реальностью. С деревьев сыплется снег, собаки застывают и азартно поводят носами, они чуют цель, словно фазана, Гауптман поднимает ладонь, и наконец Вернер, протиснувшись с тяжелыми ящиками между двумя деревьями, видит человека, ничком лежащего на снегу. У его ног передатчик, антенна закинута на ветку.
Великан.
Собаки дрожат, готовые ринуться вперед. Гауптман держит ладонь поднятой, а другой рукой вытаскивает из кобуры пистолет:
— Так близко, Пфенниг, медлить нельзя.
Фолькхаймер лежит левым боком к ним. Вернер видит облачко его дыхания. Гауптман наводит «вальтер» прямо на Фолькхаймера, и одно длинное, ошеломляющее мгновение Вернер уверен, что учитель сейчас убьет старшеклассника, что все они, все кадеты, в страшной опасности, и невольно слышит слова Ютты у канала: «Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают?» Что-то в душе Вернера закрывает чешуйчатые глаза, а маленький учитель поднимает пистолет и стреляет в воздух.
Великан рывком садится на корточки и вертит головой. Собаки несутся к нему, и у Вернера сердце готово разорваться на куски.
Фолькхаймер вскидывает руки навстречу несущимся псам, но они знают его, напрыгивают с лаем, играя. Он расшвыривает их, как котят. Гауптман смеется. Из дула пистолета идет дым. Доктор отпивает большой глоток из фляжки, передает ее Вернеру. Тот счастлив: он сумел угодить учителю, прибор работает, вокруг искристая лунная ночь, жгучее тепло коньяка растекается по внутренностям.
— Вот, — говорит Гауптман, — что мы делаем с треугольниками.
Псы носятся кругами, припадают к земле. Гауптман мочится под дерево. Фолькхаймер, таща тяжелый передатчик, идет к Вернеру, как будто еще вырастая на ходу, и кладет огромную руку в варежке ему на шапку.
— Всего лишь числа, — говорит он тихо, чтоб не услышал Гауптман.
— Чистая математика, кадет, — отвечает Вернер, подражая четкому выговору учителя. — Привыкайте мыслить в таких категориях.
Впервые на памяти Вернера Фолькхаймер смеется, и смех совершенно его преображает. Сейчас он совсем не страшный и похож на огромного добродушного ребенка. На себя, когда слушает музыку.
Весь следующий день воспоминания об успехе греют Вернеру душу — об успехе и почти священных мгновениях, когда он шагал рядом с высоченным Фолькхаймером назад в замок, мимо замерзших деревьев, мимо комнат, где мальчики лежат рядами и штабелями, как золотые слитки в хранилище. Раздеваясь рядом с койкой, Вернер глядел на товарищей и чувствовал себя родителем, берегущим их сон. Ему думалось, что Фолькхаймер идет сейчас по коридору к спальне старшеклассников — уродливый великан среди ангелов, кладбищенский сторож меж могильных плит.
Предложение
Мари-Лора сидит на своем всегдашнем месте в уголке кухни, у самого огня, и слушает, как приятельницы мадам Манек жалуются на жизнь.
— Это ж надо столько ломить за макрель! — возмущается мадам Фонтино. — Будто ее из Японии везут!
— Я уж и забыла вкус настоящего сливового пирога! — подхватывает мадам Эбрар, почтмейстерша.
— А дурацкие талоны на обувь! — говорит мадам Рюэль, жена пекаря. — У Тео был номер три тысячи пятьсот один, а не вызвали даже четырехсотого!
— Им мало борделей на рю-Тевенар, теперь еще все летние апартаменты сдают любительницам.
— Большой Клод и его жена все жиреют.
— Проклятые боши жгут свет когда хотят!
— Если я еще вечер просижу взаперти с мужем, то сойду с ума!
Они сидят вдевятером вокруг кухонного стола, упираясь друг в дружку коленями. Продуктовые талоны, отвратительные пудинги, никудышный лак для ногтей — эти преступления надрывают им душу. От стольких голосов сразу у Мари-Лоры все в голове мешается; они весело говорят о серьезном, мрачно умолкают после шуток. Мадам Эбрар причитает, что тростникового сахара не найти днем с огнем; другая старуха, начавшая что-то про табак, заходится смехом, вспомнив, какую задницу наел себе парфюмер. От них пахнет черствым хлебом и затхлыми гостиными, до отказа набитыми массивной бретонской мебелью.
— Дочка Готье собралась замуж. Семье пришлось отдать в переплавку все драгоценности, чтобы сделать обручальное кольцо. Оккупационные власти установили тридцатипроцентный налог на золото и тридцатипроцентный — на работу ювелира. Когда с ним расплатились, от кольца ничего не осталось!
Обменный курс — издевательство, цена на морковь — заоблачная, везде обман. Наконец мадам Манек запирает кухонную дверь на щеколду и прочищает горло. Остальные старухи умолкают.
— На нас с вами держится мир, — говорит мадам. — Ваш сын, мадам Гибу, чинит им обувь. Вы, мадам Эбрар, вместе с дочерью разбираете их почту. А ваша пекарня, мадам Рюэль, печет им хлеб.
Воздух наэлектризован. У Мари-Лоры такое чувство, что старухи наблюдают за человеком, который вступил на тонкий лед или поднес ладонь к свечке.
— И к чему это ты?
— К тому, что мы должны действовать.
— Заложить бомбы им в башмаки?
— Накакать в хлебное тесто?
Дребезжащий смех.
— Ничего такого серьезного. Но мы можем пакостить им по мелочи.
— Это как?
— Для начала я хочу знать, согласны ли вы участвовать.
Напряженное молчание. Мари-Лора чувствует всех девятерых. Девять голов медленно думают. Она вспоминает об отце, которого посадили в тюрьму — за что? — и ей хочется плакать.
Две старухи уходят, сославшись на то, что у них внуки. Шесть остаются. Они одергивают блузки и скрипят стульями, как будто в кухне вдруг стало очень жарко. Мари-Лора сидит между ними и гадает, кто струсит, кто проболтается, кто будет храбрее всех. Кто ляжет на спину и испустит последний выдох как проклятие оккупантам.
У тебя есть другие друзья
— Эй, дорогуля! — кричит Мартин Буркхард Фредерику, когда тот идет через плац. — Жди меня сегодня ночью!
Он неприлично вихляет вперед-назад бедрами.
Кто-то наложил кучу на койку Фредерика. Вернер слышит голос Фолькхаймера: «Их не волнует, чт по-человечески».
— Засранец, принеси мне ботинки! — глумится сосед по спальне.
Фредерик делает вид, будто не слышит.
Вернер каждый вечер пропадает в лаборатоии Гауптмана. Они уже трижды отправлялись в заснеженный лес искать передатчик Фолькхаймера и каждый раз находили его быстрее. Во время последнего испытания Вернер поставил приборы, засек передатчик и нанес положение Фолькхаймера на карту меньше чем за пять минут. Гауптман обещает поездки в Берлин, показывает чертежи из радиоэлектронной фабрики в Австрии и говорит:
— Некоторые министры всерьез заинтересовались нашим проектом.
Вернер добивается успехов. Он демонстрирует преданность. Он делает то, что все одобряют. И все же каждое утро, просыпаясь и застегивая пуговицы на рубашке, он чувствует, что кого-то предает.
Как-то вечером они бредут в замок по мокрому снегу; Фолькхаймер несет под мышкой передатчик, оба приемника и сложенную антенну. Вернер шагает сзади; ему уютно быть в тени Великана. С деревьев капает, ветки, кажется, уже готовы взорваться бутонами. Весна. Через два месяца Фолькхаймер получит воинское звание и уедет на фронт.
Они останавливаются, чтобы Фолькхаймер перевел дух. Вернер смотрит на приемник, достает из кармана отвертку, подтягивает расшатавшуюся петлю. Фолькхаймер глядит на него с нежностью:
— Какое же у тебя будущее…
В тот вечер Вернер ложится на койку и смотрит снизу на матрас Фредерика. По замку гуляет теплый ветер, где-то грохает ставень, по длинным водосточным трубам журчит вода. Вернер тихо-тихо шепчет:
— Не спишь?
Фредерик свешивается с верхней койки, и на миг в полной темноте Вернеру кажется, будто сейчас они наконец скажут друг другу то, что надо сказать.
— Ты мог бы поехать домой, в Берлин.
Фредерик только моргает.
— Твоя мама не стала бы возражать. Она бы, наверное, обрадовалась. И Фанни тоже. Всего на месяц. Или на неделю. Как только ты уедешь, кадеты успокоятся и к твоему возвращению переключатся на кого-нибудь другого. А твоему отцу можно ничего не сообщать.
Однако Фредерик ложится обратно, и Вернер больше его не видит. Голос долетает, отраженный от потолка:
— Может, и к лучшему, что мы больше не друзья, Вернер. — Слишком громко, до опасного громко. — Я понимаю, это обуза: ходить со мной, есть со мной, вечно складывать мою одежду и чистить ботинки, помогать мне с уроками. Тебе надо думать о своей учебе.
Вернер зажмуривается изо всех сил. Перед ним его спальня на чердаке: мышиный топоток в стенах, стук дождя по окнам. Потолок скошен, и выпрямиться во весь рост можно только у двери. И чувство, будто где-то сразу за пределами видимости, словно зрители на галерке, его папа с мамой и француз из радиоприемника. Все они смотрят сквозь дребезжащее окно: как-то он поступит?
Он видит несчастное лицо Ютты над обломками радиоприемника и чувствует: что-то огромное и пустое готово пожрать их всех.
— Я совсем не это хотел сказать, — говорит Вернер в одеяло.
Однако Фредерик не отвечает, и оба долго лежат неподвижно, наблюдая, как голубой лунный квадрат ползет по стене.
Старушечий клуб Сопротивления
Мадам Рюэль, жена пекаря, — старуха с приятным голосом, от которой обычно пахнет дрожжами, но иногда сладкими яблоками и пудреницей, — положила стремянку на багажник мужниного автомобиля, вместе с мадам Гибу объехала в сумерках Карентанскую дорогу и гаечным ключом развернула указатели. Хмельные и смеющиеся, они входят в кухню дома номер четыре по улице Воборель.
— Динан теперь в двадцати километрах к северу! — хохочет мадам Рюэль.
— Точно посреди моря!
Через три дня мадам Фонтино случайно узнает, что у командира немецкого гарнизона аллергия на золотарник. Мадам Карре, хозяйка цветочной лавки, вставляет огромные пуки золотарника в букет для шато.
Старухи отправляют целую партию ткани по неверному адресу. Нарочно печатают расписание поездов с ошибками. Почтмейстерша мадам Эбрар прячет важного вида пакеты из Берлина в панталоны, относит домой и вечером растапливает ими камин.
Они толпой вваливаются на кухню и радостно сообщают, что командир гарнизона чихает или что собачья какашка, подложенная к дверям борделя, успешно прилипла немцу к башмаку. Мадам Манек наливает им херес, сидр или мюскаде. Кто-нибудь из старух сидит перед дверью, караулит, чтобы не вошли чужие. Маленькая сутулая мадам Фонтино хвастает, что час безостановочно названивала в шато, занимая телефонную линию, рослая и некрасивая мадам Гибу — что помогла внуку раскрасить бродячую собаку в цвета французского флага и выпустить ее на площади Шатобриана.
Женщины восхищенно хихикают.
— А что бы такого сделать мне? — спрашивает дряхлая мадам Бланшар. — Я тоже хочу помочь.
Мадам Манек просит всех отдать мадам Бланшар свои деньги.
— Это на время, не беспокойтесь. Так вот, мадам Бланшар, у вас с детства прекрасный почерк. Вот вам вечное перо мсье Этьена. Напишите на каждой пятифранковой купюре: «Освободим Францию!» Никто не решится уничтожить деньги, верно? И наше воззвание разойдется по всей Бретани!
Женщины хлопают в ладоши. Мадам Бланшар крепко стискивает руку мадам Манек и часто моргает от удовольствия.
Иногда, ворча, заходит Этьен, в одном ботинке. Вся кухня умолкает, пока мадам Манек наливает ему чай и ставит на поднос, но, как только Этьен с подносом уходит наверх, женщины вновь принимаются болтать и выдумывать новые пакости. Мадам Манек рассеянно гладит Мари-Лору по волосам.
— Семьдесят шесть лет, — шепчет она, — а я по-прежнему чувствую себя девчонкой со звездами в глазах!
Диагноз
Военврач мерит фон Румпелю температуру. Надувает тугой браслет тонометра. Светит в горло фонариком. Только сегодня утром фон Румпель осматривал кушетку семнадцатого века. Под его присмотром ее погрузили на поезд для отправки в охотничий домик маршала Геринга. Солдат, доставший кушетку, рассказывал, как грабили виллу, называя это «отоварились».
Кушетка вызывает в памяти бронзовую табакерку с медной крышкой, усыпанной мелкими бриллиантами, которую он оценивал в начале недели, а от нее мысли неудержимо, словно под действием гравитации, возвращаются к Морю огня. В минуты слабости фон Румпель воображает, как идет по будущему Музею фюрера в Линце. Каблуки гулко стучат по мрамору, в окна льется свет, между стройными рядами колонн — тысячи витрин такого прозрачного стекла, что кажется, будто они парят над полом. В них величайшие минеральные сокровища человечества, собранные со всего земного шара: диоптазы, топазы, аметисты, калифорнийские рубеллиты.
Как там было? «Будто звезды, сорванные с архангельского чела»[31].
А в самом центре галереи, под закрепленным на потолке прожектором, в стеклянном кубе искрится голубой камешек…
Доктор говорит фон Румпелю приспустить штаны. Хотя военные дела не давали роздыха и на сутки, все эти месяцы фон Румпель был счастлив. Его обязанности удвоились, — в конце концов, у рейха не так много арийских экспертов по алмазам. Всего три недели назад, перед маленьким, расчерченным солнцем вокзальным зданием неподалеку от Братиславы, он осматривал конверт, полный чистейших, прекрасно ограненных камней; сзади рычал грузовик с завернутыми в бумагу и переложенными соломой живописными полотнами. Охранники шептались, что там Рембрандт и детали знаменитого Краковского алтаря. Все отправлялось в соляную шахту под австрийской деревушкой Альтаусзее, где полуторакилометровый тоннель приводит в сияющую аркаду со стеллажами трехэтажной высоты; туда верховное командование помещает лучшие творения европейского искусства. Все будет собрано под одним надежным потолком, в храме человеческих достижений. Посетители будут восхищаться ими тысячу лет.
Доктор щупает у него в паху:
— Больно?
— Нет.
— А здесь?
— Нет.
Конечно, не стоило надеяться, что парижский гранильщик назовет имена. Дюпон не мог знать, кому отдадут копии алмаза, — музейщики не посвятили его в свои экстренные планы. И все же от Дюпона была польза: фон Румпелю требовалось знать число, и теперь оно известно.
Три.
— Можете одеваться, — говорит доктор и отходит к раковине вымыть руки.
За два месяца перед оккупацией Дюпон изготовил для музея три копии. Видел ли он оригинал? Нет, ему дали только слепки. В это фон Румпель готов поверить.
Три копии. Плюс сам камень. Где-то на планете среди секстильона крупинок ее песка.
Четыре камня, один — в подвале музея, в сейфе. Три предстоит отыскать. Временами нетерпение подступает к горлу, как желчь, но фон Румпель подавляет его усилием воли. Камень найдется.
Он застегивает ремень.
— Надо будет взять биопсию, — говорит доктор. — И вам стоит позвонить жене.
Слабейший (№ 3)
Масштабы жестокости растут. То ли Бастиан стремится довершить свою месть, то ли Фредерик таким образом ищет освобождения, непонятно. Наверняка Вернер знает лишь одно: как-то апрельским утром он проснулся и увидел за окном мокрый снег, а койку Фредерика — пустой.
Фредерик не пришел на завтрак, на урок поэзии, на полевые занятия. Все истории, которые доходят до Вернера, по-своему противоречивы, как будто истина — механизм и шестерни в нем не сходятся. По одной — ребята вывели Фредерика на улицу, воткнули в снег факелы и заставили его стрелять по ним из винтовки: подтвердить, что он нормально видит. По другой — ему принесли таблицы для проверки зрения, а когда он не справился, затолкали их ему в рот.
Однако так ли важна истина? Вернер представляет, как двадцать мальчишек, словно крысы, напрыгивают на упавшего Фредерика, видит жирное, лоснящееся лицо коменданта, торчащую из воротника шею. Бастиан королем восседает на высоком дубовом троне, а кровь, медленно растекаясь по полу, доходит ему до щиколоток, до колен…
Вернер пропускает второй завтрак и отправляется в школьный лазарет. Если его поймают, то накажут, может быть, даже исключат. День ясный, солнечный, но у Вернера сердце медленно сжимают в тисках, все вокруг заторможенно-гипнотическое, и он смотрит на свою руку, открывающую дверь, словно через глубокую голубую воду.
Одинокая койка вся в крови. Кровь на подушке, на простынях, даже на белой эмалированной раме. Розовые тряпки в тазу. Полуразмотанный бинт на полу. Медсестра, заметив Вернера, недовольно кривится. Она единственная женщина в школе, если не считать поварих.
— Откуда столько крови? — спрашивает Вернер.
Она прикладывает ладонь к губам. Наверное, не может решить, сказать ему или притвориться, будто не знает. Обвинить других или стать их соучастницей.
— Где он?