Закон Моисея Хармон Эми
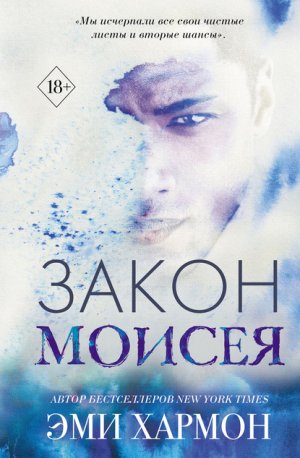
© Харченко А., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Посвящается Мэри Суториус, моей бабушке, которая была бы в восторге от того, что я стала писателем.
Пролог
Вступительные слова любой истории всегда даются тяжелее всего. Будто, как только выведешь их на бумаге, ты уже обязан довести дело до конца. Будто начав, ты не имеешь права не закончить. А как закончить то, что не имеет конца? Это история бесконечной любви… хотя мне потребовалось время, чтобы прийти к этому осознанию.
Если скажу вам в самом начале, без всяких околичностей, что потерял его, вам будет легче с этим смириться. Вы будете знать, что грядет и что дальше будет больно. В вашей груди появится ноющее ощущение, живот скрутит от страха. Но вы сможете морально подготовиться. Вот мой вам подарок. Меня не удостоили такой привилегией, и я оказался не готов.
А после того, как его не стало? Все покатилось под откос. Дни становились только хуже. Чувство сожаления не уходило, горе все так же резало по сердцу, бесконечный калейдоскоп грядущих дней – дней без него – внушал лишь безнадежность. По правде говоря – раз уж я решил, что только правда у меня и есть, – я бы с радостью променял свою участь на любую другую. Но имеем, что имеем. И я не был готов.
Я не могу описать свои чувства – ни ушедшие, ни нынешние. Все слова кажутся пустым звуком и отдают дешевизной, превращая каждую мою фразу, каждую эмоцию в бульварный романчик, полный избитых метафор, чтобы выжать из вас слезы и мгновенно вызвать сопереживание. Сопереживание, никак не связанное с действительностью, – это лишь легкая эмоция, которая забудется, как только вы закроете книгу. Эмоция, от которой вы смахнете слезы с глаз и радостно всхлипнете, потому что это всего лишь история. И что лучше всего – не ваша история. Но все не так просто.
Потому что это моя история. И я не был готов.
Часть 1. До
Глава 1. Джорджия
Моисея, обернутого в полотенце, нашли в корзинке для белья в прачечной. Ему было всего несколько часов от роду, но смерть уже поджидала его за углом. Какая-то женщина услышала его плач и, взяв на руки, укутала в пальто, чтобы согреть младенца теплом своего тела, пока не придет помощь. Она не знала, вернется ли его мать и кем та была, – поняла только то, что это нежеланный ребенок, и, если его немедленно не отвезти в больницу, он умрет.
Его прозвали «дитя ломки». Мама сказала, что так называют детей, которые рождаются с зависимостью, потому что их матери употребляли наркотики во время беременности. Обычно такие младенцы развиваются медленнее, поскольку в основном рождаются раньше срока у нездоровых матерей. Наркотики влияют на химические процессы их мозга, что приводит к синдрому дефицита внимания и проблемам с самоконтролем. В отдельных случаях они страдают от припадков и психических отклонений или от галлюцинаций и гиперчувствительности. Считалось, что некоторые из этих расстройств проявятся и у Моисея, если не все сразу.
Про него сняли репортаж и показали в утреннем выпуске новостей. Отличная история вышла, не оторваться – младенец, брошенный в грязной прачечной в неблагополучном районе Вест-Вэлли-Сити. Мама говорит, что хорошо помнит тот репортаж – пробивающие на слезу кадры младенца в больнице, чья жизнь висела на волоске, с зондом для кормления в животе и синей медицинской шапочкой на крошечной голове. Спустя три дня нашлась его мать, хотя возвращать ей ребенка никто не хотел. Но и не пришлось. Она погибла. Женщину, оставившую своего ребенка в прачечной, объявили мертвой по прибытии в ту же больницу, где боролось за жизнь ее дитя, всего в паре этажей над ней. Ее тоже кто-то нашел, правда, не в прачечной.
Ее соседка, которую арестовали в тот же вечер за проституцию и хранение наркотиков, рассказала полиции все, что знала о погибшей матери и ее брошенном ребенке, надеясь хоть на небольшое смягчение наказания. Вскрытие показало, что женщина действительно недавно рожала. А позже анализ ДНК подтвердил, что мальчик действительно ее. Вот так везение.
В новостях его прозвали «младенцем в корзинке», в честь чего больничный персонал окрестил малыша Моисеем. Увы, в отличие от библейского тезки, Моисея не нашла дочь фараона. Он не рос во дворце. У него не было сестры, которая наблюдала бы из зарослей тростника, чтобы его корзинку точно выловили из Нила. Но семья у него все же нашлась – мама сказала, что весь город поднялся на уши, когда выяснилось, что покойная мать Моисея была местной. Ее звали Дженнифер Райт, и она часто приезжала на лето к своей бабушке, которая жила с нами на одной улице. Бабушка все так же жила неподалеку, родители Дженнифер – в соседнем городке, и некоторые из ее переехавших родственников тоже были известны многим жителям. Так что у малыша Моисея все-таки была семья, но никто из них не горел желанием взять под крышу больного младенца, от которого, как предрекали, стоило ждать проблем. Дженнифер Райт разбила сердца своим близким и оставила их сломленными и усталыми. Мама сказала, что это обычный случай, когда в деле замешаны наркотики. Так что тот факт, что она оставила им «дитя ломки», никого особенно не удивил. В юности Дженнифер была обычной девушкой. Симпатичной, милой, даже умной. Но недостаточно, чтобы держаться подальше от поработившей ее дури. Когда Моисея называли «дитя ломки», я представляла, будто его сломали при рождении и по его тельцу пошла огромная трещина. Само собой, я знала, что этот термин означает совсем другое, но картинка не выходила у меня из головы. Возможно, именно этот образ сломленного юноши и привлек меня к нему в первую очередь.
Мама говорила, что весь город следил за историей маленького Моисея Райта – они смотрели новости, делали вид, что получали информацию из первых рук, и додумывали то, чего не знали, просто чтобы потешить чувство собственной важности. Того прославленного малыша я так и не узнала – только обычного, подросшего Моисея. Члены семейства Райт постоянно сплавляли его друг другу, когда он начинал приносить слишком много хлопот, – передавали очередному двоюродному или троюродному родственнику, который терпел его какое-то время, а затем пересаживал на шею следующему в очереди. Все это произошло еще до моего рождения, и к моменту нашего знакомства – мама все мне о нем рассказала, чтобы помочь «понять его и быть учтивой», – история Моисея уже изжила себя, и никто не хотел с ним возиться. Люди любят детей, даже больных. Даже «детей ломки». Но они вырастают в подростков. А никто не хочет иметь дела с проблемными подростками.
Именно таким и был Моисей.
К нашей первой встрече я уже знала все о таких детях. Всю мою жизнь родители брали их под опеку. К моим шести годам от нас съехали две мои старшие сестры и брат. Я оказалась неожиданным сюрпризом и в итоге росла с неродными мне братьями и сестрами, которые поэтапно приходили и уходили из моей жизни. Возможно, именно поэтому мама с папой и Кэтлин Райт – бабушка Дженнифер Райт и прабабушка Моисея – подчас обсуждали мальчика за нашим кухонным столом. Я подслушала многое, что никоим образом меня не касалось. Особенно в то лето.
Кэтлин решила лично заняться воспитанием Моисея. Через месяц ему должно было стукнуть восемнадцать, и все остальные родственники готовились наконец умыть руки и забыть о нем. Он проводил с ней каждое лето еще с юных лет, и Кэтлин не сомневалась, что они прекрасно поладят, если все остальные просто не будут вмешиваться в их дела. Похоже, ее ничуть не заботил тот факт, что, когда Моисею исполнится восемнадцать, ей будет восемьдесят.
Я знала его историю и помнила его с прошлых летних сезонов, но мы никогда не общались. Городок у нас маленький, так что все дети знакомы друг с другом. Каждое воскресенье Кэтлин Райт водила его в церковь. В воскресной школе все ученики с любопытством пялились на него, пока учительница пыталась выудить из Моисея хоть пару слов на занятии. Но он всегда молчал. Просто сидел на складном стульчике с таким видом, будто ему дали за это хорошенькую взятку, крутил руки на коленях и разглядывал все вокруг своими странными глазами. А как только урок заканчивался, он шустро выбегал за дверь под лучи солнца и шел прямиком домой, не дожидаясь, пока его заберет прабабушка. Я пыталась догнать его, но ему всегда удавалось сбежать из класса быстрее меня. Даже в те времена я уже пыталась угнаться за ним.
Время от времени Моисей с Кэтлин отправлялись на пешие или велосипедные прогулки, а еще она почти каждый день возила его в бассейн в Нифай, что вызывало у меня дикую зависть. В моем случае, если за лето удавалось хоть пару раз покупаться в бассейне, это уже считалось везением. Если сильно хотелось искупнуться, я ехала на велосипеде к рыбацкому прудику в каньоне Чикен-крик. Родители запрещали мне это делать, поскольку он был слишком холодным, глубоким и мутным – даже несколько опасным. Но уж лучше утонуть, чем не плавать вовсе, и пока что мне удавалось держаться на плаву.
Чем старше становился Моисей, тем реже он посещал Леван. С его прошлого визита прошло уже два года, несмотря на все уговоры Кэтлин переехать к ней окончательно. Семья была против: мол, его воспитание ей не по силам, он «слишком эмоциональный, слишком вспыльчивый, слишком темпераментный». Но в конечном итоге все так от него устали, что дали согласие. И так Моисей переехал в Леван.
Мы оба перешли в выпускной класс, хотя я была младше других учеников, а он – на год старше. У нас обоих день рождения выпадал на лето – 2 июля Моисею исполнялось восемнадцать, а мне 28 августа – семнадцать. Но он не выглядел на свой возраст. За два года, что мы не виделись, он сильно возмужал, и в глазах светилась житейская мудрость, не свойственная юноше его лет. Он стал высоким и широкоплечим, на его стройном теле четко очерчивались мышцы, а светлые глаза, точеные скулы и волевой подбородок больше соответствовали египетскому принцу, чем члену гангстерской банды, в которой, по слухам, он состоял.
Моисей не справлялся с учебой. Ему было трудно на чем-то сосредоточиться и подолгу сидеть на одном месте. Его семья утверждала, что он даже страдал от припадков и галлюцинаций, которые они пытались контролировать при помощи разных медикаментов. Его бабушка как-то рассказывала моей маме, что он бывает угрюмым и раздражительным, плохо спит и часто отвлекается на свои мысли. Но она также сказала, что он обладает высоким интеллектом, чуть ли не гениальным, и рисует как никто другой прежде. Но препараты, которые должны были помочь ему с усидчивостью и сосредоточенностью в школе, делали его медлительным, вялым, а его картины – мрачными и пугающими. Кэтлин Райт решила, что перестанет давать ему лекарства.
«Из-за них он похож на зомби, – подслушала я. – Уж лучше я попытаю счастья с непоседой, который не может перестать рисовать. В мое время это не считалось чем-то постыдным».
Как по мне, прозвище «зомби» звучало предпочтительнее. При всей его красоте Моисей Райт все равно навевал страх. Он напоминал мне хищную кошку: поджарое тело, бронзовая кожа, причудливые светлые глаза. Гибкий, тихий, опасный. Зомби, на худой конец, неповоротливы. Дикие кошки же нападают стремительно. Уживаться с Моисеем Райтом было все равно что дружить с пантерой, и я восхищалась решимостью этой пожилой дамы. Откровенно говоря, никого храбрее нее я не встречала.
Поскольку во всем нашем городке было всего две девочки моего возраста, я нередко чувствовала себя одиноко – в частности потому, что, в отличие от меня, ни одна из них не интересовалась лошадьми и родео. Наши дружеские отношения ограничивались тем, что мы здоровались при встрече и сидели рядом во время церковных служб, но скучные летние деньки коротали по отдельности.
То лето выдалось особенно жарким. Это мне хорошо запомнилось. В тот год весна была самой засушливой за всю историю, что привело к лесным пожарам по всему западу. Фермеры молились о дожде, а из-за расшатанных нервов и сверхвысокой температуры люди становились вспыльчивыми и несдержанными. А еще по центральным округам Юты начали один за другим пропадать люди. Исчезли две девушки из разных городов, хотя считалось, что одна сбежала со своим парнем, а вторая была почти совершеннолетней и из неблагополучной семьи. Все просто предположили, что они целы и здоровы, но за последние десять-пятнадцать лет уже случалось несколько подобных исчезновений, которые так и остались нераскрытыми. Из-за этого родители были на взводе и следили пристальнее за своими детьми. Мои не являлись исключением.
Я становилась все более неугомонной и вздорной. Мне не терпелось поскорее покончить с обучением и зажить в свое удовольствие. Я мечтала выступать на родео – в скачках вокруг бочек[1], – о том, как прицеплю конный фургон к своей машине и отправлюсь на гастроли в поисках свободы. Только я, мои лошади, куча побед за спиной и открытая дорога впереди. Как же мне этого хотелось! Но мне семнадцать, и, памятуя о пропавших девушках, родители ни за что бы не отпустили меня одну, а самим везти меня не было времени. Они пообещали обсудить эту тему всерьез, когда я окончу школу и стану совершеннолетней. Но конец учебного года был так далеко, а впереди простиралось только сухое, как пустыня, лето. Я изнывала от жажды по новым ощущениям. Может, в этом все и дело. Может, именно поэтому я зашла слишком далеко, прыгнула выше собственной головы.
В чем бы ни крылась причина, переезд Моисея в Леван был для меня как глоток свежей воды – холодной, глубокой, непредсказуемой и, как тот пруд в каньоне, опасной, поскольку никогда не знаешь, что кроется на глубине. Но, как обычно, я окунулась в нее с головой, несмотря на все запреты. Вот только на сей раз я пошла на дно.
* * *
– На что уставился? – дерзко спросила я, наконец давая Моисею то, чего, как мне казалось, он хотел – моего внимания.
Все приемные дети упивались им, словно оно для них так же необходимо, как воздух. Как же меня это бесило! Не потому, что они требовали внимания от моих родителей, а потому, что им хотелось его и от меня. Я же предпочитала уединяться с лошадьми. Они, в отличие от всех остальных, не были навязчивыми до скрежета зубов. А теперь и Моисей вторгся в мою конюшню и прервал наше время с Сакеттом и Лакки, выкачивая весь воздух из помещения, как все приемные дети.
Кэтлин Райт попросила родителей найти Моисею какое-нибудь полезное применение на ферме, чтобы он исчерпал хоть часть своей неуемной энергии, накопившейся после того, как он перестал пить таблетки. К примеру, вычистить стойла, прополоть сад, подстричь газон, покормить кур – что угодно, лишь бы загрузить его на все лето и учебный год, если все пойдет по плану. Обычно этим занималась я и с радостью согласилась бы на руку помощи. Но папа подыскал Моисею другие задачи, и он исправно их выполнял – настолько, что список дел по хозяйству уже подходил к концу. Занять его на все лето оказалось попросту невозможно.
По всей видимости, папа также поручил ему убраться в конюшне, и все утро Моисей как безумный укладывал тюки сена и подметал. Я даже не знала, радоваться мне или печалиться. Особенно, когда он внезапно замер, опустив руки, и уставился в одну точку. Не на меня. Он смотрел мне за плечо, округлив свои звериные желто-зеленые глаза. Парень стоял совершенно неподвижно, чего я раньше за ним не замечала – ни разу с момента его приезда. Моисей проигнорировал мой вопрос и просто сжимал и разжимал пальцы, как если бы пытался улучшить кровообращение. Я тоже частенько так делала, когда забывала перчатки и подолгу ждала автобус на остановке. Но вряд ли он мог замерзнуть в середине необычайно жаркого июня.
– МОИСЕЙ! – рявкнула я, пытаясь привести парня в чувства.
Кто его знает, вдруг в следующую секунду он начнет биться в конвульсиях на полу, и мне придется делать ему искусственное дыхание или что-то подобное? От мысли о соприкосновении наших губ в моем животе что-то странно затрепетало. Я представила, каково будет прильнуть к нему, – пусть и для того, чтобы просто вдохнуть в него воздух. Он был недурен собой. В животе снова что-то заворошилось – причудливое, но не неприятное ощущение. Моисей был по-своему красив – не такой, как все, особенно со своими волчьими глазами. И нужно отдать должное – эта экзотичность была ему к лицу. Он выглядел круто. Жаль, что это ломкая красота…
Родители использовали лошадей для терапии с проблемными детьми. Более того, их программа стала всемирно известной из-за метода невербального общения – ну, знаете, поскольку лошади не разговаривают. Это их коронная рекламная фразочка, которая должна расположить и вызвать улыбку у потенциальных клиентов. Лошади не разговаривают, но порой и дети не могут прибегнуть к словам, и иппотерапия – модное название установления контакта с лошадью, чтобы посредством наблюдения за ней понять самого себя, – их основное средство заработка. Ну и еще мой папа ветеринар, и в будущем я хотела бы пойти по его стопам. Наши лошади хорошо натренированы и приучены к детям. Они знают, что должны вести себя спокойно при приближении ребенка. Обладают непоколебимым терпением. Позволяют незнакомцам надеть на них уздечку и даже сами закусывают трензель. И когда эти проблемные дети возвращаются к своим семьям или покидают нашу уже совершенно другими людьми, взрослые всегда говорят одно и то же: что эта терапия настоящее «чудо» и «прорыв».
Последние две недели Моисей постоянно околачивался рядом – убирался, пропалывал сад, ел с нами за одним столом (господи, сколько ж в него влезает), и просто действовал мне на нервы, поскольку его присутствие вызывало у меня дискомфорт. Не то чтобы он делал что-то плохое, но почему-то у меня от него пробегали мурашки по коже. Зато он не пытался завести со мной разговор, как по мне, это была его единственная положительная черта. Ну и еще странный цвет глаз. И мускулы. Я слегка вздрогнула от отвращения к себе. Он же чудак. О чем я только думаю?
– Ты когда-нибудь катался на лошади? – спросила я в попытке отвлечься.
Моисей с явным трудом вернулся из мира грез и наконец перестал пялиться в одну точку.
Его взгляд ненадолго сосредоточился на мне, но он промолчал. Я решила повторить вопрос.
Моисей покачал головой.
– Нет? А хоть гладил их?
Снова покачал.
– Так подойди ближе.
Я кивнула на лошадь. Мне пришло в голову, что я тоже смогу помочь Моисею иппотерапией, как мама с папой. Я много раз наблюдала за их работой, так почему бы и мне не попробовать спасти этого проблемного ребенка?
Моисей испуганно отпрянул. За все недели, что он трудился на ферме, он ни разу не приблизился к животным. Ни разу. Только наблюдал за ними, за мной и никогда не разговаривал.
– Ну же, давай! Сакетт лучший конь в мире. Хотя бы прикоснись к нему.
– Я его напугаю, – ответил Моисей.
Я снова вздрогнула. Моисей впервые подал голос, и он не ломался, как у моего приемного брата Бобби и большинства других мальчишек. Их голоса будто постепенно спускались вниз по скрипучим и хрупким ступенькам, пока наконец не оказывались в подвале. Моисей же, напротив, уже говорил басовито, его голос обволакивал меня теплом и вызвал легкий трепет в сердце.
– Вовсе нет. Сакетта вообще трудно заставить нервничать. Его ничего не пугает. Если бы ты захотел, он простоял бы тут весь день в твоих объятиях. Вот Лакки мог бы откусить тебе руку и лягнуть в лицо. Но Сакетт – ни в коем случае.
Я уже много месяцев пыталась расположить к себе Лакки – кто-то подарил его отцу в качестве платы за услуги, которые были им не по карману. У папы не было времени укрощать его норов, так что он отдал коня мне, предварительно напомнив, чтобы я была осторожной.
Я только посмеялась: осторожность – не мой метод.
У папы это тоже вызвало улыбку, но все же он предостерег:
«Я серьезно, Георг. Его не просто так зовут Лакки. Тебе очень повезет, если он когда-нибудь позволит оседлать его».
– Животные меня недолюбливают.
Моисей произнес это так тихо, что я почти его не расслышала. Отмахнувшись от мыслей о Лакки, я погладила своего верного спутника – коня, на котором я впервые прокатилась верхом.
– Сакетт всех любит.
– Я ему не понравлюсь. Хотя, возможно, дело не во мне, а в них.
Я недоуменно обвела взглядом амбар. Там были только мы с Моисеем и Сакетт.
– Ты о ком? Чувак, здесь только мы.
Моисей не ответил.
Я выжидающе уставилась на него, дерзко вскинув бровь. Затем погладила Сакетта по носу и шее. Он и ухом не повел.
– Видишь? Он как статуя. Сакетт обожает купаться в любви. Давай же, подойди.
Моисей приблизился на шаг и осторожно поднял к Сакетту руку. Тот нервно зафыркал.
Моисей тут же отошел.
Я напряженно хихикнула.
– Какого черта?
Наверное, мне стоило прислушаться к словам Моисея, но увы, я ему не поверила. И не в последний раз.
– Ты же не струсишь, правда? – подтрунивала я его. – Погладь его – он не кусается.
Моисей задумчиво посмотрел на меня своими золотисто-зелеными глазами и снова шагнул вперед, протягивая руку.
И в эту секунду Сакетт внезапно встал на дыбы, будто набрался дурного у Лакки. Подобное поведение было абсолютно нехарактерно для коня, которого я знала всю свою жизнь, коня, который ни разу не взбрыкнул за годы нашей взаимной любви. Но сейчас он даже не дал мне возможности вскрикнуть или потянуться к недоуздку. Сакетт ударил меня копытом в лоб, и я плюхнулась на пол, как мешок с картошкой.
Открыв глаза, пощипывавшие от крови, я уставилась на старые потолочные балки. Я лежала на спине, и голова раскалывалась так, будто меня лягнула лошадь – в эту секунду пришло озарение, что именно это и случилось. И не какая-нибудь там лошадь, а Сакетт! Мое удивление едва ли не превозмогало над болью.
– Джорджия?
Внезапно надо мной, перекрывая вид на пересекающиеся балки и пылинки, выплясывающие в лучах солнца, которое просачивалось сквозь трещины в стенах, возникло расплывчатое лицо.
Моисей положил мою голову себе на колени и прижал футболку ко лбу. Даже в полубессознательном состоянии я все равно не упустила из внимания его обнаженные плечи и грудь, а также почувствовала щекой гладкую кожу его живота.
– Я схожу за помощью, ладно?
Он переложил мою голову обратно на пол, продолжая прижимать футболку к ране. Я старалась игнорировать кровавое пятно, расцветающее на ткани.
– Нет! Стой! Где Сакетт?
Я попыталась сесть, но Моисей осторожно уложил меня обратно и растерянно посмотрел на дверь, будто не знал, что делать.
– Он… убежал.
Тогда я вспомнила, что Сакетт не был привязан. Раньше в этом никогда не появлялось необходимости. Даже сложно представить, что ему стукнуло в голову, чтобы он встал на дыбы и галопом помчал из конюшни. Мой взгляд вновь сосредоточился на Моисее.
– Ну что, все плохо? – Я пыталась говорить, как Клинт Иствуд – кто-то, кто может получить жуткую травму головы и сохранить хладнокровие. Однако мой голос все равно предательски задрожал.
Моисей сглотнул, пытаясь не выдать свою жалость, его кадык забавно подскочил под смуглой кожей. У него тоже дрожали руки. Ситуация расстроила его не меньше меня – это было видно невооруженным глазом.
– Не знаю. Рана вроде и небольшая, но сильно кровоточит.
– А животные и вправду тебя не любят, да? – прошептала я.
Он не стал делать вид, что не понимает, о чем я, и помотал головой.
– Я заставляю их нервничать. Не только Сакетта – всех зверей.
Он и меня заставлял нервничать. Но в хорошем, чарующем смысле. Несмотря на то, что у меня дико пульсировала голова и кровь затекала в глаза, я хотела, чтобы Моисей остался. Чтобы он выдал мне все свои тайны.
Словно почувствовав изменение в моем настроении и сочтя его нежелательным, Моисей тут же подскочил и сбежал, оставив меня с окровавленной футболкой и неутолимым любопытством к новенькому в нашем городке. Довольно скоро он вернулся с моей мамой и его прабабушкой, семенящей позади. На их лицах читалось неприкрытое беспокойство, и тут я задумалась, не преуменьшила ли я серьезность своей травмы. Неожиданно взыграло мое женское тщеславие, чего я раньше за собой не замечала: а вдруг на лбу останется уродливый шрам? Еще неделю назад я бы даже сочла это крутым, но не теперь. Мне хотелось оставаться красивой в глазах Моисея.
Он стоял поодаль и не вмешивался, пока взрослые ахали и охали надо мной. Когда они пришли к умозаключению, что я, вероятно, выживу и без затратной поездки на «неотложке», и обошлись несколькими пластырями, Моисей незаметно ускользнул. Иппотерапией ему не помочь, но я поклялась себе, что просочусь в его трещины и залатаю их, чего бы мне это ни стоило. Мое пустынное лето только что превратилось в тропический лес.
Глава 2. Джорджия
Где-то спустя неделю после того, как Моисей напугал моего коня и я получила по голове, мы с отцом обнаружили на нашем амбаре стенную роспись. Ночью кто-то нарисовал поразительно реалистичное отображение заката над западными холмами Левана. На фоне розоватого неба стояла лошадь с запрокинутой головой, напоминавшая Сакетта, а в седле комфортно устроился всадник. Он сидел в профиль и выглядел не более чем силуэтом, но все равно его вид показался мне знакомым. Папа долгое время мечтательно разглядывал картину. Я думала, он разозлится, что кто-то использовал наш амбар в качестве холста… по моему представлению, так поступали преступные группировки в больших городах. Но нам оставили не граффити с угловатыми или дутыми буквами, закрашенными броскими красками, нет – картина выглядела круто! За такую не грех заплатить, и приличную сумму.
– Он напоминает моего отца, – прошептал папа.
– И Сакетта, – добавила я, не в силах оторвать взгляд от рисунка.
– У дедушки Шеперда был конь по кличке Хондо, прадед Сакетта. Помнишь?
– Нет.
– Да, логично, ты была слишком маленькой. Хороший был конь. Дедушка очень его любил, прямо как ты Сакетта.
– Ты показывал ему фотографии?
– Кому? – папа удивленно посмотрел на меня.
– Моисею. Разве это не его работа? Я слышала, как миссис Райт говорила маме, что его хотели отправить в колонию для несовершеннолетних за вандализм или за порчу имущества. Видимо, он любит рисовать. Миссис Райт сказала, что это что-то компульсивное, что бы это ни значило. Я просто подумала, что это ты его попросил разрисовать амбар.
– Гм-м, нет. Но мне нравится.
– И мне, – от души согласилась я.
– Если это все-таки он сделал, а других вариантов у меня нет, то у него настоящий талант. Однако Моисей все равно не может рисовать где и что попало. Кто его знает – может, в следующий раз ему вздумается нарисовать Элвиса на нашем гараже.
– Мама будет в восторге.
Папа посмеялся над моим саркастичным комментарием, но он не шутил. Вечером он объявил, что собирается проведать Моисея с Кэтлин Райт, и я молила взять меня с собой.
– Я хочу поговорить с Моисеем!
– Георг, я не хочу ставить его в неловкое положение. Если ты будешь стоять и слушать, как я его отчитываю, он наверняка смутится. Эта беседа не нуждается в зрителях. Я просто хочу дать ему понять, что, каким бы он ни был талантливым, он не может и дальше вытворять такие вещи.
– Я хочу, чтобы Моисей расписал стену в моей спальне. У меня есть кое-какие сбережения. Так что ты ему скажешь, что он не может рисовать где попало, а затем я дам ему место, где он сможет разгуляться. Так пойдет?
– И что ты хочешь, чтобы он нарисовал?
– Помнишь сказку, которую ты рассказывал мне в детстве? О слепце, который каждую ночь превращался в лошадь, а на рассвете снова становился человеком?
– Да, эту историю еще рассказывал мне мой отец.
– Я частенько о ней вспоминаю и хочу, чтобы Моисей изобразил ее на моей стене. Или, по крайней мере, белого коня, убегающего в облака.
– Сперва спроси разрешения у мамы. Если она не против, то и я за.
Я тяжко вздохнула. С мамой договориться будет сложнее.
– Это всего лишь краска, – проворчала я.
Как ни странно, мама была не против, но ее беспокоило присутствие Моисея в моей спальне.
– Он такой угрюмый, Джорджи, это даже немного пугает. Честно говоря, я не знаю, как относиться к вашей дружбе. Понимаю, с моей стороны, это не очень великодушно, но ты – моя дочь. И тебя всегда влекло к опасности, как мотылька к пламени.
– Мама, он же просто будет рисовать! Обещаю не надевать кружевное белье по такому случаю. Думаю, я в безопасности. – Я подмигнула.
Мама шлепнула меня и, посмеявшись, все же сдалась. Но, говоря откровенно, она не ошиблась, и с ее стороны было мудро меня предупредить. Моисей полностью меня очаровал, и что-то мне подсказывало, что этот интерес не скоро угаснет.
Вскоре после заката мы с папой постучали в дверь Кэтлин Райт. Моисей сидел за кухонным столом и поглощал самую большую порцию молока с хлопьями, которую я когда-либо видела, а его бабушка сидела напротив и чистила яблоко, снимая кожуру одной длинной, завивающейся красной лентой. Мне даже стало любопытно: это же сколько яблок она очистила за восемьдесят лет жизни, чтобы так отточить свое мастерство?
– Я больше никогда не буду разрисовывать ваше имущество, – искренне пообещал Моисей после того, как папа в ласковой форме объяснил ему, что делать это без разрешения – недопустимо.
Поначалу Кэтлин выглядела расстроенной, но затем папа заверил ее, что рисунок прекрасен и мы не против его оставить. Тогда она расслабилась, и, похоже, я единственная заметила, что Моисей не обещал не портить чужую собственность. Только нашу.
– Ты весьма похоже изобразил моего отца, – добавил папа, словно запоздалую мысль. – Ему бы понравилась твоя картина.
– Я пытался нарисовать вас, – ответил Моисей, избегая его взгляда.
Почему-то я не сомневалась, что он лжет, хотя на то не было видимых причин. Казалось вполне логичным, что он использовал для вдохновения моего отца. Парень определенно не знал моего деда.
– Вообще-то, Моисей, – вмешалась я в разговор, – я бы хотела, чтобы ты нарисовал картину на стене в моей комнате. Я заплачу. Вероятно, меньше, чем ты заслуживаешь, но все же это лучше, чем ничего.
Он мельком посмотрел в мою сторону и отвернулся.
– Вряд ли я смогу.
Папа и Кэтлин ошеломленно уставились на него. Вся стена нашей конюшни служила неопровержимым доказательством, что он как раз мог.
– Мне… нужно… нужно… вдохновение, – неуверенно промямлил Моисей, вскидывая руки, словно хотел отгородиться от меня. – Я не могу просто нарисовать, что попросят. Это работает несколько иначе.
– Моисей с радостью распишет тебе комнату, Джорджия, – твердо перебила Кэтлин, одаряя правнука предостерегающим взглядом. – Он зайдет завтра днем, и вы обсудите все подробности рисунка.
Моисей оттолкнул пустую пиалу и резко встал.
– Не выйдет, бабушка. – Затем повернулся к моему папе. – Обещаю, больше никаких картин на вашей собственности.
И с этими словами вышел из кухни.
* * *
Наша следующая встреча произошла через две недели и при даже более скверных обстоятельствах. Для жителей округа Джуэб конноспортивный фестиваль был важнее Рождества. Он означал три дня и три ночи парадов, карнавала и, разумеется, родео. Я ежегодно считала до него дни; он всегда попадал на вторые выходные июля и был главным событием лета. В довершение всего в этом году я прошла отбор для участия в скачках вокруг бочек. Родители запретили мне отправляться в турне до совершеннолетия, но позволили принимать участие во всех состязаниях в нашем штате. Я прошла первый тур в четверг и решающий в субботу. Моя первая проба в качестве профессиональной ковбойши – и у меня все получилось!
После я решила отпраздновать победу и прогуляться по карнавалу. К сожалению, моя подруга Хэйли, живущая в Нифае, – примерно в пятнадцати минутах к северу от Левана, – приехала со своим парнем Терренсом. Он мне не очень-то нравился – Терренс постоянно злобно подшучивал и носил кепку вместо ковбойской шляпы, высоко задирая козырек на лбу.
– Ты задираешь его, чтобы казаться выше нас, девочек, – подстрекала я.
– Высокие девушки не в моем вкусе, – парировал он, легонько толкая меня локтем.
– Что ж, слава богу, что я выросла высокой!
– Да-да, я тоже очень рад.
– У нас бы все равно ничего не вышло. Все бы думали, что ты мой младший брат.
Я выкинула его дурацкую кепку в ближайший мусорный бак и похлопала Терренса по влажной от пота голове.
После этого он начал отпускать грубые комментарии в мою сторону, и, судя по виду Хэйли, она мечтала лишь о том, чтобы мы прекратили ругаться. Вскоре мне это наскучило, и я отделилась от них, сославшись на голод и необходимость найти парней повыше. В конечном итоге я направилась к парашютам и загонам неподалеку, в которых держали животных во время фестиваля.
Уже смеркалось, и вокруг не было ни души, но я хотела посмотреть поближе на быков. Я давно мечтала объездить их и не сомневалась, что у меня бы получилось. Я забралась на перекладины ограждения и перегнулась, чтобы заглянуть в стойла, отделяющие людей от зверей. Манеж по-прежнему подсвечивался, и хоть загон находился в тени, я с легкостью рассмотрела мускулистую спину быка, которого еще пару часов назад объездил Кордел Мичем. Его оценили на девяносто очков! Естественно, после такого безупречного выступления победа была за ним – колени высоко, каблуки впиваются в бока быка, спина согнута, рука поднята к небесам, словно тянется к звездам, которой он и стал. Зрители визжали от восторга. Да что уж там, я визжала от восторга! И когда бык по кличке Сатана наконец сбросил своего всадника, сигнал уже прозвучал, и Кордел одержал победу. Я улыбнулась от этого воспоминания, представляя себя на его месте.
Девушек допускали только к скачкам вокруг бочек. Я любила мчать по манежу с опущенной головой и сжатыми на гриве Сакетта кулаками, словно подхваченная потоком, который нес меня обратно к берегу. Но порой меня посещала мысль о том, каково было бы оседлать землетрясение, а не волну. Подпрыгивая вверх и вниз, из бока в бок, оседлать землетрясение.
Сатану я не интересовала, как, впрочем, и других быков, скучившихся в загоне. Я вдохнула запах свежего сена и навоза – большинство кривили от него нос, но меня он не смущал. Я еще ненадолго задержалась, наблюдая за животными, а затем спрыгнула с ограждения. Время было уже позднее, так что мне нужно было найти Хэйли и тащить свой зад домой. Меня раздражало, что родители до сих пор контролировали, когда мне возвращаться, и мою голову тут же наполнили мысли о будущем, в котором я буду отчитываться только перед собой.
Когда от теней отделился чей-то темный силуэт, я вообще не испугалась. Ни капельки. У меня никогда не было причин бояться ковбоев. Они лучшие люди в мире. Сходите на любое американское родео и сразу же поймете, что эти мужчины и женщины могут единолично спасти всю планету. Не потому, что они самые умные, богатые или красивые – просто они хорошие. Они любят друг друга и свою страну. Любят свои семьи. Поют гимн от души. Снимают шляпы, когда поднимают флаг. Самоотверженно живут и любят. Так что нет, я не нервничала. По крайней мере, пока меня не толкнули лицом в грязь с отпечатками подошв и копыт.
На секунду я впала в ступор, и этого времени хватило, чтобы мне заломили руки за спину и связали их, как теленка на родео. Этот мужчина умел обращаться с лассо. Я выгнулась и попыталась закричать, но в итоге набрала полный рот грязи с примесью навоза. Тогда-то я наконец и поняла, что я в полном дерьме. Странно, как разум может подкидывать такие шуточки даже в подобные моменты. Но тут я почувствовала его руки на поясе моих джинсов – в том месте, куда запускать их не следует, – и уже по-настоящему взбесилась, мой шок сменился неистовой яростью. Я взбрыкнула и ударила обидчика затылком по лбу. Он выругался и ткнул меня обратно лицом в грязь. Затем прижал мои щиколотки к запястьям и затянул их лассо, прежде чем перевернуть меня. Поза была максимально неестественной – руки и ноги согнуты за спиной, весь вес приходится на голову и шею, мышцы бедер натянуты до предела. Он швырнул горстку грязи в мои обезумевшие от страха глаза, ослепляя их, и закрыл лицо руками. Нос забило землей, я не могла вдохнуть. Закашлявшись, я снова забрыкалась и попыталась укусить его за пальцы. Хуже паники была только боль от нехватки воздуха в легких, и я всерьез подумала, что умру. Закряхтев, мужчина закинул меня на плечо и повернулся, будто собрался бежать. Но тут неподалеку хлопнула дверь, кто-то позвал меня по имени, и он неуверенно замер.
А затем просто скинул меня на землю и исчез. Мне показалось, что я услышала его ругань, как хлюпали ботинки в грязи, пока он убегал. Голос был мне незнаком. С того момента, как он вышел и вновь скрылся в тени, прошло не больше минуты. Несомненно, очередной рекорд на родео.
Лассо вокруг моих запястий и щиколоток не ослабло при падении, и столь внезапное приземление без возможности сгруппироваться выбило из меня весь воздух. Ахнув, я закашлялась и перекатилась на бок, чтобы сплюнуть грязь. В бедро больно впилась пряжка – злоумышленник так сильно дергал меня за пояс джинсов, что он расстегнулся. Я не могла встать. Не могла даже вытереть глаза. Только беспомощно лежать, как связанный теленок. Я попыталась смахнуть грязь о плечо, чтобы хотя бы видеть, – вдруг он вернется? Мне нужно видеть, чтобы опознать его и защитить себя. Чтобы напасть самой. Не знаю, как долго я там пролежала – возможно, час. Возможно, десять минут. Но казалось, что прошла целая вечность.
Я могла поклясться, что кто-то звал меня по имени. Разве не поэтому мужчина сбежал? Как вдруг, легок на помине, он вернулся. В моих жилах вновь забурлил адреналин, и я начала рывками, сантиметр за сантиметром, отползать назад. Набрала побольше воздуха в легкие, чтобы закричать, но только зашлась сильным кашлем – я случайно вдохнула грязь, которая по-прежнему покрывала мой язык. Мужчина остановился, словно не ожидал снова меня здесь найти.
– Джорджия?
Это не он. Голос другой.
Он пошел в мою сторону, стремительно сокращая расстояние между нами. Я зажмурилась, словно испуганное дитя, мечтающее стать невидимкой. Нет, нет, нет, нет, нет! Этот голос был уже мне знаком. Только не Моисей. Только не Моисей. Ну почему это должен быть именно Моисей?!
– Мне позвать кого-нибудь? Вызвать «скорую»?
Я почувствовала, как он присел рядом. Вытер мое лицо, будто хотел получше его рассмотреть. Затем потянул за веревку вокруг моих запястий и щиколоток, и я наконец-то смогла выпрямить ноги. К ним мгновенно хлынула кровь, в данном случае вызывая приятную боль, и из моих глаз полились слезы. Они принесли легкое облегчение, и я отчаянно заморгала, пока Моисей снимал лассо с моих рук. Когда и они оказались на свободе, я застонала от их свинцовой тяжести и обжигающей боли в плечах.
– Кто это сделал? Кто тебя связал?
Я смотрела куда угодно, только не на него. Боковым зрением я заметила, что на нем черная футболка, заправленная в брюки карго, и армейские ботинки, которые не надел бы ни один ковбой с чувством собственного достоинства. Мой обидчик был одет так же, как и большинство на западе: в традиционный ковбойский наряд. Я чувствовала спиной кнопки его рубашки. Мое тело забилось мелкой дрожью, и я поняла, что меня вот-вот стошнит.
– Со мной все нормально, – соврала я, но мое дыхание предательски сбилось.
Мне отчаянно хотелось, чтобы Моисей отвернулся и не видел моего позора. В произошедшем не было ничего нормального. Совсем ничего. Я вытерла щеки и мельком подняла на него взгляд, чтобы проверить, поверил ли он моим словам, а затем сразу же отвернулась.
Он спросил, могу ли я встать, и протянул руки, чтобы поднять меня. С его помощью мне это удалось, и я закачалась на подкашивающихся ногах, как новорожденный жеребенок.
– Можешь идти, я в порядке, – вновь в отчаянии соврала я. Но он не ушел.
Развернувшись, я неуклюже отошла на пару шагов, вцепилась в ограду, и тут меня все-таки стошнило. Грязью, навозом, бургером с родео, и все это в подливе из пепси. Мои колени подкосились, все тело содрогалось, пока опустошался желудок, но Моисей все равно не ушел. Фырканье и топот быков по другую сторону деревянных перил напомнили мне, где я нахожусь: в компании Сатаны и его прихвостней. В эту секунду было нетрудно поверить, что я действительно провалилась в кроличью нору и попала прямиком в ад.
– Ты вся в грязи, и у тебя расстегнут ремень, – сухо, чуть ли не осуждающе подметил Моисей.
Я поняла по его голосу, что он ни капельки мне не поверил. Вот так сюрприз! Продолжая стоять к нему спиной, я задеревеневшими пальцами застегнула блестящую пряжку и продела конец ремня через петлю джинсов, предпочитая игнорировать тот факт, что пуговица и ширинка тоже расстегнуты. Возможно, он не заметил – моя рубашка выбилась из штанов и теперь прикрывала талию. Я уж точно не собиралась привлекать к этому его внимание, а ремень не даст джинсам упасть. Я вздрогнула от отвращения.
– Кто-то связал тебя.
– Думаю, просто это был чей-то глупый розыгрыш, – с запинками ответила я, продолжая откашливаться из-за раздражения в горле. – Наверное, Терренса. Он весь вечер на меня злился. Возможно, он думал, что я посмеюсь или закричу и не стану сопротивляться. Мы с ним серьезно схлестнулись. Не знаю, может, он не рассчитывал меня напугать, а просто хотел связать, чтобы позже они нашли меня в этой позорной позе и посмеялись… Но я в полном порядке.
Вряд ли даже я верила своим словам, но мне очень хотелось.
Забавно, что именно Моисей меня освободил. Какая ирония. Меня обидел ковбой, а рыцарем в доспехах оказался местный смутьян. Мама считала, что это от Моисея стоит ждать беды. Предостерегала меня о нем. А он взял и спас меня.
– Все нормально, – настаивала я.
Затем выпрямилась, по-прежнему вытирая глаза и подрагивающие губы. Мне было стыдно, что Моисей стал свидетелем этого унижения, страшно от того, что могло произойти. Что чуть не произошло. Но больше всего меня оскорблял тот факт, что это вообще случилось. Если это действительно была неудачная шутка, то она зашла слишком далеко. Поскольку теперь Джорджия Шеперд была напугана. А мы со страхом не очень-то ладим. Мне хотелось домой. Я не знала, где Хэйли, и не хотела ее искать – особенно если она тоже была замешана во всем этом.
– Моисей, можешь отвезти меня домой? Пожалуйста? – Мой голос звучал как-то странно, по-детски, и я скривилась от стыда.
– Кто-то должен за это заплатить.
– Что?
– Кто-то должен за это заплатить, Джорджия.
Было странно слышать свое имя из его уст – он произносил его так, будто знал меня. А это неправда. И внезапно я поняла, что сама себя едва знаю. Тот же город, та же улица. Тот же мир. Но все изменилось. Я – так точно. Возможно, дело в шоке? Ничего же толком не произошло, я в порядке. Буду, по крайней мере. Главное – добраться домой.
– Говорю тебе, я в порядке. Мне просто нужно домой. Пожалуйста! – Я уже не столько просила, сколько умоляла. И по моим щекам снова потекли слезы.
Моисей чуть ли не с отчаянием оглянулся, будто хотел позвать на помощь, получить какой-то совет о том, как вести себя в данной ситуации. Как вести себя со мной. Отвезти меня домой было самым простым решением, но, очевидно, он считал, что этого недостаточно.
– Пожалуйста! – поторопила я.
Затем вытерла лицо рукавом рубашки, купленной специально для этого вечера, и на ней остались мокрые пятна от слез и грязь. Я всегда покупала новые наряды на фестиваль. Новые джинсы, новые рубашки, порой даже новые ботинки. Новые шмотки по случаю такого грандиозного события.
Вдали, над рядами темных построек, которые отделяли загон и манеж от ярмарки, кружило колесо обозрения. Легкое дуновение ветерка взъерошило мои волосы, прилипшие к мокрым щекам, и принесло запах карнавала – сахарной ваты и попкорна. Но затем он смешался со смрадом рвоты и навоза и потерял свою привлекательность.
Я слегка покачнулась, начиная постепенно отходить от шока и осознавать ужас последних нескольких минут. Он все укоренялся, укоренялся, укоренялся. Мне хотелось поскорее вернуться домой.
Должно быть, Моисей чувствовал, что я медленно падаю в бездну, и, не произнося ни слова, ласково взял меня за руку, выражая свою поддержку. В этот момент я любила его больше, чем когда-либо. Куда сильнее, чем предполагали наши короткие встречи. Смутьян, правонарушитель, дитя ломки… И отныне – мой герой.
Моисей медленно повел меня к машине, позволив опереться на него. Дойдя до джипа, я тупо уставилась на него – до джипа, который я видела день ото дня с тех пор, как Моисей переехал в Леван шесть недель назад. Я завидовала его тачке – у меня-то был лишь старенький фермерский грузовик, который разгонялся максимум до сорока километров в час. Но сейчас я испытала не зависть, а только благодарность, причем настолько, что готова была упасть на колени и расцеловать машину. Моисей осторожно посадил меня на пассажирское место и пристегнул. Ремни напомнили мне сбрую, и я почувствовала себя в относительной безопасности, даже несмотря на тот смущающий факт, что у джипа не было ни крыши, ни дверей.
– Моисей, джипы, ремни безопасности, дом, Моисей, – перечислила я, даже не осознавая, что делаю это вслух и дважды назвала его имя. Сегодня он это заслужил.
– Что? – Моисей обеспокоенно приподнял мое лицо за подбородок.
– Да так, ничего. Старая привычка. Когда я… испытываю стресс, то перечисляю все, за что я благодарна жизни.
Он ничего не ответил, но продолжал смотреть на меня все то время, что садился в машину и заводил двигатель. Я чувствовала его взгляд, пока он ехал по гравию, пока объезжал загон и фургоны с лошадьми, пока пересекал парковку и выезжал на трассу.
В наши лица с ревом ударил ветер, спутывая мои волосы и вжимая в кресло, и мы помчали по дороге, оставляя позади фестиваль, мерцающее колесо обозрения и крики счастья, которые всю мою жизнь давали мне ложное чувство безопасности. Однажды эти звуки манили меня. А теперь я сомневалась, что когда-либо смогу к ним вернуться.
Глава 3. Моисей
Я пришел на родео ради Джорджии. Не потому, что у меня было какое-то предчувствие, что я ей понадоблюсь, и даже не из надежды, что она захочет меня видеть. И определенно не потому, что я ожидал найти ее связанной, покрытой грязью и плачущей, поскольку кто-то пытался причинить ей вред или напугать. Или изнасиловать. Она настаивала, что это, вероятно, был чей-то розыгрыш. Интересно, что за друзья выкидывают подобные шутки? С другой стороны, мне-то откуда знать – у меня никогда не было друзей.
Днем бабушка подарила мне второй билет на фестиваль и поставила в известность, что Джорджия «участвует в состязаниях с бочками, и ты просто обязан это увидеть». Я тут же представил, как Джорджия балансирует на катящейся бочке и отчаянно перебирает ногами, чтобы не упасть и прийти к финишной черте раньше соперников.
Разумеется, прежде я никогда не бывал на родео и понятия не имел, как далеко могут зайти белые в своем безумстве. Учитывая, что меня бросила белая мать, подсевшая на наркотики, мне стоило догадаться.
Но, как ни странно, было весело. В фестивале чувствовалась какая-то целостность – куча семей, повсюду развеваются американские флажки, а от музыки и самому хочется нацепить ковбойскую шляпу, и неважно, как по-дурацки я в ней выгляжу. Я съел целых шесть бургеров – пища богов, ничего лучше я, наверное, и не пробовал. Бабушка вопила так, словно выиграла в лотерею, топала ногами и в принципе вела себя как восемнадцатилетняя, а не восьмидесятилетняя, и это зрелище принесло мне истинное удовольствие. Скачки, ловля на лассо, ковбои, которых мотало из стороны в сторону, как тряпичных кукол, на брыкающихся лошадях и разъяренных быках, и девушки, держащиеся верхом так, будто родились в седле. Собственно, я не сомневался, что в случае Джорджии именно так и произошло. Я частенько исподтишка наблюдал, как она катается.
С того случая в амбаре я изо всех сил избегал нашей встречи. Просто не знал, как с ней быть. Для меня она была «темной лошадкой», так сказать. Типичной провинциалкой, страдающей от просторечия и простодушия, а также с манерой говорить прямо в лоб, которая меня одновременно заводила и отталкивала. Мне хотелось сбежать от нее. И в то же время я не мог перестать о ней думать.
Я наблюдал, как Джорджия вылетела на манеж в клубах пыли на своем белом коне, ее волосы развевались позади, губы расплылись в широчайшей улыбке, пока она объезжала расставленные треугольником бочки. Было видно, что она наслаждалась своим коротким рандеву со смертью. Лошади для нее были так же важны, как для меня картины, и глядя на то, как она парит, мне отчаянно хотелось ее нарисовать. Запечатлеть этот полный жизни и движения миг, олицетворявший свободу. Обычно я брался за кисть, когда образов в моей голове становилось слишком много, и затем они изливались яростным, сердитым потоком. Я редко рисовал просто в свое удовольствие, изображая то, что приглянулось глазу. Но по какой-то причине Джорджия, скачущая по пыльному манежу под крики ликующей толпы, очень мне приглянулась.
Я ушел еще до конца состязаний. Бабушка заверила меня, что вернется домой со Стивенсонами и мне нет необходимости ее ждать. Я бесцельно ездил по округе, не желая толкаться среди людей на ярмарке, кататься на колесе обозрения или наблюдать за тем, как Джорджия празднует победу с друзьями. В наличии у нее друзей я не сомневался, как и в том, что у меня с ними нет ничего общего.
Я все ехал и ехал, как вдруг меня охватило дурное предчувствие. Оно поднялось по моим венам к ушам и шее и пульсировало жаром. Я сделал радио погромче в надежде, что это поможет отвлечься от видений. Не сработало. Уже через пару секунд я увидел мужчину на обочине. Он просто стоял и смотрел на меня. Любой другой бы его не заметил – на улице уже стемнело, проселочная дорога освещалась только луной и фарами моего джипа. Однако он весь светился, словно окутанный лунным сиянием.






