Закон Моисея Хармон Эми
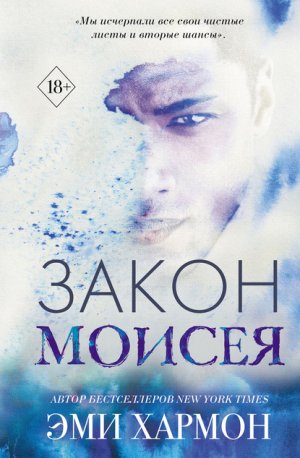
Калико. Я почувствовал ее имя, когда он позвал ее. Слово вплеталось в воспоминание мальчика, поскольку реально услышать его я не мог. Лошадь пробежала вдоль загона и подошла так близко, что ее вытянутая мордочка заняла почти все мое поле зрения. Я ощутил, как она обдала своим дыханием мою ладонь, и понял, что не только слышу, как мальчик общается с ней, но и чувствую его ладонь, будто свою собственную, пока он поглаживал ее между глаз и спускался к раздувающимся ноздрям, которыми она уткнулась мне в грудь. Не мне. Ему. Мальчик так четко передал свое воспоминание, что мне казалось, будто я сам сижу с ним на ограде, слышу и чувствую все, что и он.
«Самая умная и быстрая лошадь во всем Кактусовом округе!»
И вновь я услышал его голос в своей голове, хотя мальчик не произносил ни слова. На сей раз я просматривал воспоминание не отдельными кадрами, как обычно, а видеороликом. Звук искажался и был приглушенным, как в домашнем видео на слишком низкой громкости. Но все же он был частью воспоминания – тоненьким голоском, комментирующим происходящее.
А затем бабочки улетели, и на секунду мой разум опустел, словно сломанный экран телевизора.
Порой мертвые показывали очень странные вещи, которые не имели никакого смысла. Мелочь, растения, миску с пюре. Я редко понимал, что они хотели этим сказать – только то, что они пытались до меня что-то донести. Со временем я пришел к выводу, что для них повседневность имела другое значение. То, что они мне показывали, неизменно представляло собой какое-то воспоминание или важный для них момент. Я не всегда понимал почему, но очевидно, что ключевую роль играли самые заурядные вещи, а предметы сами по себе не имели значения. Мертвым было плевать на землю, деньги или наследие, которое они передавали будущему поколению. Для них главными были люди, которых они покинули. И именно эти люди не давали им уйти. Не потому, что мертвые не могли адаптироваться, а потому, что не могли их возлюбленные. Мертвые не были злыми или растерянными. Они в точности понимали, что происходит. Это живые не имели ни малейшего представления. Большую часть времени я и сам ничего не понимал, и попытки разобраться в желаниях мертвых, мягко говоря, изнуряли меня. И еще мне не нравились мертвые дети.
Мальчик выжидающе смотрел на меня своими серьезными и пронизывающими карими глазами.
– Нет. Я не хочу в этом участвовать. Не хочу, чтобы ты здесь находился. Уходи, – твердо произнес я, и в мой разум тут же попыталось пробиться еще одно воспоминание.
Видимо, мальчик не воспринял мой отказ. На этот раз я зажмурился и свирепо воспротивился, представляя обрушивающиеся стены воды, которая растекалась по земле – по сухому проходу, позволявшему мертвым переходить на другой берег. Я обладал силой разводить море. И та же сила могла сомкнуть воду. Прямо как сказала мне Пиби, прямо как у библейского Моисея. Когда я открыл глаза, мальчик исчез в потоке Красного моря, которое смывало все, что я не желал видеть.
Глава 16. Моисей
Но, по всей видимости, Эли умел плавать. Так его звали. Я увидел его имя, написанное корявыми, едва разборчивыми буквами на светлой поверхности. ЭЛи.
Его не поглотили призванные мною волны. Он вернулся. А затем снова. И снова. Я даже уехал на какое-то время, будто это когда-либо помогало. Тут, там, на другом конце света – от себя не сбежать… как и от мертвых, напомнил мне Таг, когда я ему пожаловался, бросая сумку на заднее сиденье машины. В салоне моего новенького грузовика все еще пахло кожей, и мне хотелось сесть за руль, отправиться в путь и никогда не останавливаться. Я ехал с опущенными окнами и громкой музыкой, чтобы укрепить свои стены. Но стоило мне свернуть в сторону Бонневилля в западной части долины, как на дороге возник Эли. Его черный плащ развевался на ветру, словно он действительно там стоял – одинокий мальчишка посреди пустой трассы. Я резко развернулся и поехал домой, закипая от подобного вторжения в мою жизнь и гадая, как же, черт побери, ему постоянно удавалось просочиться сквозь мои трещины.
Он показал мне, как листал книгу с потрепанной обложкой и загнутыми уголками страниц, на заднем фоне слышался приглушенный женский голос, зачитывавший историю. Он сидел у нее на коленях, прижимаясь головой к груди, и я чувствовал, как она обнимала его, словно сам сидел в ямке между ее скрещенных ног. Еще он показал мне Калико, а затем ноги в обтягивающих джинсах, проходящие мимо стола, будто он сидел под ним в своей личной маленькой крепости. В общем, всякую всячину, которая не значила для меня ровным счетом ничего, и в то же время значила для него все.
Когда Эли разбудил меня в три часа ночи и показал образы закатов и как он сидел в седле перед женщиной, чьи волосы щекотали ему щеки, я откинул одеяло и взялся за кисть. Мои руки двигались в лихорадочном ритме, поскольку мне не терпелось поскорее отделаться от ребенка, который не давал мне покоя. Картинку, вертевшуюся в моей голове, я придумал сам. Эли не пытался внедрить ее в мои мысли, но я представлял, как должна была выглядеть эта парочка: русая мать и ее темноволосый сын, его затылок прижат к ее груди, пока они скачут на лошади в сторону красочного горизонта. Закат расцветал над холмами, и все краски были яркими, но смазанными, как у Мане, будто мы смотрели на всю эту красоту сквозь мутное стекло. Их силуэты были вполне различимыми, но в то же время иллюзорными. Таким образом я как бы держал зрителя на расстоянии, позволяя ему наслаждаться видом без вмешательства в эту идиллию, наблюдать, но не становиться ее частью. Это напомнило мне о том, как я смотрел на образы, которые показывали мне мертвые. Так мне удавалось сохранять дистанцию и обезопасить себя.
Закончив, я отступил на шаг и опустил руки. Мои рубашка и джинсы были забрызганы краской, плечи невероятно напряжены, руки затекли. Повернувшись, я заметил взгляд Эли, смотрящего на мазки, которые один за другим создавали жизнь. Неподвижную, но все же. Я надеялся, что этого будет достаточно. В прошлом это всегда срабатывало.
Но затем Эли перевел взгляд на меня и встревоженно нахмурился. И медленно покачал головой.
Он показал мне настольную лампу в форме ковбойского сапога и как она откидывала свет на стену. Присмотревшись, я увидел тень женщины и наблюдал, как она наклонилась и поцеловала свое дитя перед сном.
– Спокойной ночи, вонючка Стьюи! – сказала она, уткнувшись носом в местечко между его шеей и плечом.
– Спокойной ночи, проныра Бейтс! – радостно ответил он.
– Спокойной ночи, подлец Скитер! – парировала она.
– Спокойной ночи, грубиянка Боунс! – хихикнул Эли.
Я не понимал, что это за прозвища, но они все равно вызвали у меня улыбку. Это воспоминание буквально источало любовь. Но я все равно отмахнулся от него и захлопнул дверь перед этим трогательным зрелищем.
– Нет, Эли. Нет. Я не могу дать тебе то, что ты хочешь. Я понимаю, что ты скучаешь по маме, но тут я бессилен. Зато могу предложить тебе следующее: ты поможешь мне найти ее, и я подарю ей это, – я показал на подсыхающую картину, созданную для этого настойчивого мальчика. – Я могу отдать ей твой рисунок. Ты помог мне его создать, так что он твой. Ты можешь подарить его маме.
Эли долгое время смотрел на картину. А затем без всяких предупреждений исчез.
Моисей
– Очень красиво, – Таг кивнул на холст на мольберте. – Не похоже на то, что ты обычно рисуешь.
– Ага. Потому что это моя фантазия, а не его.
– Ребенка?
– Да.
Я нервно провел рукой по своим коротким волосам, хотя сам не знал, что меня так взволновало. Эли не возвращался. Может, картина все-таки сработала.
Таг явился ко мне без приглашения, прямо как в былые времена, и я был благодарен ему за отвлечение. Он частенько приходил, когда ему нужен был партнер для спарринга или что-нибудь подъесть из моего холодильника, или временно одолжить у меня картину и повесить ее у себя на видном месте, чтобы впечатлить очередную даму вечера.
Но Таг уже потренировался, и я не планировал вымещать на нем накопившееся раздражение. Кончики его волос были влажными, из-за чего вились и липли ко лбу и шее, а футболка пропиталась потом и облепливала грудь. Когда Таг решал деловые вопросы, то всегда приводил себя в порядок – зачесывал назад волосы и надевал дорогой костюм, – но в остальное время выглядел немного неопрятным из-за не единожды сломанного носа и длинных лохматых волос. Не знаю, как ему было не жарко с такой длиной. Меня это просто сводило с ума, поэтому я и стригся так коротко. Может, все дело было в том, что при встрече с мертвыми у меня горела шея и кружилась голова, и тело сжигало энергию, словно печка.
Таг снял футболку и промокнул лицо, параллельно наливая себе стакан моего апельсинового сока и молоко в пиалу с хлопьями. Затем сел за стол на кухне, словно мы старая супружеская пара, и принялся уплетать за обе щеки, больше никак не комментируя картину, на которую я потратил полночи.
Тагу дружба давалась легче, чем мне. Я редко к нему заглядывал. Никогда не ел его еду и не разбрасывал грязную одежду по его полу. Но я был признателен за его визиты и никогда не жаловался, что он воровал у меня еду, картины или оставлял свои потные носки. Если бы Таг не обосновался в моей жизни, мы бы не стали друзьями. Я просто не знал, как быть другом, и он, похоже, это понимал.
Я доел хлопья и отодвинул пиалу, вновь переводя взгляд на мольберт.
– Почему она блондинка? – поинтересовался Таг.
Я нахмурился и пожал плечами.
– А почему нет?
– Ну, мальчишка… смуглый. Меня просто удивило, что ты нарисовал ее блондинкой, – обосновал Таг, поглощая очередную ложку.
– Я черный… и моя мать была блондинкой, – ответил я как ни в чем не бывало.
Таг замер с ложкой на полпути ко рту. Я наблюдал, как хлопья пытаются выбить себе еще пару секунд свободы и ныряют обратно в пиалу.
– Ты никогда не говорил об этом.
– Разве?
– Нет. Я знаю, что твоя мама оставила тебя в прачечной. Знаю, что у тебя было отстойное детство. Знаю, что ты жил с бабушкой перед ее смертью. Знаю, что ее смерть здорово тебя пошатнула, и именно поэтому я здесь, – он подмигнул. – Знаю, что ты всегда видел то, чего не видят остальные. И знаю, что ты умеешь рисовать.
Моя жизнь в двух словах.
– Но я не знал, что твоя мать была блондинкой. Хотя это не имеет значения. Просто ты такой темный, что я предполагал…
– Да.
– Значит… на картине изображены вы с мамой? Разве она не была провинциалкой?
– Нет. В смысле… да. Она была белой провинциалкой, – на этот раз я сделал акцент на «белой», чтобы сразу все разъяснить. – Но нет, на картине изображены Эли с его мамой. Но мне кажется, он хотел не этого.
– Холмы. Закат. Напоминает мне Санпит. Он выглядел просто прекрасно, когда я не страдал от похмелья.
– И Леван.
Я уставился на картину – на ребенка и его мать на лошади по имени Калико, на эту высокую и стройную женщину в седле, чьи светлые волосы были едва заметны на фоне более ярких розовых и алых оттенков заката.
– Она похожа на Джорджию, – задумчиво произнес я.
Со спины она действительно напоминала Джорджию. Внезапно мое сердце ухнуло в пятки, и я подошел к рисунку, созданному в порыве отчаяния, с пейзажем и персонажами, которые были плодами моей фантазии. Не Эли. Это не имело никакого отношения к Джорджии. Мое сердце все равно забилось быстрее, дыхание участилось.
– Она похожа на Джорджию, Таг! – громче повторил я и услышал панику в своем голосе.
– Джорджия… Та девушка, которую ты так и не смог забыть?
– Что?
– Ой, да ладно тебе, чувак! – простонал Таг с легким смешком. – Мы с тобой давно знакомы. И за все это время ты ни разу не интересовался ни одной женщиной. Ни разу. Не знай я тебя лучше, то решил бы, что ты влюблен в меня.
– Я видел ее в прошлую пятницу. В больнице.
У меня даже не было сил с ним спорить. Меня подташнивало, руки дрожали так сильно, что пришлось завести их за шею и переплестись пальцами, чтобы скрыть это.
Таг выглядел не менее удивленным, чем я.
– Почему ты ничего не сказал мне?
– Я увидел ее. А она меня. И… и теперь я вижу ребенка.
Я сорвался с места и побежал в спальню, Таг следовал за мной по пятам. Ужас бурлил в моих венах, будто мне вкололи какой-то яд.
Я достал свой старый рюкзак с полки в шкафу и начал выкидывать из него вещи. Паспорт, карандаш, завалявшийся арахис, кошелек с мелочью в разной валюте, которую я так и не потратил.
– Где же оно?! – бушевал я, расстегивая карманы и роясь в каждом отделении, как наркоман, ищущий таблетки.
– Что ты ищешь? – Таг стоял чуть поодаль и наблюдал, как я кромсаю свой шкаф, с восхищением и беспокойством.
– Письмо! Джорджия написала мне письмо, когда я был в Монтлейке. Я так его и не прочел, но оно было здесь!
– Ты спрятал его в один из тубусов в Венеции, – с легкостью ответил он. Затем сел на кровать и облокотился на колени, созерцая, как я постепенно терял самообладание.
– Откуда ты это знаешь, черт возьми?!
– Потому что ты постоянно таскал его с собой. Повезет, если в нем еще можно будет что-нибудь разобрать.
Я полез глубже в шкаф и достал тубусы со скрученными картинами, купленными во время путешествий, которые я так и не повесил в рамку. Мы отправляли сувениры со всех уголков мира отцу Тага, и он складировал их в пустой комнате. Когда мы остепенились, он привез их нам. Четыре года странствий и покупок – наши трофеи занял половину его фургона для лошадей. После этого мы быстро сгрузили все в хранилище, поскольку не горели желанием разгребать нажитое добро. К счастью, тубус, о котором говорил Таг, должен был лежать где-то у меня в шкафу, ведь он не ошибся. Я действительно повсюду таскал это письмо с собой, как какой-то бесценный медальон, который я никогда даже не открывал. Возможно, именно потому, что его ни разу не открывали, мне казалось неправильным от него избавляться.
– Оно было в маленьком… – начал Таг.
– Ты читал его? – перебил я, яростно копаясь в вещах.
– Нет, хоть эта мысль и посещала мою голову.
Я нашел нужный тубус и снял крышку зубами. Затем опустился на колени и вытрусил из него содержимое, как ребенок на Рождество. Покидая Монтлейк, я спрятал письмо в конверт, чтобы сохранить его в более-менее первозданном виде, и он беспрепятственно выскользнул прямо мне на колени. И, точно как ребенок на Рождество, который не может решить, нравится ли ему подарок, я просто уставился на него.
– Оно выглядит так же, как и во все прошлые разы, когда ты доставал и пялился на него, – протянул Таг.
Я кивнул.
– Хочешь, я сам его прочту? – произнес он уже более учтивым тоном.
– Таг, ты ведь знаешь, что я сволочь? Я повел себя как сволочь тогда с Джорджией и мало изменился за эти годы.
– Боишься, что после прочтения этого письма я перестану тебя любить? – в его голосе слышалась улыбка, и от этого мне стало немного легче дышать.
– Ладно. Давай ты прочтешь его. Я не могу.
Я передал ему письмо и поборол желание заткнуть уши.
Таг разорвал конверт, развернул лист бумаги, наполненный словами Джорджии, и с пару секунд молча смотрел на него. А затем зачитал:
* * *
Дорогой Моисей!
Я не знаю, что сказать. Не знаю, что чувствовать. Единственное, что я знаю, это то, что ты застрял там, а я здесь, и мне еще никогда не было так страшно. Я постоянно навещаю тебя и ухожу, так и не добившись встречи. Я волнуюсь за тебя. Волнуюсь за себя.
Увидимся ли мы еще когда-нибудь?
Боюсь, что нет. И если это так, ты должен знать, что я чувствую. Возможно, однажды и ты сможешь поделиться со мной своими эмоциями. Мне бы очень-очень этого хотелось, Моисей.
Ладно, все карты на стол. Я люблю тебя. Правда. Ты пугаешь меня и восхищаешь, вызываешь желание ранить тебя и в то же время залечить все твои раны. Это странно, что мне хочется сделать тебе больно? Я хочу причинить тебе такую же боль, какую причинил ты мне. Однако даже мысль о твоих страданиях мучит меня. Нелогично, правда?
Во-вторых, я скучаю. Скучаю по встречам с тобой. Я могла бы смотреть на тебя целыми днями напролет. Не только потому, что ты красивый, – хотя не без этого, – не только потому, что ты создаешь красоту – и не без этого, – а просто потому, что что-то в тебе манит меня и заверяет: если бы ты просто впустил меня в свое сердце, если бы ты просто ответил взаимностью, у нас была бы красивая жизнь. Мне бы искренне хотелось, чтобы твоя жизнь наладилась. Больше, чем чего-либо другого.
Не знаю, прочтешь ли ты это письмо. Не знаю, ответишь ли на него. Но я хочу, чтобы ты узнал о моих чувствах, пусть они и изложены в этом убогом письмеце, которое пахнет Миртл, потому что оно месяц пролежало в моем бардачке.
Надеюсь, ты согласишься выслушать меня вживую, когда выйдешь из больницы. Даже если ты потом уедешь.
Пожалуйста.
Джорджия
P. S. Помнишь мои пять плюсов? Они не изменились. Даже после всего произошедшего, я по-прежнему благодарна. Просто хотела, чтобы ты знал.
* * *
Мы сидели в молчании пару долгих секунд. Я потерял дар речи. По сути, в письме не было сказано ничего такого. Но присутствие Джорджии в комнате стало ощутимым, реальным и теплым, как ее карие глаза и персиковые поцелуи. Ее слова буквально слетели с бумаги и протащили меня через тоннель в прошлое. Она будто стояла передо мной и ждала ответа. Поразительно, но даже после стольких лет у меня его не было.
– Чувааак, – присвистнул Таг. – Ты и вправду сволочь.
– Я еду в Леван, – заявил я, удивляя самого себя. Таг изумленно отпрянул.
– Зачем? Приятель, что происходит? Я чего-то не понимаю?
– Да нет, пустяки. В смысле, я подумал, что… – я замолк, поскольку сам не знал, о чем думал. – Забудь об этом.
Я забрал у Тага письмо и начал складывать его пополам, пока не остался плотный маленький квадрат. Затем положил его на ладонь и обхватил пальцами, будто мог просто его выбросить – просто выбросить все, что меня беспокоило. Я мог перечислить причины для этого беспокойства на пальцах, как делала мама Джорджии с приемными детьми, и выбросить их.
– Я не могу ясно мыслить. Мне плохо спалось последние пару дней. И встреча с Джорджией… – мой голос затих.
– Значит, ты собрался в Леван. И я поеду с тобой.
Таг встал, словно этот вопрос уже решен.
– Таг…
– Мо.
– Я не хочу, чтобы ты ехал.
– Это тот город, который ты терроризировал, верно?
– Никого я не терроризировал, – возразил я.
– Когда они обсуждали, что не помешало бы добавить городу ярких красок, вряд ли они думали про тебя, Моисей.
Я невольно рассмеялся.
– Я поеду с тобой и прослежу, чтобы тебя не погнали оттуда вилами.
– Что, если она не захочет со мной разговаривать?
– Тогда, возможно, тебе придется переехать туда на какое-то время. Бегать за ней, пока она не передумает. У меня создалось впечатление, что в свое время Джорджия была очень настойчивой с тобой. Сколько раз ты отшивал ее? Сколько раз она все равно возвращалась?
– Мне по-прежнему принадлежит бабушкин дом, так что у меня есть жилье и причина там остаться. Все эти годы я уплачивал налог на собственность.
– Тебе нужна моральная поддержка. Я представлю, что я Рокки Бальбоа, и потренируюсь несколько дней с шинами от трактора и курами. Если Леван хоть немного похож на Санпит, у них должно быть в достатке и того, и другого.
Глава 17. Моисей
Мы съехали с магистрали неподалеку от Нифая и поехали по старой трассе в Леван. Ее называли «леванский хребет». Самая заурядная двухполосная дорога с полями, растущими по бокам. Мы миновали стоянку «Круг А» с ее большим алым знаком, который было видно над эстакадой и за километр с автострады, чтобы дальнобойщики и усталые водители знали, что долгожданный отдых уже близко.
– Моисей, разворачивайся.
Я удивленно покосился на Тага.
– Я хочу увидеть то место. Оно там, верно?
– Ты о Молли?
– Да. Я хочу увидеть эстакаду.
Я не спорил, хотя смотреть там было не на что. Мой рисунок давно закрасили, и все о нем уже забыли. Как и о Молли. Но только не Таг.
Я развернул машину и нашел грунтовую дорогу, извивающуюся через поле, а затем выехал за эстакадой и начал подниматься по холмам. Повсюду по-прежнему валялись битые бутылки из-под пива и обертки от фастфуда. Из сломанного CD-плеера, который валялся там уже давно, судя по модели и производителю, торчали провода на месте отсутствующего динамика. Я боялся случайно проколоть шину и припарковался в небольшой яме неподалеку, прямо как в ту ночь много лет назад. В ту же пору года. В такой же октябрь – теплый не по сезону, но ожидаемо прекрасный. На нижних холмах пестрили яркие листья, а небо было таким голубым, что мне хотелось запечатлеть этот цвет при помощи кисти. Но в ту ночь было темно. В ту ночь Джорджия поехала за мной. В ту ночь я потерял голову и, возможно, что-то еще.
Таг начал пробираться между завалами мусора и пошел в поле, которое, должно быть, некогда прочесывали собаки, уткнувшись носами в землю. Затем остановился и окинул взглядом холмы, оценивая расстояние до автострады, от эстакады до задней части зданий, кучащихся у съезда, и пытаясь осмыслить то, что не имело смысла.
Отвернувшись, я подошел к бетонным стенам, поддерживающим автостраду. Одна сторона кренилась вправо, а другая влево, и, прислонившись к стене, которую по-прежнему пригревало солнце, я закрыл глаза и ощутил, как тепло растекается по моему телу.
«Моисей! Стой! Пожалуйста, пожалуйста, не уходи от меня снова!» – раздраженно воскликнула Джорджия, чуть ли не плача. Я слышал страх в ее голосе. Она боялась меня, но все равно приехала. От этой мысли я замедлился, а затем и вовсе остановился. И, повернувшись, позволил ей догнать меня. Мои руки так крепко сомкнулись вокруг нее, что пространство между нами стало пространством вокруг нас, над нами, но не внутри нас. Я ощутил барабанную дробь под ее мягкой грудью, и мое сердце поспешило подхватить ритм. Я приоткрыл ее губы своими, желая увидеть краски, почувствовать, как они облизывают стенки моего горла и поднимаются к глазам, словно огни сигнальной ракеты. Я целовал ее снова и снова, пока между нами не осталось секретов. Ни ее, ни моих. Ни Молли. Только жар, свет и краски. Я не мог остановиться. Да и не хотел. Ее кожа была как шелк, вздохи как атлас, и я не мог отвести глаз от чистого удовольствия, написанного на ее лице, или от мольбы, чувствующейся в торопливых движениях ее рук.
Волосы Джорджии, губы Джорджии, кожа Джорджии, глаза Джорджии и ее длинные-предлинные ноги.
Любовь Джорджии, доверие Джорджии, убежденность Джорджии, стоны Джорджии и ее долгое-предолгое ожидание.
А затем крики страсти превратились в нечто другое. В этом звуке ясно слышалась грусть. За ним последовали слезы. Джорджия согнулась пополам от рыданий. Волосы струились вокруг нее, как и водопад из ее глаз и вой изо рта. Она перестала обхватывать меня своими длинными-предлинными ногами и поджала их под себя, словно кланялась или молилась, и плакала, плакала, плакала…
Я открыл глаза и сел ровно, не зная, что было воспоминанием, а что фантазией. У меня скрутило живот и закружилась голова, словно я слишком долго дремал и получил тепловой удар. Я потер шею потной ладонью. Много времени пройти не могло. Таг по-прежнему бродил по полю, пытаясь найти хоть какой-то знак, который направил бы его к прощению или пониманию. Прищурившись, я посмотрел на заходящее солнце и снова повернулся к стене, чтобы дать ему время осознать, что не существует ни того, ни другого.
У противоположной стены сидел Эли, его короткие ноги в пижаме Бэтмена прижимались к груди, словно он тоже приготовился к долгому-предолгому ожиданию. Его темные кудряшки прикрывал капюшон, и пришитые к нему треугольные кусочки ткани, которые должны были напоминать уши летучей мыши, придавали мальчику дьявольский вид, противоречащий его ангельскому личику.
Я громко выругался – громче, чем намеревался, – и звук эхом отразился от бетонных стен, из-за чего Таг обернулся. Он вопросительно поднял руки.
– Пора ехать, Таг. Я больше не могу здесь находиться, – крикнул я, уходя от мальчика, который навязчиво делился образами все той же белой лошади с пятнами на задних ногах. Затем в воздух взмыло лассо и безупречно приземлилось на шею кобылы, натягиваясь под силой невидимой руки. Калико встряхнула белоснежной гривой и тихо заржала, а затем недовольно побежала трусцой. Я не знал, как ее освободить.
– Он постоянно показывает мне белую лошадь, – буркнул я, когда мы с Тагом сели в машину и выехали на трассу, ведущую от одной трагедии к другой. Я не хотел здесь находиться. Таг тоже вряд ли. – С пятнами на крупе. Одну и ту же лошадь, снова и снова! Как на моей картине.
– Пейнтхорс.
– Что?
– Порода с таким окрасом называется пейнтхорс. Или сокращенно пейнт.
– Пейнт[8]…
Внезапно я задумался, не был ли образ той лошади символическим. Быть может, мальчик просто хотел, чтобы я рисовал. Быть может, я все неправильно понял.
Моисей
Мы с Тагом прошли через дверь в совершенно пустой дом. В нем не было ни мебели, ни посуды, ни ковров на полу. От моей прабабушки ничего не осталось, будто этот дом никогда ей и не принадлежал. В нем определенно даже не пахло ею. Внутри было пыльно и сыро, комнаты отчаянно нуждались в проветривании. Это была просто пустая коробка. Я замешкался на пороге, глядя на лестницу, затем прошелся вправо и влево, оценивая свои ощущения, пока, наконец, не перешел в обеденный зал и кухню, где не осталось ничего, кроме занавесок в красную полоску, висящих на окошке над раковиной. Занавески в гостиной тоже оставили. Они никому не были нужны. Но я догадывался, что дело скорее в том, что они затвердели от краски, а не в их устаревшем стиле.
Стены никто не закрасил.
Я неожиданно замер, и Таг врезался мне в спину. Он резко втянул воздух, а затем медленно выдохнул поток ругательств, которые даже я бы не решился использовать.
Я обнаружил бабушку где-то около 6:45. Я запомнил время лишь потому, что в ее прихожей стояли часы с птицей, которая пела каждый час и издавала трели каждые полчаса. Но каждые четверть часа птичка высовывала голову и громко щебетала, сообщая о прошедшем времени. Предупреждая, что час близится. В то утро я прошел в дом в полубессознательном состоянии, мечтая лечь в свою кровать и проспаться от страсти и любви, которые буквально липли к моей коже. И в этот момент птичка пронзительно защебетала, как бы спрашивая: «Где ты был?»
Я подскочил от неожиданности и посмеялся, а затем прошел в обеденный зал и позвал бабушку: «Пиби!»
– Пиби! – повторил я и услышал, как эхо моего крика раскатывается по пустому дому.
Я сделал это ненамеренно, и Таг протолкнулся мимо меня, подходя к стене, наполненной вихрями красок и вьющимися завитками. Мы будто катались на карусели посреди циркового шатра, и все вокруг были клоунами. Цвета, броские и помпезные, сливались друг с другом, одно лицо переходило в другое, как фотография машины в движении – все в расфокусе, перспектива искажена. Я нашел Пиби в 6:45 утра. Джорджия нашла меня в 11:30. Я рисовал почти пять часов и заполнил стены всем и ничем.
Часы отбили время, и птичка издала мелодичную трель; мои затекшие руки двигались вверх и вниз, завершая лицо, не имевшее ничего общего с тем, что я хотел увидеть. А затем в дом вошла Джорджия. Бедняжка.
– Это Молли, – выдавил Таг, прикоснувшись рукой к изображению сестры, оглядывавшейся через плечо, чтобы поманить меня за собой. Ее волосы, нарисованные золотой краской, растекались рекой и сливались с волосами других девушек, бегущих рядом с ней.
Я только кивнул в ответ. Я плохо помнил тот день, все было как тумане, подробности стерлись из моей памяти. Он был как сон, который я помнил лишь обрывками по пробуждению.
– Кто все эти люди? – прошептал Таг, проходя взглядом по размытым рисункам.
Я пожал плечами.
– Некоторых я знаю. Некоторых помню. Но большинство мне незнакомы.
– Тебе нравятся блондинки.
– Вообще нет, – я покачал головой.
Таг вскинул брови и многозначительно посмотрел на девушек вокруг Молли и на рисунок моей матери с корзиной младенцев.
Я просто покачал головой. Потусторонний мир не объяснить. Я просто рисовал, что видел.
– Мо?
– Да?
– Это чертовски стремно. Ты ведь это знаешь?
Я кивнул.
– В то время я этого не понимал. Я даже не видел саму картину. Я жил ею. Но да.
Мы оба еще какое-то время рассматривали стены, пока мне это не осточертело.
– Как считаешь, сюда пойдет красный диван? – спросил я. – Поскольку я думаю прикупить именно его.
Таг издал громкий пораженный смешок, от которого задрожала паутина и испарилось затяжное ощущение ужаса в комнате. Затем покачал головой и посмотрел на меня как на безнадежного.
– Чувак, ты и вправду больной.
Я тоже посмеялся и толкнул его, нуждаясь хоть в каком-то контакте. Таг толкнул меня в ответ, и, споткнувшись, я схватился за него. Мы схлестнулись и пытались занять позицию получше, чтобы повалить другого на зад. В итоге мы врезались в стену и сорвали покрытые красками шторы, впуская тусклый луч света в разукрашенную комнату. Но избавиться придется не только от штор, но и от стены. Я не хотел спать в этом доме, пока он снова не побелеет.
Джорджия
Возле старого дома Кэтлин Райт стоял грузовик. В течение последних двух дней он постоянно то приезжал, то уезжал. Входная дверь была открыта нараспашку, в багажнике находилось несколько банок с краской, стремянки, защитная пленка и широкий ассортимент разных инструментов. Грузовик был черным и блестел как новенький. Когда я тайком заглянула в окно, словно любопытная маленькая провинциалка, коей и была, то увидела кремовые кожаные сиденья и ковбойскую шляпу на приборной доске. Грузовик был совсем не в стиле Моисея, и я знала, что он ни за что бы не надел эту шляпу.
Но, насколько мне было известно, он по-прежнему владел домом. Мой живот нервно сжался, но я отказывалась признавать свое волнение. Наверняка он приехал лишь для того, чтобы прибраться и уехать восвояси. Скорее всего, Моисей хотел продать дом. И на этом все. Вскоре он снова покинет наш город, и я смогу заняться своими делами. Но желудок мне не верил, и все эти дни чувство тревоги постоянно сопровождало меня, пока я выполняла все пункты из списка дел по хозяйству, хоть и не получала от этого никакого удовольствия. Отец вернулся из больницы и, не считая остаточной слабости, чувствовал себя нормально. Мама постоянно суетилась вокруг него, что вызывало у него раздражение, а я просто старалась как можно больше времени проводить вне дома.
Но это значило, что каждые десять минут мой взгляд возвращался к окнам дома Кэтлин. Утром, выгуливая Лакки по западному пастбищу, которое примыкало к ее заднему дворику, я заметила, что с окон сняли занавески. Они годами были плотно задвинуты, не позволяя заглянуть внутрь, а теперь окна открыли, словно кто-то проветривал дом. Я слышала музыку, и один раз мне показалось, что я мельком увидела, как внутри работали Моисей и кто-то еще. Я была взволнованна и часто отвлекалась на свои мысли. Лошади это чувствовали, что не очень-то хорошо, особенно когда ты работаешь с жеребцом по имени Касс[9].
Я объезжала его для Дэйла Гарретта. Касс был крупным скакуном со своенравным характером. Его прозвище полностью резюмировало мнение о нем его хозяина. Дэйл позвонил моему отцу, а отец быстренько сплавил Касса мне. Забавно. Старики в нашем округе не хотели обращаться к девушке за объездкой их лошадей – это задевало их мужское достоинство, и отнюдь не в приятном смысле. Все знали: если просишь дока Шеперда – моего отца – выдрессировать свою лошадь, на самом деле тебе достанется Джорджия Шеперд, но таким образом они подслащивали эту горькую пилюлю. Мне было все равно. В конечном итоге им придется смириться. Я и их надрессирую, прямо как старичка Касса. Мне доставляло невероятное удовольствие укрощение непокорных.
Я гоняла Касса по круглому загону без недоуздка, просто чтобы мы привыкли друг к другу. Сама я стояла по центру с веревкой в руке, размахивая ею как хлыстом, чтобы заставить его изменить направление и уважать мое личное пространство, но по Кассу ни разу не била. Время от времени я вставала у него на пути, чтобы он развернулся, и заставляла переходить на галоп, если он хотел сбежать. Оказывала давление. В этом не было ничего нового. Мы уже проводили подобную тренировку пару раз на прошлой неделе, и сегодня я намеревалась перейти к следующей фазе. Касс позволил мне приблизиться, и, лениво вращая веревкой, я разговаривала с ним все то время, что подходила к его плечу. Пока все шло хорошо.
Касс тяжело дышал, сосредоточив на мне взгляд, но не двигался с места. Я осторожно положила конец веревки на его шею и сняла ее. Затем повторила то же самое, только более резким движением, и он слегка задрожал. Я перекинула веревку на другую сторону, поглаживая ею Касса, чтобы снизить его чувствительность и приучить к моим касаниям. А дальше медленно и аккуратно связала ее в свободную петлю и оставила висеть на его плечах. Второй конец веревки остался в моих руках, и я ждала, не воспротивится ли Касс.
– Скоро он сам будет молить Джорджию, чтобы она привязала его, – раздался голос откуда-то сзади.
Касс вздрогнул и жалобно заржал. Резко повернув голову, он потянул меня за собой, и веревка выскользнула у меня из рук, раздирая кожу.
– Видимо, некоторые вещи никогда не меняются.
Я вытерла расцарапанные руки и повернулась к нему. Мне не нужно было видеть его лицо, чтобы знать, кто нас прервал. В какой-то мере я была даже рада – мне хотелось поскорее покончить с этим.
Моисей стоял на нижней рейке ограды, закинув руки на верхнюю. Рядом с ним был мужчина с зубочисткой во рту, занявший точно такую же позу. Но на этом сходства заканчивались.
– Я так понимаю, животные по-прежнему тебя не любят? – поинтересовалась я, довольная своим самообладанием.
– И не только животные. Моисей у многих людей не вызывает теплых чувств, – незнакомец улыбнулся и протянул руку над оградой. – Вообще-то, кажется, я его единственный друг.
Я подошла к ним и пожала протянутую руку.
– Здравствуй, Джорджия. Я Таг.
В его речи слышался техасский акцент, и он выглядел так, будто мог одной левой управиться с Кассом, если бы захотел. Он напоминал мне доброго деревенского паренька с видом бывшего заключенного, просто чтобы люди были с ним осмотрительнее. Я бы назвала его симпатичным, несмотря на грубоватые черты лица, сломанный нос и острую необходимость в стрижке, но зато у него была ослепительная улыбка и крепкое рукопожатие. Я гадала, что же, черт возьми, свело их с Моисеем.
А затем я встретилась со взглядом его золотисто-зеленых глаз, таких неправильных и в то же время замечательных на его темном лице. И прямо как неделю назад в том переполненном лифте, земля слегка накренилась под моими ногами, и я задалась вопросом: это почва холмистая или исказилось мое видение? Наверное, я пялилась на него слишком долго, но Моисей и не отводил взгляд, слегка наклонив голову вбок, словно тоже хотел скорректировать ракурс.
Парень рядом с ним смущенно прочистил горло и немного посмеялся, бормоча что-то неразборчивое себе под нос.
– Что происходит дома у Кэтлин? Ты хочешь его продать? – спросила я, нарушая зрительный контакт и отворачиваясь.
Моя веревка осталась на шее Касса, так что я взяла ту, что висела на ограде со стороны Тага. Касс отбежал к дальней части загона, будто ему объявили перерыв.
– Возможно. В данный момент я просто убираюсь в нем, – тихо ответил Моисей.
– Почему? – вызывающе спросила я. – Почему сейчас?
Я снова посмотрела на него без тени улыбки, не желая вести разговоры ни о чем с величайшей ошибкой в моей жизни. А я относилась к Моисею именно как в ошибке. Мне хотелось узнать, зачем он приехал. И когда уедет. Я начала обходить Касса, из-за чего он зафыркал и задрожал. Он явно хотел убежать, но, очевидно, не к незнакомцам у ограды.
– Время пришло, – просто ответил Моисей, будто придавал времени больше значения, чем когда-либо мне.
– Если все же решишься выставить его на продажу, я заинтересована в покупке.
В этом был смысл. Я давно подумывала об этом, но не хотела искать Моисея, чтобы внести свое предложение. Но теперь он вернулся. И для меня было бы вполне логично купить дом, учитывая, что он граничил с территорией моих родителей.
Моисей не ответил, и я пожала плечами, словно мне совершенно все равно, что он будет с ним делать, и снова пошла к Кассу, покидая двух нежданных гостей. Пускай делают, что хотят.
– Джорджия?
Я вздрогнула от тона Моисея, а Таг внезапно протянул: «дерьмооооооо», хотя я не видела для этого причин.
– Джорджия? Это твоя лошадь? – напряженно спросил Моисей.
– Кто, Касс? Нет, я просто объезжаю его, – ответила я, не оглядываясь и продолжая идти к жеребцу.
– Нет, я не про него.
Речь Моисея звучала как-то странно, и я посмотрела мимо загона и небольшого манежа для тренировок на пастбище, где паслись наши лошади.
Их было около полудюжины, включая Сакетта и Лакки, которых мы использовали исключительно для иппотерапии. Лакки оказался самым милым, самым спокойным мальчиком в мире. Совершенно одомашненным.






