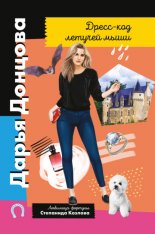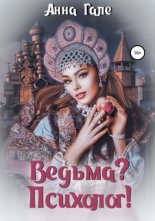Нью-Йорк Резерфорд Эдвард

– Как насчет Парк-авеню? – осведомился Уильям.
– Парк?! – взвилась Роуз, не успев сообразить, что он дразнится. – Никто не живет на Парк!
Парк-авеню испортилась тридцать лет назад стараниями старого коммодора Вандербилта, который возвел на пересечении Четвертой авеню и Сорок второй улицы большое железнодорожное депо, служившее своего рода конечной станцией. Четвертую переименовали в Парк-авеню, что прозвучало неплохо. Но терминал был полным безобразием, а железнодорожные пути сплелись в отвратительный клубок, растянувшийся на дюжину кварталов к северу. Даже за Пятьдесят шестой улицей, где дорога сужалась и становилась крытой, грохот и дым, поднимавшиеся посреди авеню, недвусмысленно обозначали преисподнюю, которая находилась прямо под ногами.
– А как насчет Вест-Сайда? – спросил Уильям. – Там получше.
Она поняла, что он тишком подначивает ее. Вест-Сайт был не так уж плох. Те времена, когда «Дакоту» окружала дикая пустошь, давно миновали. В Вест-Сайде было тише, а цены на землю – ниже. Большие семейные дома на боковых улицах зачастую превосходили размерами свои аналоги в Ист-Сайде, да и число настоящих особняков постепенно росло.
Но кто там жил? Вот в чем загвоздка. Какой была тамошняя атмосфера? Будет ли дом в Вест-Сайде таким же престижным, как коттедж в Ньюпорте?
Нет, селиться нужно где-то поближе к Пятой и Мэдисон-авеню. Вопрос лишь в том, сколь дальше на север?
Прошло почти двадцать лет с тех пор, как Вандербилты воздвигли свои внушительные особняки на Пятой, в районе Пятидесятых улиц. После этого люди принялись застраивать северные участки. На Шестидесятых и Семидесятых улицах, на Мэдисон и Пятой авеню выросли дворцы, построенные во всех мыслимых стилях такими архитекторами, как Каррере и Гастингс, Ричард Моррис Хант, Кимбалл и Томпсон. Французские шато, дворцы в стиле Ренессанса, подобия величайших творений старой Европы, были похищены и воспроизведены с таким блеском, что их владельцы могли взирать на Центральный парк, как принцы из купеческого сословия, кем они, собственно, и являлись.
Мастеры не могли позволить себе такой дворец. Правда, могли жить поблизости. Но стали бы?
Дж. П. Морган не жил там. Особняк Пирпонта Моргана находился на восточной стороне Мэдисон, где Тридцать шестая улица. Мистер Морган открыто выразил свое мнение, сказав, что некоторые особняки на Пятой авеню – образчики вульгарности и уродства. И невозможно было отрицать его правоту. Большинство этих особняков строились «новыми деньгами». Поистине, очень новыми. Хотя огромное состояние Моргана обеспечил его отец Джуниус, оно во всем своем блеске явилось из банковской системы Лондона. Вдобавок Морганы отлично преуспевали в Коннектикуте еще с XVII века. В сравнении со всеми, за исключением старейших голландских фамилий, они воплощали «старые деньги».
В том-то и дело.
Роуз всегда была благодарна свекру за имена, которые он выбрал для сына. Тот факт, что это явилось случайностью, так как жене Тома взбрело почему-то в голову назвать сына Верноном, а Тому оно не понравилось и он предпочел взамен старое родовое имя Вандейк, не имел значения. Имело значение лишь то, что Роуз могла с полным правом именоваться миссис Уильям Вандейк Мастер и, поступая так, заявлять, что ее муж крепок не только деньгами англосаксонских протестантов, но и голландскими предками времен Стайвесанта и более ранних.
Богатство Мастеров было скромным, но деньги – старыми. Это что-нибудь да значило, коль скоро семейство могло позволить себя оставаться в свете.
А потому в этот день ей пришлось обдумывать, как сохранить зыбкое равновесие. Насколько близко ей можно – должно – жить от этих выспренних дворцов, по которым втайне томилось ее сердце? И как долго соблюдать степенную отчужденность? Если сыграть правильно, она добьется идеального результата: новоявленные принцы пригласят ее в свои хоромы и будут гадать, придет ли она.
Жемчужное колье ей подарил Уильям на третью годовщину свадьбы. Оно в точности повторяло колье принцессы Уэльской Александры, которое всегда фигурировало на светских фотографиях из Лондона и значило для Роуз больше, чем все ее прочие драгоценности, вместе взятые. Она поиграла им, витая мыслями на Пятой и Мэдисон-авеню, улица за улицей; припоминая жильцов всех тамошних кварталов и прикидывая, что брать, если она найдет там безукоризненную светскую площадку – дом или участок под застройку.
– Смотри, Тото! – показала Анна. Капитанский мостик мешал рассмотреть огромный монумент, но пассажиры столпились у левого борта, откуда его приближение было видно лучше. – Статуя Свободы!
Протискиваться к лееру было незачем. Огромная статуя нависла над ними. Казалось, ее поднятая рука, сжимавшая факел, касалась небес. Сальваторе молча уставился вверх. Вот она, Америка.
Сальваторе мало что знал про Америку. Ему было известно, что она велика, а люди говорят на английском, из которого дядя Луиджи помнил несколько слов, и если работать в Америке, то тебе дадут доллары для отправки на родину. Он никогда не слышал об англосаксонских пуританах и голландских колонистах, равно как и о богобоязненных фермерах Новой Англии. В его семье никогда не говорили ни о «Бостонском чаепитии», ни о Бене Франклине, ни даже о Джордже Вашингтоне. Взирая на Статую Свободы, не мог он и вывести из нее существование соответствующих христианских и демократических традиций.
Но инстинктивно он, будучи уроженцем Средиземноморья, понял, что видит.
Мощь. Колоссальное светло-зеленое языческое божество возвышалось над водами, стоя на огромном пьедестале. На высоте сотен футов из-под громадного венца смотрело бесстрастное героическое лицо, проникнутое олимпийским спокойствием; взгляд статуи упирался в ясное синее небо, а поднятая рука возглашала одно: Победа. Малыш почувствовал, что если статуя и приветствует его, то не сама, а от лица империи, подобной империи его предков. Озадачило только одно.
– Это мужчина или женщина? – шепнул он Анне.
Она тоже смотрела не понимая. Огромный лик, казалось, принадлежал мужскому божеству, но массивная хламида, ниспадавшая донизу, намекала на величественную римскую матрону. Анна дернула за рукав дядю Луиджи, задав ему тот же вопрос.
– Это женщина, – сказал дядя Луиджи. – Американцам ее подарили французы.
Если бы он знал, то добавил бы, что скульптор из Эльзаса, что на франко-германской границе, был знатоком и Египта, а потому не приходилось удивляться, что памятник Свободе – такой же вечный, как пирамиды, – заодно отразил современную версию классического духа, французскую Вторую империю с намеком, возможно, и на германское могущество.
Они миновали Эллис-Айленд. Пассажиры первого и второго класса, располагавшиеся в каютах, не проходили процедуру, обязательную для остальных. Они уже подверглись короткому и вежливому досмотру непосредственно на борту, до того как судно вошло в бухту, и были вольны беспрепятственно сойти на берег.
Справа по борту возник Губернаторский остров, затем – оконечность Манхэттена с ее маленьким фортом и парком. За ней показалась Ист-Ривер, украшенная лесом пароходных труб и высоченных мачт парусников. Слева по борту Сальваторе увидел высокие скалы Палисадов, уходящие к Гудзону. Через несколько секунд судно начало медленно поворачивать к хобокенскому причалу на берегу Нью-Джерси, где находились доки для немецких кораблей.
За рекой на многие мили раскинулся Нью-Йорк. Дома из кирпича и песчаника, улица за улицей; там и тут – скопления офисных зданий в несколько этажей. Неподалеку виднелся темный шпиль церкви Троицы, а дальше – устремленные в небо готические башни Бруклинского моста, однако еще грандиознее выглядел десяток небоскребов, высота которых превышала триста футов. Но пока пассажиры пожирали глазами город, Сальваторе начал думать кое о чем другом.
Все произошло у железной лестницы, которая вела на палубу. Именно там он подслушал слова отца. Другие дети не услышали, потому что уже свернули за угол.
Непосредственно перед этим родители разругались из-за дяди Луиджи. Отец сетовал на какой-то его поступок, а мать, как обычно, защищала дядю. Сальваторе не очень-то и прислушивался. Но потом отец повернулся к матери со словами:
– Знаешь, что будет на Эллис-Айленде? Твоего братца отправят домой.
– Не говори так, Джованни! – возмутилась мать.
– Но это правда. Я знаю, как это происходит, я говорил с человеком, который там побывал. Они проверяют не только глаза и грудную клетку – у них есть специальные врачи, которые вылавливают полоумных. Им рисуют на груди крестик, сажают на лавочку и беседуют. Одна минута – и готово! – Он подкрепил сказанное жестом. – Они знают свое дело. Это специалисты из лучших в Америке приютов для душевнобольных. Они мигом поймут, что твой брат не в своем уме, и отправят его обратно в Италию. Ecco[51]. Сама увидишь.
– Молчи, Джованни, я не желаю это слушать! – воскликнула мать.
Но Сальваторе прислушался. И когда они поднялись на палубу, он дернул отца за рукав и шепнул:
– Это правда, папа, что дядю Луиджи вышлют за то, что он сумасшедший?
Отец серьезно взглянул на него:
– Ш-ш-ш! Это секрет. Не смей никому говорить! Пообещай мне.
– Обещаю, папа, – сказал Сальваторе, но ему было страшно хранить эту тайну.
Они сошли с судна только через час. Его отец, Джузеппе и дядя Луиджи несли по тяжелому чемодану. Чемодан дяди из ротанга грозил лопнуть в любую секунду. Был еще деревянный сундук, который отвезли в тележке. Пассажиров третьего класса провели через причал к баркасу. Отец торопил своих, чтобы очутиться в первых рядах. Он переговорил с людьми, вернувшимися из Америки в Италию, и хорошо знал местные порядки.
– Иногда целый день маринуют на этом баркасе, прежде чем пустить на Эллис-Айленд, – сказали ему. – В такую погоду лучше находиться внутри, а не на палубе.
Когда все погрузились, путь до острова занял считаные минуты. И хотя им пришлось подождать, не прошло и часа, как они встали в очередь, медленно продвигавшуюся к широкому дверному проему.
Главную роль на Эллис-Айленде играло большое красивое здание красного кирпича, с четырьмя надежными башнями по углам, которые ограждали линию крыши огромного центрального зала. Очередь двигалась неспешно, но неуклонно. Внутри громогласно командовал какой-то человек, а носильщики забирали багаж. Мать Сальваторе не хотела отдавать чемодан из страха, что его украдут, но ее все равно заставили. Затем все вошли в вестибюль, и Сальваторе обратил внимание на мелкую белую плитку, покрывавшую пол. В вестибюле стояли военные врачи в темных мундирах и сапогах, а также помощники в белом, которые знали итальянский язык и говорили людям, что делать. Вскоре на Сальваторе оказалось несколько пришпиленных ярлыков. Он держался ближе к матери и Анне.
Затем мужчинам велели отойти в одну сторону, а женщинам и детям – в другую. Отцу, Джузеппе и дяде Луиджи пришлось их покинуть. Сальваторе расстроился, так как знал, что дядя не вернется, и крикнул: «До свидания, дядя Луиджи!» – но тот не услышал.
Перед Сальваторе молодой врач проверял глаза прибывшим. Сальваторе увидел, как врач пометил одного ребенка буквой «Т». Когда наконец подошла очередь семейства Карузо, он начал с крошки Марии, аккуратно касаясь ее глаза указательным пальцем. Затем сделал то же самое с Сальваторе. И Сальваторе испытал облечение, так как отец сказал, что ему могут приподнять веко крючочком и будет больно, а он должен набраться храбрости. Врач тщательно осмотрел Паоло, Анну и мать, после чего махнул им, чтобы проходили дальше.
Они оказались перед широкой квадратной лестницей. Отец предупредил их о ней.
– Это ловушка, – объяснил он. – Вам нужно быть очень осторожными, потому что за вами будут следить. Ни в коем случае не показывайте, что устали и запыхались.
И точно! Сальваторе увидел людей в форме, которые молча наблюдали за ними как снизу, так и сверху. Один стоял в углу лестницы и что-то говорил проходящим мимо.
Перед ними было большое семейство, и врачи провозились с ним долго. Движение очереди застопорилось, и Сальваторе совсем заскучал. Но вот оно возобновилось. Когда Сальваторе дошел до человека в форме, тот спросил его имя по-неаполитански[52], чтобы он понял, и Сальваторе произнес его громко, так что человек улыбнулся. Но когда он обратился с тем же вопросом к Паоло, тот закашлялся. Человек ничего не сказал, но пометил грудь Паоло синим мелком. И через несколько секунд его увел другой. Мать пришла в крайнее волнение.
– Что вы делаете? – вскричала она. – Куда вы забираете моего сына?
– В кабинет врача, – сказали ей, – но не беспокойтесь о нем.
Затем один велел Сальваторе вдохнуть поглубже, и тот надулся так, что грудь выпятилась, а человек кивнул и улыбнулся. После этого другой субъект осмотрел его волосы и ноги. Проверка всех заняла какое-то время, но наконец его матери сказали, что можно проходить.
– Я буду ждать здесь, пока вы не вернете мне сына, – заартачилась она, но ей ответили, что ждать придется в регистрационном помещении, и у нее не осталось другого выхода.
Они вошли в это помещение через большую двойную дверь. Оно напомнило Сальваторе церковь: огромное пространство с красным плиточным полом, боковыми нефами, уходящими ввысь стенами и высоким сводчатым потолком в точности повторяло романские базилики, разбросанные по всей Италии. В двадцати футах над их головой тянулся железный балкон, откуда за ними тоже следили чиновники. В дальнем конце виднелся ряд из четырнадцати столов, перед каждым из которых стояли длинные очереди, и люди сновали взад и вперед между разделительными ограждениями, но скопилась еще и толпа тех, кто в очередь не встал и ждал.
Они огляделись, но Паоло нигде не было. Никто ничего не говорил.
Рядом оказался мужчина, с которым они общались на судне. Он был школьным учителем, образованным человеком. Заметив их, он улыбнулся, подошел, и Кончетта рассказала ему о том, что случилось с Паоло.
– Он всего-навсего простудился и кашлял, – сказала она. – Это пустяк. Почему его увели?
– Не волнуйтесь, синьора Карузо, – ответил учитель. – У них здесь имеется больница.
– Больница? – Мать пришла в ужас. Как большинство женщин в их деревне, она не сомневалась, что если угодил в больницу, то уже не выйдешь.
– В Америке все иначе, – сказал учитель. – Здесь лечат, а через неделю-другую отпускают.
Кончетту все равно терзали сомнения. Она покачала головой:
– Если Паоло отправят назад, он не может ехать один…
Сальваторе же думал, что без Паоло в Америке будет не очень-то хорошо.
– Если Паоло отправят домой, можно мне с ним? – спросил он.
Мать издала вопль и схватилась за сердце.
– А теперь мой младший сын хочет бросить семью! – вскричала она. – Где его любовь к матери?
– Нет-нет, синьора! – принялся утешать учитель. – Он еще малыш!
Но мать гневно отвернулась от Сальваторе.
– Смотрите! – воскликнула Анна.
Они увидели Паоло в обществе Джузеппе и отца.
– Мы подождали его, – объяснил жене Джованни Карузо.
Паоло был доволен собой.
– Меня осмотрели три доктора! – сообщил он гордо. – Заставили дышать, кашлять, в горло смотрели! А потом двое слушали грудь, а третий – спину.
– Значит, с тобой все в порядке? – вконец разволновалась мать. – Тебя не забрали? – Она прижала его к себе, потом отпустила и перекрестилась. – Где Луиджи? – спросила она.
– Не знаю, – пожал плечами Джованни Карузо. – Нас разделили.
Сальваторе знал, что случилось. Дядю Луиджи допрашивали врачи из сумасшедшего дома. Но он промолчал.
Семейство встало в очередь. Они простояли долго, а дяди Луиджи все не было, но вот наконец и большие столы, где ждали чиновники: одни сидели, другие высились сзади.
– Позади переводчики, – шепнул отец. – Они знают все языки на свете.
Когда они достигли стола, к Джованни Карузо обратились на неаполитанском, который был понятен каждому из Меццоджорно.
Сверив их имена с декларацией, чиновник улыбнулся:
– Карузо. По крайней мере, судовой эконом правильно записал ваше имя. Иногда они страшно путают, – усмехнулся он. – Сами понимаете, что мы обязаны придерживаться декларации пассажиров. Вы здесь все?
– Кроме моего шурина. Я не знаю, где он.
– Он не Карузо?
– Нет.
– Меня интересуют только Карузо. – Чиновник задал несколько вопросов и остался, похоже, удовлетворен ответами. Оплатили ли они переезд? Да. – А у вас есть работа в Америке?
Сальваторе услышал твердый ответ отца: «Нет».
Сальваторе знал это. Джованни Карузо предупредил семью. Хотя дядя Франческо нашел ему место, об этом следовало молчать, иначе чиновники с Эллис-Айленда отправят его обратно. Это странное правило объяснялось, по его словам, двумя причинами. Первая заключалась в том, что Соединенные Штаты предпочитали людей, согласных на любую работу. Вторая – в намерении воспрепятствовать незаконному промыслу. Существовали так называемые патроны – padrone, – которые сулили рабочие места, оплачивали переезд и даже сопровождали иммигрантов, хотя патрон, естественно, путешествовал первым или вторым классом. Простаки верили патрону как соотечественнику-итальянцу. Он дожидался их в парке неподалеку от пристани и отвозил к новому месту жительства. И вскоре приезжие оказывались в его власти на положении рабов, лишаясь всего, что имели.
Удовлетворенный дознанием, человек за столом махнул им, чтобы проходили.
– Добро пожаловать в Америку, синьор Карузо, – улыбнулся он. – Желаю удачи.
Они прошли через турникет, спустились по лестнице и очутились в багажном помещении. Там им выдали ланч в упаковке и пакет свежих фруктов. Они нашли свои чемоданы и деревянный сундук. Ничего не украли. Сальваторе смотрел, как отец и Джузеппе грузят вещи в тележку. Им сказали, что багаж доставят бесплатно по любому адресу, но Кончетта испытала столь великое облегчение при виде его в целости и сохранности, что больше не собиралась выпускать пожитки из виду.
Она все еще тревожно осматривалась в поисках дяди Луиджи, но Сальваторе не суетился, так как знал, что тот не придет.
Неожиданно мать разразилась криками:
– Луиджи! Луиджи! Мы здесь!
Она взволнованно замахала – и точно: Сальваторе увидел в дальнем конце комнаты дядю, который с улыбкой направился к ним.
– Дядя Луиджи! – бросился к нему Сальваторе.
Дядя шагал со своим чемоданом. Он подхватил Сальваторе свободной рукой и донес до сестры.
– Где ты был? – спросила она. – Мы все глаза проглядели!
Дядя Луиджи опустил Сальваторе на пол.
– Я прошел раньше вас. Жду уже десять минут.
– Слава богу! – воскликнула она.
Но Сальваторе разволновался еще пуще:
– Дядя Луиджи, тебя пустили в Америку! Все-таки пустили!
– Конечно пустили. Почему бы и нет?
– Потому что ты полоумный. Всех сумасшедших отправляют домой.
– Что?! Ты назвал меня сумасшедшим? – Дядя влепил Сальваторе пощечину. – Так-то ты разговариваешь с дядей? – Он повернулся к Кончетте. – Вот, значит, как ты воспитываешь детей?
– Сальваторе! – возмутилась мать. – Что ты такое говоришь?
Горячие слезы застлали взор Сальваторе.
– Это правда! На сумасшедших рисуют крестик, а доктора из сумасшедшего дома расспрашивают их и отправляют домой!
Дядя Луиджи замахнулся снова.
– Хватит, – сказала мать, когда Сальваторе уткнулся в ее юбку. – Луиджи, помоги Джованни с чемоданами. Как будто у нас было мало хлопот! Poverino[53], он не понимает, что городит.
Через несколько минут Сальваторе, оказавшийся рядом с отцом, всхлипнул:
– Дядя Луиджи ударил меня!
Но отец ничем его не утешил.
– Сам виноват, – отрезал он. – Будешь знать, как хранить секреты.
Телефон зазвонил перед самым полуднем 17 октября. Ответил дворецкий. Затем он вошел к Роуз и сообщил, что ее спрашивает муж.
– Передайте ему, что через минуту спущусь, – сказала она, застегивая жемчужное колье-чокер. Оно очень шло к серому шелковому платью.
При всей любви к Уильяму она осталась недовольна его звонком. Он должен был помнить, что она занята. Именно в этот день она ежемесячно вывозила на прогулку бабушку.
И хотя прогулка со старой Хетти Мастер была продиктована долгом, Роуз находила в ней и приятное. Хетти стукнуло почти девяносто, но ум ее оставался острым как бритва. Порой она выезжала в собственном экипаже, но любила и когда ее вывозили, а темы для бесед никогда не иссякали. Она ежедневно читала газеты, а после того, как Роуз познакомила ее с последними достижениями детей, Хетти не упускала случая задать острые вопросы о сравнительных взглядах пулитцеровской прессы и газет мистера Херста[54], на которые Роуз не сразу могла ответить.
Да и семейству, как для честолюбия Роуз, было очень приятно иметь столь яркую фигуру из прошлого.
Иногда под предлогом желания развлечь старую леди Роуз брала с собой на эти ежемесячные выезды светских друзей. Впоследствии те, познакомившись с красивым старым домом в Грамерси-парке, не только восхищались ясностью ума миссис Мастер – это напоминало им, что и дети Роуз унаследовали приличные мозги с обеих сторон, – но и впитывали, после деликатной наводки Роуз, воспоминания старой леди о временах, когда опера еще находилась на Ирвинг-плейс, а Мастеры держали там одну из немногочисленных лож. Эти ложи было невозможно достать ни за какие деньги, несмотря на огромные суммы, которые готовы были выложить желающие. Вандербилты, Джей Гулд, даже сам Дж. П. Морган – все потерпели фиаско, и это заставило их выстроить новый театр – «Метрополитен-опера», куда теперь ходили все. Но Мастеров на Ирвинг-плейс всегда ждала ложа. Этим было сказано все.
– А разве ваш муж не вышел из Юнион-клуба? – подсказывала Роуз.
– Мне всегда нравился Юнион-клуб, – отвечала Хетти. – Не знаю, почему из него выходили.
– Поговаривали, что туда пускали слишком много сомнительных личностей, – напоминала Роуз. – Тогда-то, – поясняла она гостям, – и основали клуб «Никербокер», в котором сейчас состоит мой свекор.
– В Юнионе не было ничего дурного, – повторяла старая миссис Мастер.
Так или иначе, а пора одеваться и выходить. Роуз надеялась, что муж не задержит ее. Внизу дворецкий вручил ей телефон.
– Что случилось, дорогой? – спросила она.
– Просто решил позвонить. Дела тут принимают немного неприятный оборот, Роуз.
– В каком смысле, дорогой?
– Я пока точно не знаю. Мне не нравится поведение рынка.
– Уильям, я уверена, все обойдется. Вспомни, что было в марте.
Весной выдались тревожные дни. После периода льготного кредитования неожиданно выяснилось, что несколько видных компаний угодили в беду. Затем случилось землетрясение в Калифорнии, на рынке возникла паника, и с кредитами стало тяжело. Страсти улеглись, но все лето, пока Роуз была с детьми в Ньюпорте, из города приходили недобрые вести о колебаниях и ненадежности рынка.
Она знала, что Уильям рисковал, как и очень многие, и приступ паники охватил его не впервые, не хуже ей было известно и то, что нервотрепка вряд ли затянется надолго.
– Поговорим об этом вечером, – сказала она. – Сейчас мне пора везти на прогулку твою бабушку.
Из дома на Пятьдесят четвертой улице Роуз вышла в шляпке со страусиным пером и отороченном лисьим мехом пальто, мысленно еще раз похвалив себя, что нашла этот дом. Он находился между Пятой и Мэдисон-авеню, чуть ближе к последней, а следовательно, всего в нескольких кварталах от Центрального парка и по соседству с величественными особняками Вандербилтов на Пятой. Но оказалось, что здешние боковые улицы еще лучше.
Она почуяла это еще во время поисков. Пятую авеню ждали перемены – не дальше, вдоль парка, а здесь, на крупном и модном пересечении проездов. И точно, не прошло и нескольких лет с покупки, как они наступили.
Отели. «Сент-Реджис» и «Готэм». Блистательные, конечно, но все же отели, на пересечении Пятой авеню и Пятьдесят пятой улицы. Теперь через квартал возводили торговое здание. Судя по слухам, там собралась разместиться французская ювелирная фирма «Картье». Изящнее не придумаешь, но это не частный дом. Другое дело – боковые улицы, которые останутся жилыми.
Через несколько домов жила семья Мур. Мур был богатым адвокатом, и семейство владело красивым пятиэтажным особняком из известняка с тремя классическими окнами по всей ширине и резным каменным балконом на piano nobile; к парадному входу вела лестница с перилами и фонарями по обе стороны. Особняк Мастеров представлял собой один из нескольких ему подобных из песчаника, что находились в том же квартале, с высоким крыльцом – не такой, конечно, красивый, но вполне внушительный.
Роуз пристально следила за Мурами, считая их мерилом. У Муров было девять человек прислуги. У Роуз и Уильяма – шесть: дворецкий-шотландец, няня-англичанка, а остальные – ирландцы. Дважды в неделю детей водили на прогулку через Центральный парк до Транспортной академии Дурланда на Западной Шестьдесят шестой. Поэтому Роуз сошла по ступеням с чувством общего удовлетворения.
Знай она, что припасла для нее старая миссис Хетти Мастер, то помчалась бы прямо к ней.
Но пока Роуз улыбнулась. Перед ней, как колесница Аполлона, сверкало новое достояние, которое выделило их семью даже среди первых богачей Нью-Йорка. Шофер придержал дверь, и Роуз шагнула внутрь.
– Я тут ни при чем! – восклицала она со смехом. – Это все причуды мужа!
Его нездоровая блажь, безусловно.
Сказать, что Уильям Мастер фанатично любил автомобили, было бы ничего не сказать. За последние двадцать лет в городе произошли колоссальные изменения: на Третьей авеню и Бродвее появились менее шумные канатные трамваи, поезда надземки были электрифицированы, а конные кебы уже заменялись моторизованным транспортом с таксометром. Однако личные автомобили имелись только у состоятельных людей.
Но и при этом выбор был богат: от «олдсмобиля» с изогнутым передним щитком, первого автомобиля массового производства, до более дорогого «кадиллака», названного в честь основавшего Детройт французского аристократа, и многочисленных моделей «форда». Уильям Мастер знал все. Он мог разглагольствовать о преимуществах первоклассного «форда» модели К, влетавшего в баснословные две тысячи восемьсот долларов – цена, которая в восемь раз превышала стоимость «олдсмобиля»; о конкуренции на замкнутом гоночном треке со стороны европейских машин от компании «Мерседес-Бенц». Этой весной его чрезвычайно возбудили новости из Британии.
– Выпущен новый «роллс-ройс». Клод Джонсон испытывает его в Шотландии, и результаты поразительные! «Автокар» пишет, что это лучший автомобиль в мире. А ход такой тихий, что Джонсон назвал свою личную машину «Серебряным призраком». Их выпустили всего несколько штук, но все уже хотят приобрести. То есть те, кто могут себе это позволить, – улыбнулся он.
– Сколько он стоит?
– «Роллс-ройс» продает ходовую часть и двигатель. Полагаю, около тысячи британских фунтов. Потом заказываешь у фирмы-изготовителя какой хочешь корпус – это еще около сотни. Ну и прочие мелочи. Может быть, набежит тысяча двести фунтов.
– Уильям, а сколько долларов стоит фунт?
– Четыре восемьдесят шесть.
– Это же шесть тысяч долларов! Да столько никто не даст! – воскликнула Роуз.
Уильям ничего не сказал. На прошлой неделе автомобиль прибыл в порт.
– Я заказал такой же, как у Джонсона: серебристый цвет, посеребренные детали. У Джонсона кожаные сиденья зеленые, но я предпочел красные. И тоже назову его «Серебряным призраком». Ну разве не красавец?
Да, так оно и было. Остаток недели Уильям и шофер водили машину вместе. Вчера был первый день, когда шоферу доверили управлять в одиночку. А сегодня в автомобиле, ощущая себя герцогиней, сидела Роуз, пока тот вез ее по Пятой авеню к Грамерси-парку.
Хетти Мастер уже ждала. Она с любопытством осмотрела машину, поинтересовалась ценой и заявила: «Не одобряю». Однако села в нее с удовольствием. Иногда она брала с собой свою подругу Мэри О’Доннелл, но сегодня была одна.
Старость мало кому по душе, но Хетти Мастер радовалась ей, насколько это было возможно.
Она превратилась в богатую старуху, находящуюся в здравом рассудке и с неплохим здоровьем. Родня любила ее и жила неподалеку. Хетти говорила и делала что хотела. Иногда позволяла себе те причуды, которые в молодости было разумнее обуздать. Желая развлечься, она даже могла обзавестись новыми.
Хетти никогда не интересовалась светской жизнью так, как Роуз, и всяко была менее консервативной, но понимала и уважала ее честолюбивые устремления. Порой она, правда, не упускала случая поддразнить.
– Куда поедем? – осведомилась Роуз.
– Скажу по пути, – ответила бесстрашная старая леди. – Сначала заберем Лили.
Роуз решила воздержаться от расспросов, и по дороге обратно на Пятую авеню беседу поддерживала Хетти. На отрезке от Двадцатых до Тридцатых она потребовала подробного отчета о детях. На Тридцатых заметила, что машина, безусловно, удобна, но слишком дорогая и ей придется сказать молодому Уильяму, что он изрядный мот. Роуз перебила ее только на Тридцать четвертой улице. И сделала это со стоном.
– Даже через десять лет, – заявила она, махнув рукой в перчатке в сторону шикарного здания, – мне тягостно на него смотреть, как только подумаю о скандале и моей бедной, дорогой миссис Астор! А вам разве нет?
Они проезжали мимо отеля «Уолдорф-Астория».
Замужних Астор было, конечно, много, но в детстве и юности Роуз по общему согласию и невзирая на официальные титулы именно Кэролайн Шермерхорн Астор, и только она, имела право именоваться миссис Астор. Божественная миссис Астор! Героиня, наставница и друг Роуз.
Она была очень богата. Это никем не оспаривалось. Они с мужем заняли один из двух огромных особняков, принадлежащих Асторам. Но если семейство Астор достаточно разбогатело и освоилось, чтобы возглавить сливки нью-йоркского общества, то Кэролайн это право принадлежало с рождения по причине родства с голландцами Шермерхорнами, стоявшими у истоков возникновения города. И миссис Астор, вооружившись всей этой властью, предприняла поистине геркулесов труд. Она вознамерилась отлакировать высший нью-йоркский класс.
Ей подвернулся помощник, подвигнувший ее на это дело. Мистер Уорд Макалистер – джентльмен с Юга, женившийся на деньгах и объездивший Европу, дабы набраться аристократических манер, – посвятил этому занятию всю жизнь. Он объявил своей вдохновительницей низкорослую, смуглую и полноватую миссис Астор, после чего они принялись задавать Нью-Йорку новый светский тон.
Америке это было не то чтобы в новинку. Бостон, Филадельфия и другие утонченные города, включая Нью-Йорк, старались упорядочить иерархию и выпускали «Светский альманах». В Нью-Йорке потомки старинных голландских землевладельцев и английских купцов, имевшие ложи в Музыкальной академии, успели научиться снобизму. Когда мистер А. Т. Стюарт, лавочник, нажил состояние и воздвиг особняк на Пятой авеню, его не сочли джентльменом и игнорировали столь жестоко, что он вынужден был покинуть Пятую авеню.
Но в Нью-Йорке существовала особенная проблема: он превратился в центр всеобщего притяжения.
С его банками и трансатлантическими связями, он в такой степени сделался финансовым оплотом всего континента, что каждому круному дельцу приходилось иметь в нем офис. Медные и серебряные магнаты, владельцы железных дорог, нефтепромышленники вроде Рокфеллера из Питтсбурга, стальные магнаты вроде Карнеги и угольные бароны – тот же Фрик, выходцы со Среднего Запада, Юга и даже из Калифорнии – все стекались в Нью-Йорк. Их состояния поражали воображение, и они могли делать все, что заблагорассудится.
Но миссис Астор с наставником утверждали, что одних денег мало. Старый Нью-Йорк всегда был богат деньгами, но лишен лоска. Деньги нужно подчинить себе, приручить, цивилизовать. А кому это делать, как не старой гвардии? Итак, высший слой общества предстояло составить лучшим людям, «старым деньгам», которые будут принимать в свои ряды нуворишей медленно, по одному, после испытательного срока, во время которого те должны показать себя достойными этой чести. Макалистер установил планку в три поколения. По сути, это было именно то, чем веками занималась английская палата лордов.
Могли быть и исключения. Вандербилты были нуворишами, и старый коммодор, чей язык был грязнее, чем у лодочника, плевать хотел на светское общество. Но следующее поколение было очень богато, настроено крайне решительно, и их допустили к себе даже до того, как в семействе завелся герцог. Практичность еще никто не отменил.
Но кто же будет формировать этот внутренний круг? Уорд Макалистер уже возглавлял комитет виднейших окружных джентльменов, которые выбирали лиц, достойных присутствовать на ежегодном Балу городских старейшин. Коль скоро рядом была миссис Астор, она и стала королевой действа, скреплявшей список своей монаршей печатью. А сколько звать гостей? Бывало по-разному, но не больше четырехсот человек. По утверждению Макалистера, в большой метрополии находится именно столько людей, которые не будут ни выглядеть, ни чувствовать себя лишними в бальном зале. Это высказывание могло показаться чуточку опрометчивым с учетом того, что в Нью-Йорке проживали тысячи людей, привычных к танцам и посетивших не меньше шикарных курортов, чем сам Макалистер. Но мистеру Макалистеру нравилось думать именно так, и число утвердилось.
Нельзя не отметить, что списки миссис Астор славились постоянством. Конечно, там были нувориши, начиная от самих Асторов и заканчивая Вандербилтами. Были представлены «старые деньги» – семейства Отис, Хейвмейер и Морган, а также джентри XVIII века в лице Резерфордов и Джеев. Но список пестрел великими именами – по-прежнему богатыми фамилиями, восходившими к началу XVII века: Ван Ренсселер, Стайвесант, Уинтроп, Ливингстон, Бикман, Рузвельт. Если задачей миссис Астор было сохранить благосостояние старого Нью-Йорка как образчик ведения дел, то приходилось признать, что она с ней справилась.
Когда Роуз познакомилась со своим будущим супругом Уильямом, она первым делом, еще даже до того, как узнала его второе имя – сущий подарок Небес, выяснила, что Мастеры, входившие в разряд «старых денег», числились в списке миссис Астор. А когда после свадьбы старая миссис Астор оказала ей покровительство, Роуз стала ее рьяной помощницей. Многие дни она провела за тем, что послушно внимала ее наставлениям и усваивала светский этикет.
Затруднения вызвало только одно правило.
– Миссис Астор говорит, – передала она Уильяму, – что в оперу приходят после начала и уходят до конца.
Это была любопытная идея, позаимствованная у Старой Европы, где высший свет ходил в оперу показать себя. И в том случае, если бы актерам повезло выступить перед публикой, сплошь состоящей из аристократов, то им пришлось бы заканчивать спектакль перед пустым залом, поскольку аристократы покинули бы зал, не ожидая завершения оперы, что было очень удобно, благо исключало утомительную необходимость вызывать актеров на поклоны и забрасывать их цветами.
– Будь я проклят, если пропущу увертюру и финал за такие-то деньги! – вполне резонно ответил муж.
Он мог бы добавить пару слов об оскорблении музыки, актеров и остальной публики. Но ему хватило ума понять, что так отчасти и было задумано. Аристократы были выше музыки и не заботились о чувствах исполнителей и аудитории.
– Ты иди, – сказал он, – а я остаюсь.
И Роуз, возможно, тоже усомнилась бы в этом негласном правиле, не будь она предана миссис Астор.
Впрочем, они с Уильямом пришли к компромиссу. Роуз будет уходить перед самым концом и ждать в экипаже чуть дальше по улице, чтобы потом побыстрее убраться от менее просвещенных ездоков.
– У меня прямо кровь закипает, когда вспоминаю, как обращалось с миссис Астор ее родное семейство, – пожаловалась она сейчас Хетти Мастер.
Злодеем был молодой племянник миссис Астор. Он жил по соседству. Когда скончался его отец, он получил формальное право притязать на главенство и заявил, что миссис Астор – это отныне его жена, а Кэролайн должна удовольствоваться менее звучным титулом миссис Уильям Астор.
– Конечно, – сказала Роуз, – он отродясь не был джентльменом. Он даже писал исторические романы!
Так или иначе, миссис Астор вполне оправданно отказалась. Надо уважать возраст и репутацию. Молодой Астор вспылил, уехал в Англию и не вернулся. Он даже, сущий хамелеон, принял британское гражданство. По мнению Роуз, одно дело – выдать дочь замуж за английского аристократа, но совершенно другое – стать англичанином самому.
– Говорят, теперь он живет в замке, – заметила Хетти Мастер. Это была чистая правда. Он купил замок Хивер, что в графстве Кент, в котором прошли детские годы Анны Болейн. – Наверное, пишет там новый роман.
Но он все равно отомстил тетушке: превратил свой бывший нью-йоркский дом во второй отель и нарек «Асторией». Вскоре два отеля слились, образовав единый комплекс близ роскошной Аллеи павлинов. Роуз ни ногой туда не ступала.
– Миссис Астор заслуживает памятника! – подытожила она.
Наступила пауза.
– Говорят, она совсем выжила из ума, – сказала Хетти.
– Ей нездоровится, – признала Роуз.
– Ну а я слышала, что в маразме, – упрямо ответила та.
«Роллс-ройс» докатил до Сороковых. Старый резервуар ныне бездействовал, и на его месте строили великолепную публичную библиотеку. Вся семья знала, что именно там Фрэнк сделал предложение Хетти, и Роуз хранила почтительное молчание, пока Хетти провожала взглядом памятное место. Вскоре справа вырос собор Святого Патрика. Когда они достигли Пятидесятых, где возле особняков Вандербилтов выросли новые отели, Хетти заметила, что город прямо тянется к небесам.
– И как ты можешь жить тут рядом с этими отелями? – удивилась она.
– Мы живем на боковой улице, – ответила Роуз.
– Я знаю, – сказала Хетти. – Все равно…
По ее просьбе автомобиль устремился через Пятьдесят седьмую улицу на запад. Таким образом они миновали красивый концертный зал, финансировавшийся стальным магнатом мистером Карнеги. Новоявленные миллионеры не всегда отличались изысканностью, но, безусловно, умели поддерживать искусство.
– Я была на открытии, – напомнила Хетти. – Дирижировал сам Чайковский.
Вскоре после этого они достигли Центрального парка, все хорошевшего. «Дакота» обзавелась компанией, ее собратом и соседом стал более броский «Лангхэм». За парком высились и другие великолепные здания.
В вестибюле «Дакоты» уже ждала Лили де Шанталь. Годы пощадили ее, она сохранила красоту. Женщины обнялись и устроились на заднем сиденье, а Роуз перебралась на переднее место рядом с шофером.
– Сначала на Риверсайд-драйв, – велела Хетти.