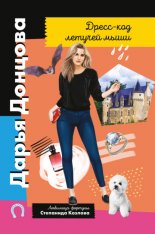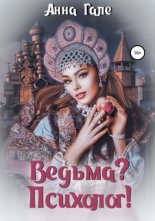Нью-Йорк Резерфорд Эдвард

– Вот эти похожи на раннего Стиглица, – сказала она, вытащив полдесятка поздних работ.
Она была права. На рубеже веков по возвращении из Германии легендарный нью-йоркский фотограф и меценат создал ряд красивых работ, близких по стилю к фотографиям Теодора Келлера.
– Они встречались? – спросила она.
– Да. Несколько раз. У меня есть дневники Келлера.
– Надо это упомянуть. – Она извлекла ранний снимок с изображением людей, бредущих по железнодорожным путям вдоль реки Гудзон. – Отличное решение, – сказала она. – Потрясающая композиция.
Они заговорили о технике Келлера. Разговор затянулся. Через час Чарли сказал:
– Мне нужно в Мидтаун. Может быть, заглянем в «Сент-Реджис»?
Сейчас же он гадал, придет ли она на открытие выставки в галерею Бетти Парсонс, назначенное на следующую неделю.
На манхэттенском паромном причале Чарли нашел такси. Вскоре они уже ехали сначала по Ист-Ривер-драйв, потом по Пятой авеню. Минуя Сорок вторую улицу, Чарли указал на большое здание ООН, которое возвышалось над водой справа. Ему нравились его ровные современные очертания. Горэм уставился на него, но было невозможно угадать, о чем он думал.
– А дальше будет Ривер-Хаус, – сообщил Чарли. – У твоей бабушки там много друзей.
Наверное, это был крупнейший многоквартирный дом в городе, но маленький Горэм, конечно, понятия не имел, о чем шла речь.
Чарли всегда считал, что сын должен жить в том же мире, что он. Вернее, предполагал. До тех пор, пока Джулия не уехала на Стейтен-Айленд. Удастся ли ему впитать на Стейтен-Айленде дух великого, дерзкого города? Может быть. В конце концов, это один из пяти боро. Но поймет ли сын самую суть? Запомнит ли лучшие здания в Верхнем Ист-Сайде? Будет ли знать все рестораны и клубы? А как быть с родными видами и запахами Гринвич-Виллиджа, колючей натурой Сохо? В такие минуты Чарли осознавал, как сильно любит Манхэттен. И мысль о том, что он не поделится городом с сыном, причиняла ему жестокие мучения и порождала чувство утраты.
Они свернули налево, на Сорок седьмую улицу. Когда такси пересекло Лексингтон-авеню, Чарли указал на юг:
– Вон там находится Центральный вокзал.
Горэм молчал. Они достигли Парк-авеню и повернули на север.
– Когда я был маленьким, – сказал Чарли, – там была сортировочная станция. Парк-авеню выглядела не так красиво. Но теперь все железнодорожные пути спрятаны под землю и улица стала очень неплохой, согласен?
– Да, папа, – ответил малыш.
Чарли понял, что хочет внушить сыну еще кое-что. Нечто глубокое и важное. Помимо великолепных домов и квартир, уличной суеты, газет, театров и галерей – неукротимый деловой дух города. Он хотел, чтобы сын уловил, унаследовал этот дух как самое главное.
Город не сломила даже Депрессия. Его спасли три титана. Президент Франклин Делано Рузвельт, конечно, – и славное голландское имя Рузвельт было насквозь нью-йоркским. Для «Нового курса», по мнению Чарли, понадобились выдержка и смелость истинного ньюйоркца. Вторым с начала тридцатых годов и до самого сорок пятого был вздорный коротышка – мэр Ла Гуардиа, формально республиканец, но неизменный приверженец «Нового курса». Он возглавил самую честную администрацию за всю историю города и все эти мучительные годы защищал бедноту. Третьим, и по-своему не менее ярким, стал жестокий гигант Роберт Мозес.
Размах, с которым «комиссар парков» Мозес возводил общественные строения, не имел аналогов. Взять хотя бы большие мосты: Трайборо, соединивший Лонг-Айленд с Манхэттеном, прекрасный Уайтстоун, связавший Лонг-Айленд с Бронксом. Множество общественных парков. А главное, огромные магистрали, по которым всевозрастающее движение было пущено вокруг нью-йоркских боро. С помощью этих титанических проектов Мозес привлек в город бессчетные миллионы долларов из федеральной казны и создал тысячи рабочих мест.
Кое-кто считал Мозеса и его методы жестокими. Его обвиняли в том, что лонг-айлендские автострады не задели богатых усадеб, но уничтожили дома бедняков, что он заботился только о частном легковом транспорте, пренебрегая общественным. Заявили даже, что новые магистрали обернулись барьерами, которые буквально отделили черные районы от общественных парков.
Чарли не был уверен в справедливости этих упреков. На его взгляд, нью-йоркский общественный транспорт был очень неплох, а без новых дорог автомобильная эра грозила парализовать город. Критика в адрес парков и черных кварталов могла быть небезосновательной, но планировка дорог была отменной. Когда Чарли ездил по скоростному шоссе Генри-Гудзон-парквей в Вест-Сайде, которое во всем блеске уходило вдоль великой реки за мост Джорджа Вашингтона, он был готов простить Мозесу едва ли не все.
«Но как объяснить это сыну?» – подумал он, когда такси остановилось у дома его матери на Парк-авеню.
Швейцар в белых перчатках проводил их к лифту, а Роуз уже ждала на пороге квартиры. Ей было за восемьдесят, но она выглядела на шестьдесят пять. После сердечных приветствий все прошли в гостиную.
Квартира была приятная, с шестью комнатами, согласно заведенному в городе правилу. Гостиная, столовая, кухня, две спальни и комната горничной рядом с кухней. Три ванные в счет не шли. Достаточно респектабельно для вдовы, но не совсем то, чего заслуживала фамилия. Чарли предпочел бы восемь комнат: вторую для прислуги плюс спальню или библиотеку. Да и в такой квартире сами комнаты были больше. Сразу после свадьбы у Чарли с Джулией их восемь и было, правда не на Парк-авеню.
Конечно, если бы он обосновался на Уолл-стрит и делал деньги, как кое-кто из его друзей, то мог бы уже обзавестись большой квартирой здесь же или на Пятой. В десять комнат, пятнадцать. Это были внушительные хоромы, почти усадьбы, с четырьмя-пятью комнатами для слуг.
Чарли жил на углу Третьей авеню и Семьдесят восьмой улицы. Неподалеку от матери. Семьдесят восьмая была хорошей улицей, а в квартире имелись большие гостиные, похожие на художественные студии, – весьма привлекательно для холостяка. Правда, швейцара не было. Швейцар действительно нужен.
Роуз любила детей. Она показала Горэму фотографии деда и прадеда. Мальчику понравилось. Имелись и снимки дома в Ньюпорте. Все это напоминало малышу, откуда он вышел.
Днем они взяли такси до отеля «Плаза», облюбовали столик в «Пальмовом дворе». Чарли видел, что ресторан произвел сильное впечатление на мальчонку.
– Иногда я хожу в «Карлайл», – сказала Роуз, – но здесь мне нравится. Приятно быть поближе к парку.
Она поковыряла салат, а внук, с трудом разделавшийся с рыбной запеканкой, впился в шоколадный эклер. Зашел разговор о его школе.
– Когда подрастешь, поступишь в Гротон, – пообещала Роуз.
Джулии не пришлось об этом беспокоиться. Они договорились. Вернее, поправил себя Чарли, договорились его мать и бывшая жена. Он только платил по счетам. Хорошо, если Горэм поступит в городскую дневную школу, но со Стейтен-Айленда туда не очень-то доберешься, а взять мальчика к себе или поселить его у бабушки, если она к тому времени еще будет жива, казалось несколько затруднительным.
– Пап, а ты ходил в Гротон? – спросил малыш.
– Нет, – ответила Роуз, – но, наверное, следовало.
Место, конечно, было отличное. Закрытая школа в Массачусетсе была создана по образу и подобию Челтнемского колледжа в Англии, и его латинским девизом было сказано все: «Служи Богу и порядку» в переводе Чарли. Крепкое христианство. Конечно, епископального толка. Хорошее, солидное обучение, не слишком заумное. Широкая спортивная программа. Холодные обливания. Американским магнатам, как и правителям Британской империи, не пристало быть неженками.
– Он попадет в хорошее общество, – воодушевленно заметил Чарли.
Рузвельты, Очинклоссы, Морганы, Уитни, Дюпоны, Адамсы, Гарриманы, Грю… В Гротон поступали как раз такие.
– А это там был Пибоди? – спросил Горэм.
– Да, Горэм, – улыбнулся Чарли. – Он-то школу и основал. Пятнадцать лет пробыл директором. Молодчина.
– Ты не так произносишь, милый, – поправила Роуз. – Не Пибоди, а Пии-бди.
– Ой, мама! – повел плечом Чарли. – В его-то возрасте…
– Пии-бди, – упрямо повторила мать.
Чарли смешил этот обычай американских «старых денег», отчасти перенятый у англичан, расставлять словесные ловушки для непосвященных в светские тонкости лиц. «Старые деньги» произносили некоторые имена на особый манер, тем самым осторожно отмежевываясь от остальных. Были и другие слова. Так, традиционный мужской вечерний костюм на современном языке именовался смокингом. Американский средний класс говорил «смокинг». «Старые деньги» предпочитали «обеденный пиджак».
– Между прочим, – негромко сказала мать, – я слышала, что в Гротон приняли чернокожего мальчика.
– Было дело, – кивнул Чарли. – Пару лет назад. И правильно сделали.
– Спасибо хоть не еврея, – буркнула мать.
Чарли покачал головой. Иногда ее просто не следовало слушать.
Когда они вышли из ресторана, Горэм увидел на углу прелестный двухколесный прогулочный экипаж и попросил прокатиться. Чарли глянул на мать, она кивнула.
– Почему бы и нет? – сказал Чарли.
Они отлично проехались. Сначала – по Пятой авеню. Мать была в своем репертуаре. Проезжая мимо роскошного универмага «Бергдорф», она пояснила Горэму:
– Здесь стоял особняк Вандербилтов.
Через пару минут, когда они приблизились к фасаду собора Святого Патрика в стиле высокой готики, она печально произнесла:
– Здесь всюду были частные дома, а теперь только церкви и магазины.
Но Чарли осознал, что в действительности они подъезжали к подлинному, духовному центру Мидтауна. И это был не собор при всей его значимости. Нет, духовный центр Манхэттена располагался через улицу, прямо напротив собора.
В его памяти навсегда отпечатались нескончаемые тридцатые и последующие годы, когда при взгляде на Манхэттен первой бросалась в глаза огромная башня Эмпайр-стейт-билдинга, повелевавшая небесами. Великий символ – но чего? Краха. Восемьдесят восемь этажей офисов – недопустимая роскошь. В конечном счете их арендовали, но в годы Депрессии здание называли Эмпти-стейт-билдинг[80]. И впору было решить, что в такое лихое время никто не рискнет строить новые офисные здания.
Но так подумал бы человек, не знакомый как с Нью-Йорком, так и с Рокфеллерами.
Перед самой катастрофой 1929 года Джон Д. Рокфеллер-младший арендовал двадцать акров земли на западной стороне Пятой авеню под строительство офисных зданий в стиле ар-деко и оперного театра. После же катастрофы от театра пришлось отказаться, но это не удержало Рокфеллера от воплощения в жизнь остального. Богатейшая на свете семья в одиночку возвела не одну, а четырнадцать офисных башен с садами на крышах и центральной площадкой, явив миру прекраснейший в городе образец уличной застройки. Чудесный центральный двор служил открытым рестораном летом и небольшим катком – зимой. Однажды в декабре, когда зданию исполнилось без малого десять лет, строительные рабочие установили там рождественское дерево.
Рокфеллеровский центр явился триумфом. Он был велик, красив и шикарен. Его создали ньюйоркцы, не терпевшие слова «нет». Их не согнула даже Депрессия. Вот оно, подумал Чарли. Вот суть Нью-Йорка. Иммигранты прибыли сюда без гроша, но своего добились. Бог свидетель, первый Астор явился почти ни с чем. Такова была традиция, восходившая к просмоленным, суровым капитанам с Восточного побережья и колонистам, потомками которых были он и его сын. Рокфеллер был титаном, как Пирпонт Морган и президент Рузвельт – королями мира, и все как один проникнутые духом Нью-Йорка.
– Это Рокфеллеровский центр, – сказал он сыну. – Его строили во время самой Депрессии, потому что у Рокфеллера были деньги и железные нервы. Правда, красивый?
– Да, – отозвался Горэм.
– Ньюйоркца не сломить, Горэм, потому что он если и упадет, то сразу встает. Не забывай об этом.
– Хорошо, пап, – ответил малыш.
Они прокатились по Шестой авеню и обратно через Центральный парк. И правда, удовольствие – не передать. Но когда они вернулись в исходную точку, Чарли не мог не отметить несокрушимую истину: они прокатились в двухколесном экипаже, словно туристы. Вечером он ведет Горэма на спектакль – отчасти тоже как туриста. А завтра отвезет его обратно на Стейтен-Айленд.
Тут его сын подал голос:
– Пап!
– Что, Горэм?
– Хочу жить здесь, когда вырасту.
– Ну что же, я надеюсь, так и будет.
Мальчонка нахмурился и серьезно посмотрел на отца, как будто его плохо поняли.
– Нет, папа, – тихо возразил он, – я так и сделаю.
Чарли пришел в галерею заранее, но Сара Адлер уже была там.
Галерея Бетти Парсонс находилась на Пятьдесят пятой улице. Она открылась только в 1946 году, но уже прославилась. Отчасти это, несомненно, было заслугой Бетти. Родившаяся в семье «старых денег», она пошла предначертанной стезей, рано и удачно вышла замуж. Но потом взбунтовалась. Уехала в Париж и зажила домом с другой женщиной. В тридцатых годах она перебралась в Голливуд и сдружилась с Гретой Гарбо. Наконец она основала галерею в Нью-Йорке, будучи и сама художницей.
А для любителей современного искусства Нью-Йорк пятидесятых годов был кладезем.
Американские художественные школы существовали и раньше: Школа реки Гудзон в XIX веке, явившая замечательные пейзажи, на которых были запечатлены долина Гудзона, Ниагара и Запад, американские импрессионисты, которые до возвращения на родину часто собирались во Франции в Живерни, где жил и работал Моне. Но как бы они ни были хороши, нельзя сказать, что они произнесли новое слово в живописи. И в самом деле, все современное абстрактное искусство, начиная с кубизма, принадлежало Европе.
До сих пор. И вдруг на подмостки Нью-Йорка вырвалась толпа художников с огромным количеством смелых абстрактных полотен, которые не были похожи ни на что существовавшее прежде. Джексон Поллок, Хедда Штерн, Барнетт Ньюман, Мазервелл, де Кунинг, Ротко – их часто называли «рассерженными». Само направление стало известно как абстрактный экспрессионизм.
Современная Америка обзавелась собственным искусством. И его центром была маленькая неутомимая леди, рожденная для частных нью-йоркских школ и летних месяцев в Ньюпорте, но сделавшая выбор в пользу самых смелых живописцев своей эпохи: Бетти Парсонс. И конечно, ее галерея.
Выставка была коллективной. Пришли и Мазервелл, и Элен Франкенталер, и Джексон Поллок. С последним Чарли познакомил Сару. Затем они осмотрели сами работы.
Коллекция подобралась великолепная. Одно полотно Поллока им особенно понравилось – густая мешанина коричневых, белых и серых цветов.
– Как будто он катался по холсту на велосипеде, – шепнула Сара.
– Может быть, так оно и было, – усмехнулся Чарли.
Тем не менее ему казалось, что в этом явном и, как всегда, произвольном смешении красок, в этом буйстве абстрактных цветов присутствуют подсознательные повторы и сложные ритмы, которые заряжают картину неимоверной силой.
– Кое-кто считает его жуликом, – сказал Чарли, – но мне сдается, что он гений.
Был неплохой Мазервелл, работа из серии «Элегия об Испанской республике» – огромные черные иероглифические символы и вертикальные полосы на белом холсте.
– Как будто резонирует, – заметила Сара. – Словно восточная мантра. Вы понимаете, о чем это?
– Да, – кивнул Чарли, – понимаю.
«Забавно, – подумал он, – что при подлинном единении душ теряет всякое значение, кто старше или вдвое моложе». Он мысленно улыбнулся. Деньги и власть считались сильнейшими афродизиаками, но ему показалось, что общность воображения была нисколько не хуже, а эффект длился дольше.
Оба увидели знакомых и разошлись поговорить. Он перебросился парой слов с Бетти Парсонс.
Ему нравилась Бетти. Проникаясь ее отвагой и взирая с высоты своего роста на изящное лицо уроженки Новой Англии, с небольшой квадратной челюстью и широким лбом, он чуть не поцеловал ее; впрочем, она могла бы этого не одобрить.
Час спустя, оглядевшись, Чарли обнаружил, что Сара погружена в беседу с какими-то сверстниками. Он вздохнул про себя и решил уйти, но сначала подошел попрощаться.
– Идете домой? – огорченно спросила она.
– Разве что вы проголодались, но вас ждут друзья.
– Я бы поела, – сказала Сара. – Вы готовы?
Они остановились на ресторане «Сарди». Было еще рано, задолго до того, как нахлынет толпа театралов. Им даже не пришлось ждать столика. Чарли всегда нравилось театральное убранство этого места, где стены были украшены карикатурными портретами актеров. Сюда приезжали и из пригородов, потому что «Сарди» слыл знаменитым местом, но все равно было весело.
Они заказали стейки и красное вино, вскоре понадобилась и вторая бутылка. О выставке не говорили. Чарли рассказал, как гулял с сыном, после чего беседа переключилась на город в тридцатые годы. Он поделился своим мнением о Рокфеллере с Рузвельтом и потомственном духе Нью-Йорка.
– Но только не забывайте мэра Ла Гуардиа, – напомнила Сара. – Он тоже спасал Нью-Йорк.
– Совершенно верно, – усмехнулся Чарли. – Благодарение Господу за итальянцев!
– Ла Гуардиа был не итальянец.
– Прошу прощения, а кто же?
– Его отец был итальянец, но мать – еврейка. Поэтому он еврей. Спросите у моей родни.
– Хорошо. Как она относится к Роберту Мозесу? У него оба родители евреи.
– Мы его ненавидим.
– Он много сделал для города.
– Да, это так. Но моя тетя Рут живет в Бронксе, а он взял и обесценил ее жилье. – (Огромная автострада через Бронкс, которую Мозес построил в этом боро, была самым сложным проектом из всех, какие знал подрядчик. Многие переселенные увидели, как обесценивается их собственность, и им это не понравилось.) – Она надеется, что он сломает себе шею, – ухмыльнулась Сара. – Моя семья не против. Мы поддерживаем ее. Мозес будет уничтожен рано или поздно.
– У вас большая семья?
– Сестра, два брата. Все родственники матери уехали из Нью-Йорка. Тетя Рут – сестра отца. – Она чуть помедлила. – У отца есть брат, Герман, который давно живет в Нью-Йорке. Но перед войной он поехал в Европу и… – Она замялась.
– Не вернулся?
– Мы не разговариваем о нем.
– Простите.
Она пожала плечами и сменила тему:
– Значит, ваш сын живет на Лонг-Айленде. А мать у него есть?
– Да. Моя бывшая жена.
– О, тогда это, наверное, не мое дело.
– Пустяки. У нас хорошие отношения, – улыбнулся Чарли. – Вы знаете, когда в галерее сказали, что выставка Келлера поручена вам, я немного засомневался.
– Почему же передумали?
– Из-за ваших слов о Келлере и Стиглице. Конечно, – добавил он, – мне еще предстоит убедиться в вашей компетентности.
– Я компетентна. И между прочим, большая поклонница Альфреда Стиглица. Не только его работ, но и всех выставок, которые он организовал. Вы знаете, что он подготовил в Нью-Йорке одну из первых выставок Ансела Адамса?
Потрясающие снимки американских пейзажей работы Адамса служили Чарли напоминанием о тридцать шестом годе накануне отъезда на войну в Испании.
– Я там был, – сказал он.
– И его личной жизнью я тоже восхищена. Человек, за которого вышла Джорджия О’Киф, не может быть заурядным.
По мнению Чарли, роман и бракосочетание фотографа и великой художницы породили один из важнейших союзов в мире искусства XX века, хотя их отношения были далеки от мирных.
– Он не был ей верен, – сказал Чарли.
– Он был Стиглицем, – пожала плечами Сара. – Впрочем, надо отдать ему должное. Он начал жить с О’Киф, когда ему было почти пятьдесят пять. А с другой девушкой связался в шестьдесят четыре.
– Дороти Норман. Я, кстати, был с ней знаком.
– А ей было всего двадцать два.
– Чертовски серьезная разница!
Она посмотрела на него:
– Человек стар ровно настолько, насколько чувствует.
В пятницу Сара Адлер спустилась в подземку и отправилась в Бруклин. С собой взяла новую книжку «Мосты у Токо-Ри» Джеймса Микенера – короткий, насыщенный действием роман о недавней корейской войне. Она едва отмечала станции, пока не доехала до Флэтбуша.
Сара любила Бруклин. Родился в Бруклине – останешься с ним навсегда. Частично дело было, наверное, в географии места. Девяносто квадратных миль территории, двухсотмильная береговая линия – неудивительно, что здесь понравилось голландцам. И свет был особенный, прозрачный и чистый. Пусть англичане назвали это место графством Кингс. Пусть огромные мосты вкупе с метро связали его с Манхэттеном – в придачу к Бруклинскому мосту теперь имелись Вильямбургский и Манхэттенский. Пусть семьдесят лет развития застроили тихую сельскую местность, хотя огромные парки и зеленые улицы никуда не делись. И все же в этом ясном бруклинском свете, шагая тихим утром в выходной день мимо домов, облицованных коричневым песчаником и с голландскими крылечками, можно было вообразить себя фигуркой на полотне Вермеера.
Было еще светло, когда Сара начала удаляться от станции. Весь Флэтбуш был живым напоминанием о детстве: от скромных радостей типа тележки с прохладительными напитками, где можно было купить коктейль из молока с содовой и сиропом, кошерного магазина деликатесов и знаменитого среди гурманов ресторана на Питкин-авеню до бейсбольного стадиона «Эббетс филдс», который при всей царившей там давке был священной, обетованной землей, где играли «Бруклинские доджеры». Она прошла мимо кондитерской, куда бегала вся ребятня, после чего повернула на улицу, где давным-давно играла в ступболл[81].
Адлеры жили в доме из коричневого песчаника. Когда Сара была совсем мала, отец арендовал под крыльцом помещение для своей практики. Не желая лишиться приличных съемщиков в годы Депрессии, домовладелец вскоре предложил родителям переселиться на два этажа выше с освобождением от квартплаты на три месяца. Это была отличная квартира, и они жили там с тех самых пор.
Мать встретила ее на пороге:
– Майкл готов, а отец с Натаном сейчас подойдут. Рейчел хотела приехать завтра, но говорит, что все простудились.
Сара не очень встревожилась. Рейчел была двумя годами старше, вышла замуж в восемнадцать и не понимала, почему Сара не хочет поступить так же. Сара поцеловала брата Майкла. Ему исполнилось восемнадцать, и он становился довольно красивым. После этого она постучалась к Натану. Его комната не изменилась, стены были увешаны фотографиями бейсболистов и вымпелами «Доджеров».
– Я готов, готов! – крикнул он.
Натан терпеть не мог, когда к нему входили. Тут Сара ощутила на плече отцовскую руку.
Доктор Дэниел Адлер был пухлым коротышкой с почти облысевшей макушкой и черными усиками. Печалясь о том, что стал дантистом, а не концертирующим пианистом, он находил утешение в семье и религии. Он любил и ту и другую – вообще говоря, они являлись для него одним и тем же. Сара всегда была благодарна ему за это. Именно поэтому она при каждом удобном случае, по пятницам, приезжала во Флэтбуш на шаббат.
Семейство собралось в гостиной. Уже приготовили две свечи. Мать зажгла их при общем молчании, затем прикрыла руками глаза и прочла молитву:
– Барух ата Адонай, Элохейну Мелех ха-олам…
Эта мицва была обязанностью матери, и, только закончив ее, она отвела руки и посмотрела на свет.
Сара ценила обряд и саму идею шаббата – отдыха, дарованного Богом Его избранному народу. Семейный сбор на закате, сокровенная радость. Сара была не очень набожна, но с удовольствием возвращалась по этому случаю в отчий дом.
В сумерках, после того как были зажжены свечи, они пошли в синагогу.
Саре нравилась вера близких. Люди, не разбирающиеся в этих вещах, порой считали, что ритуал одинаков для всех бруклинских евреев, которых насчитывался уже почти миллион. Ничто не могло быть дальше от истины. В Браунсвилле, районе грубом и перенаселенном евреями, народ был в основном светский. Многие евреи вообще не посещали богослужения. В районе Боро-Парк было полно сионистов. Вильямсбург был крайне ортодоксален, а за последние годы туда и в Краун-Хайтс переселилось много венгерских хасидов. Эта публика, ходившая в старомодных одеждах и ревностно соблюдавшая иудейские законы, поистине жила в другом мире.
Сначала Бруклин населяли преимущественно евреи-ашкеназы, выходцы из Германии и Восточной Европы, но в двадцатых годах Бенсонхерст подвергся наплыву евреев из Сирии. Эта сефардская община разительно отличалась от остальных.
Во Флэтбуше было по-разному, и на одной улице проживали ортодоксы, консерваторы и реформисты. Встречались и венгерские хасиды. Но все жили мирно при том условии, что болели за «Доджеров».
Адлеры были консерваторами.
– Ортодоксом быть хорошо, если это по сердцу, – говорил домашним отец. – Но по мне, это чересчур. Йешива – это неплохо, но и другое учение не хуже. Поэтому я консерватор, но не ортодокс.
Через несколько домов жила семья, посещавшая реформистский храм. Дэниел Адлер лечил ее членам зубы, а Сара в детстве играла с их малышней. Но даже тогда она улавливала разницу.
– Реформисты впадают в другую крайность, – объяснил отец. – Они отрицают божественность Торы и во всем сомневаются, а называют это просвещением и либерализмом. Но если идти по этой дорожке, то однажды останешься ни с чем.
Большинство городских друзей Сары составляли либералы и люди светские. Таким было ее окружение всю неделю. Потом она приходила домой на уик-энд, и до сих пор ей нравилось обитать в двух мирах.
После короткой пятничной службы они пошли назад. Дома сели за стол, родители благословили детей, отец сотворил над вином кидуш[82], над двумя буханками халы прочли молитву, и все принялись за еду.
В детстве Сара всегда знала заранее, что будет есть. Пятница означала цыпленка. Среда – бараньи отбивные. Это означало мясо. По вторникам была рыба, а по четвергам – яичный салат и латкес[83]. Непредсказуемым был только понедельник.
Шаббат прошел спокойно. Воскресная утренняя служба всегда была долгой, с девяти до двенадцати. Раньше Саре приходилось тяжко, но теперь, как ни странно, нет. Затем начался приятный и беззаботный домашний ланч. После этого отец почитал им вслух, потом пошел вздремнуть, а они с Майклом взялись за шашки. Саре и брату всегда было хорошо вдвоем. Майкл любил музыку, и в воскресенье днем они с отцом ходили в Бруклинский музей на концерты. Телевизор оставался под запретом до конца шаббата, но в этот субботний вечер отец предложил ей послушать очередную, только что купленную пластинку. Это была запись студии «Ар-си-эй» – Первая симфония Бернстайна, исполненная под его же управлением. Сара подсела к отцу на диван и с любовью увидела, как его круглое лицо приобрело выражение полного счастья. Спать легли рано. День удался на славу.
Однако воскресным утром, когда Сара вошла в кухню, дела обстояли не так хорошо. Мать в одиночестве готовила французские тосты. Снизу доносилась музыка, отец играл на пианино, но стоило Саре направиться туда, чтобы пожелать ему доброго утра, как мать велела вернуться.
– Отец плохо спал, – покачала она головой. – Все думал про дядю Германа.
Сара вздохнула. За год до начала Второй мировой войны дядя Герман жил в Лондоне. Но он хорошо знал французский и бывал во Франции, где занимался мелким экспортом.
Вестей от дяди Германа не было год, но родные не удивлялись. «Он никогда не пишет писем, – жаловался отец. – А потом просто сваливается как снег на голову». Но в конце 1939 года они получили письмо. Оно было отправлено из Лондона, и дядя Герман сообщал, что едет во Францию. Отец встревожился. «Не знаю ни как туда попасть, ни как выбраться», – сказал он. Прошли месяцы. Больше известий не было. Дома надеялись, что дядя Герман в Лондоне. Во время же Блица отец произнес: «Лучше бы я пожелал ему остаться во Франции».
Молчание длилось.
Прошло больше четырех лет, когда правда открылась. Сара впервые увидела отца в таком бешенстве и безутешном горе. Тогда же она в первый раз познала силу скорби. И несмотря на юный возраст, ей отчаянно захотелось защитить отца при виде его страданий.
Затем Адлеры сделали то, что подобает еврейской семье при потере близких: сидели шиву.
Это был добрый обычай. При строгом его выполнении друзья и родственники приходят к скорбящим на протяжении семи дней с едой и словами утешения. Произнеся на пороге традиционные еврейские соболезнования, посетители беседуют со скорбящими, которые сидят на низких ящиках или стульях.
Мать Сары завесила в доме все зеркала. Детей одели в черные хламиды, которые закалывались спереди, но отец разорвал рубашку и сел в углу. Пришло много друзей, все понимали горе Дэниела Адлера и старались его утешить. Сара запомнила это навсегда.
«Шива по дяде Герману была худшим временем в моей жизни, – сказала мать. – Даже хуже, чем день, когда меня уволили».
То злополучное увольнение прочно вошло в семейное предание. Это случилось задолго до рождения Сары, еще до замужества матери. Она отправилась в Мидтаун на поиски работы и получила место секретарши в банке. Отец предупреждал ее, но что-то толкнуло мать Сары доказать его неправоту. Она была рыжеватая, с голубыми глазами, и ее редко принимали за еврейку. «К тому же меня зовут Сьюзен Миллер», – заявила она. «Когда-то звали Мильштейн», – отозвался отец. Он мог бы добавить и то, что Миллер – третья по частоте еврейская фамилия в Америке.
Но в банке ей не задали никаких неприятных вопросов, она проработала там шесть месяцев и была совершенно счастлива. Да, она не могла соблюдать шаббат, но ее семья не отличалась набожностью, а потому никто не огорчался.
Ее подвело случайное слово. Однажды в пятницу она беседовала с девушкой-сослуживицей, с которой находилась в отношениях вполне себе дружеских. Разговор шел об одном вздорном кассире, который жаловался на подругу. «Плюнь на него, – сказала Сара, – он постоянно квечит по поводу и без повода». Не подумав, она употребила слово из идиш и даже сама ничего не заметила, хотя обратила внимание на странный взгляд девушки.
– И знаете, я не могу этого доказать, но уверена, что эта девица проследила за мной до Бруклина. Потому что в понедельник с утра я увидела, как она разговаривает с управляющим, а в полдень он меня уволил. За то, что еврейка.
Этот случай изменил ее жизнь.
– После этого, – заявляла она, – я сказала себе: хватит с меня гоев! И вернулась к вере предков.
Год спустя она вышла за Дэниела Адлера.
Поток воспоминаний вскоре прервали Майкл и Натан, явившиеся завтракать. Сара помогла накрыть на стол, отец продолжал музицировать.
Когда братья ушли, Сара с матерью какое-то время прибирали кухню.
– Так что же, – спросила мать, как только все было убрано, – тебе по-прежнему хорошо в твоей квартире?
Мать не обрадовалась переезду Сары в город, но квартира была подарком судьбы. Она находилась в Гринвич-Виллидже и принадлежала брату отцовского пациента. Тот уехал на пару лет в Калифорнию – вернее, и сам не знал точно, надолго ли. При том условии, что Сара немедленно съедет, если квартира ему понадобится, он с удовольствием сдал ее за очень скромную сумму семье, в надежности которой его заверил брат. Так Сара получила уютную квартирку с одной спальней, где могла прожить даже на грошовое жалованье сотрудницы галереи.
– Она чудесная, и я люблю мою работу.
– В следующие выходные придешь?
– Наверное, да. А что?
– Помнишь, я говорила о внуке Адель Коэн? О мальчике, который поступил в Гарвард, а теперь врач?
– Который уехал в Филадельфию?
– Да, но теперь у него есть место в Нью-Йорке. Он как раз переезжает и на выходных собирается навестить бабушку. По-моему, он очень мил.
– Ты же его в глаза не видела.
– Если он внук Адели, то я не сомневаюсь, что так и есть.
– Сколько ему лет?
– Адель говорит, что в будущем году будет тридцать. И он очень интересуется искусством. Купил картину.
– Откуда ты знаешь?
– Адель сказала. Она думает, что он купил несколько.
– Что за картины?
– Почем мне знать? Картины, они и есть картины.
– Мы должны пожениться?
– Можешь познакомиться.
– У него есть деньги?
– Он врач. – Мать выдержала паузу, давая понять, что этого достаточно. – Когда его отец женился на дочери Адели, он был бухгалтером. Но не любил бухгалтерию и завел свое дело – начал торговать обогревателями. Продает и кондиционеры. По всему Нью-Джерси! Адель говорит, что он очень преуспел.
Итак, у внука Адели есть деньги. Сара улыбнулась. Она так и видела, как мать и Адель готовят почву. И с чего ей роптать? Все может обернуться замечательно.
– Я познакомлюсь с ним, – пообещала она.
Но вечером в метро, на обратном пути из Бруклина, ее мысли занимал не врач, а Чарли Мастер.
В «Сарди» она, конечно, пококетничала. Осторожно обозначила его возраст, а он, без сомнения, разжегся интересом. Но он тоже вел себя осмотрительно, и она догадывалась о причине.
Он не собирался делать ничего, что могло, если что-то пойдет не так, поставить под угрозу выставку работ Теодора Келлера. Он искренне переживал за их начинание, и Сара это уважала. Итак, он наполовину тянулся к ней, а наполовину хотел ограничиться профессиональными отношениями. Тем интереснее будет его соблазнить.
Саре Адлер нравилась ее работа. Она любила своих близких. Почитала родную веру. Но время от времени ей нравилось и нарушать правила.
Сара Адлер не была девственницей, но родителям незачем знать об этом.