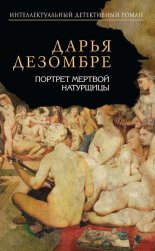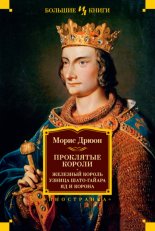Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны Макинтайр Бен

После обеда старые приятели пожали друг другу руки, и Станда Каплан растворился в людской толпе. Ничего определенного так и не было сказано. Не прозвучало никаких заявлений или обещаний. Однако невидимая черта оказалась перейдена. Гордиевский размышлял: «Я знал, что сказал достаточно, и теперь он сможет написать положительный отзыв».
Стоукс выслушал отчет Станды Каплана в номере копенгагенской гостиницы, а затем полетел в Лондон, чтобы доложить Джеффри Гаскотту о результатах проведенного испытания: неожиданный визит Каплана удивил Гордиевского — но не ужаснул и не разозлил; он выслушал друга с интересом и сочувствием и признался, что советское вторжение в Чехословакию поразило его. И, что самое главное, Гордиевский ничем не намекнул на то, что ему придется сообщить в КГБ о своей неожиданной встрече с осужденным изменником-антикоммунистом. «Это было прекрасно. Именно это мы и хотели услышать. Понятно, что Гордиевский проявлял предельную осторожность, но если он в самом деле не доложит начальству об этой встрече, значит, он сделает первый большой шаг. Нужно было ясно — и в то же время не слишком напористо — показать ему, что игру ведем мы. Нужно было устроить случайную встречу».
Ричард Бромхед «околевал от холода». Было семь утра, за ночь выпал снег, и температура упала до минус шести. Небо над Копенгагеном чуть светлело, приобретая стальной серый оттенок. Санбим, Солнечный Лучик! Более неподходящего имени нельзя было и придумать. Вот уже три утра подряд, в «несусветную рань», агент МИ-6 сидел в крошечной и непрогретой машине своей жены на пустынной, обсаженной деревьями улице на северной окраине города, всматривался через слегка запотевшее лобовое стекло в большое бетонное здание и думал о том, что так и до смерти замерзнуть недолго.
Датская служба наблюдения установила, что каждое утро Олег Гордиевский играет в бадминтон с молодой женщиной по имени Анна — студенткой, состоявшей в датской организации молодых коммунистов, — в спортивном клубе на окраине. За этим-то клубом и вел слежку Бромхед. Он предпочитал приезжать сюда не на собственном «форде» с дипломатическими номерами, а на более неприметном синем «остине» жены. Он парковался в таком месте, откуда напрямую просматривалась входная дверь клуба, но держал двигатель выключенным, потому что пар от выхлопов мог бы привлечь ненужное внимание. В первые два утра «Олег с девушкой показывались на пороге в 7:30, пожимали друг другу руки и расходились по машинам. Это была молодая стриженая шатенка, стройная, атлетически сложенная, но не то чтобы красавица. На любовников они не были похожи, хотя кто знает? Может, они просто держались осмотрительно на людях».
В это третье по счету утро наблюдений при температуре ниже нуля Бромхед решил, что все, хватит. «Я чуть не отморозил пальцы ног». Прикинув приблизительно, когда игра должна была подходить к концу, он вошел в клуб через незапертую входную дверь. В холле никого не было. Почти наверняка в здании не было других посетителей, кроме Олега и его партнерши. Если он сейчас застукает их с поличным прямо на полу бадминтонного корта, то, пожалуй, сам попадет в скользкое положение, подумал Бромхед.
Когда на пороге зала показался британский шпион, Гордиевский как раз закончил очередную подачу. Он сразу же узнал Бромхеда. В пустынном спорткомплексе тот смотрелся несуразно в своем твидовом костюме и тяжелом пальто — и в нем мгновенно опознавался англичанин. Олег приветственно помахал ему ракеткой и, повернувшись, продолжил игру.
Русский как будто не удивился, увидев Бромхеда. «Может быть, он меня ждал? — ломал тот голову. — Конечно, такой опытный и наблюдательный разведчик вполне мог заметить мою машину в предыдущие дни. Опять эта его дружелюбная улыбка. А затем — серьезная сосредоточенность на игре».
Пока Бромхед сидел на зрительской скамье, Гордиевский, продолжая невозмутимо играть, на самом деле лихорадочно пытался сообразить, что происходит. Похоже, все шло по плану: визит Каплана, вечеринка у Бромхеда и то, что этот жизнерадостный британский чиновник оказывался буквально на каждом общественном мероприятии, куда последние три месяца ходил сам Гордиевский. В КГБ Бромхеда считали возможным агентом разведки, отмечая, что он «наделен удивительнейшим даром поднимать настроение буквально у всех своих собеседников» и появляется «на дипломатических приемах независимо от того, приглашен он или нет». Появление англичанина на пустом бадминтонном корте в столь ранний час могло означать только одно: Гордиевского пытается завербовать МИ-6.
Игра подошла к концу, Анна ушла принимать душ, и Гордиевский, с полотенцем через плечо и с протянутой для пожатия рукой, подошел к Бромхеду. Два разведчика вперились друг в друга. «Олег ничем не выдавал, что нервничает», — написал потом Бромхед. Гордиевский же отметил, что англичанин, из которого всегда ключом била веселая самоуверенность, на этот раз был серьезен до крайности. Разговаривали они на смеси русского, немецкого и датского, а Бромхед то и дело порывался сдобрить эту мешанину еще и щепоткой французского.
— У вас есть возможность побеседовать со мной tete-a-tete? Мне бы хотелось поговорить с вами с глазу на глаз, где-нибудь в таком месте, где бы нас никто не мог подслушать.
— с удовольствием, — ответил Гордиевский.
— Мне было бы очень интересно провести такого рода разговор с человеком, состоящим на вашей службе. Думаю, вы — один из немногих, кто поговорил бы со мной честно.
Итак, еще одна черта пересечена — Бромхед ясно дал понять, что знает: Гордиевский работает на КГБ.
— Может быть, пообедаем вместе? — продолжал Бромхед.
— Да, конечно.
— Наверное, вам труднее выбраться на встречу, чем мне, поэтому, может быть, вы сами назовете ресторан, который подошел бы вам?
Бромхед ожидал, что Гордиевский назовет какое-нибудь заведение в отдаленном от центра укромном местечке. Но тот предложил встретиться через три дня в ресторане при отеле «Остерпорт» — прямо через дорогу от советского посольства.
Снова сидя за рулем видавшей виды жениной машины, Бромхед ощущал ликование — и одновременно некоторую тревогу. Уж очень спокойным показался ему Гордиевский: его как будто нисколько не смутило полученное предложение. Да и ресторан он выбрал в такой близости к собственному посольству, что при помощи спрятанного микрофона он запросто мог бы передать их разговор на пункт прослушивания прямо через дорогу. К тому же их легко могли засечь советские чиновники, нередко обедавшие в этом гостиничном ресторане. Впервые Бромхеду пришло в голову, что, быть может, он сам — не инициатор, а мишень готовящейся вербовки. «Поведение Олега и выбранный им ресторан наводили меня на сильные подозрения, что меня собираются переиграть в затеянной мною же игре. Уж слишком гладко все шло. Так обычно не бывает».
Вернувшись в посольство, Бромхед бросился передавать телеграмму в штаб МИ-6: «Господи, мне кажется, это он пытается завербовать меня!»
Но Гордиевский просто-напросто обеспечивал себе надежное прикрытие. Он тоже вернулся в посольство и сообщил главе резидентуры Могилевчику: «Один парень из английского посольства пригласил меня на обед. Как мне поступить? Должен ли я принимать приглашение?» Вопрос был передан в Москву, и оттуда незамедлительно последовал громогласный ответ серого кардинала Дмитрия Якушкина: «КОНЕЧНО! Ваша прямая обязанность — занимать активную, наступательную позицию, а не сторониться сотрудника иностранной разведслужбы. Почему бы вам и не встретиться с ним? Но при этом ПРОЯВИТЕ НАПОРИСТОСТЬ! Англия — одна из тех стран, которые представляют для нас особый интерес». Таким образом, Гордиевский хорошо подстраховался. Имея официальное разрешение начальства на дальнейшие шаги, он мог с чистой совестью идти на контакт с МИ-6: у КГБ не имелось ни малейших оснований подозревать его в неверности.
Одна из старейших уловок, к каким прибегает разведка, — так называемая подстава, когда одна сторона для виду заигрывает с кем-то из противоположного лагеря, обольщает его, делает соучастником своих игр и завладевает его доверием, а затем разоблачает его.
Бромхед раздумывал: а не сделался ли он мишенью такой кагэбэшной подставы? Если же нет, то неужели Гордиевский действительно пытается завербовать его? И как ему быть: проявить для вида интерес и посмотреть потом, как далеко готовы зайти Советы? Для Гордиевского же ставки были еще выше. Визит Каплана и последовавший за ним «подкат» Бромхеда могли быть частью одного хитроумного и коварного замысла, и — как знать — если он раскроет карты, то не схватят ли его с поличным? Конечно, Якушкин дал ему добро, но это не было слишком уж надежной индульгенцией. Если Гордиевский станет жертвой подставы со стороны МИ-6, на его карьере в КГБ можно ставить крест. Его отзовут в Москву. Потому что, следуя логике КГБ, всякий, кого пытался завербовать противник, автоматически становился — задним числом — подозрительной личностью.
Джеймс Джизус Энглтон, руководитель контрразведки ЦРУ в послевоенные годы, знаменитый своей крайней подозрительностью, называл шпионские игры «пустыней зеркал». В деле Гордиевского и впрямь уже появлялись причудливые отражения и преломления. Бромхед все еще делал вид, что устраивает случайную встречу между коллегами-разведчиками, пускай и находящимися по разные стороны линии фронта в холодной войне, — и одновременно гадал, не пытаются ли завербовать его самого. А Гордиевский притворялся перед кагэбэшным начальством, что это просто «выстрел наугад» со стороны британской разведки, приглашение на обед от случайного знакомого, — а про себя гадал, уж не готовит ли ему ловушку МИ-6.
Прошло три дня. Бромхед прошел по территории кладбища, находившегося за посольскими зданиями, пересек оживленную улицу Дага Хаммаршельда, вошел в отель «Остерпорт» и уселся в ресторане спиной к окну — так, чтобы «внимательно наблюдать за главным входом в обеденный зал». ПЕТ уже была извещена о том, где именно будет проходить встреча, но Бромхед настоял на том, чтобы никакой наружки рядом не было, — иначе Гордиевский, заметив ее, просто ретировался бы.
«Я внимательно присмотрелся ко всем сидевшим в ресторане. Мне важно было убедиться в том, что там нет больше никого из советского посольства. Всех сотрудников я знал в лицо по фотографиям, они были у нас в конторе. Похоже, вокруг расположились сплошь безобидные датчане или столь же безобидные туристы. Я сидел и гадал — придет ли Олег?»
Гордиевский вошел в ресторанный зал точно в назначенное время.
Бромхед не уловил в его лице ни намека на волнение, хотя Гордиевский «был внутренне напряжен, как будто готов к действиям». Потом Бромхед так описывал этот момент: «Он сразу же меня увидел. „Может быть, ему заранее сообщили, какой столик я зарезервировал?“ — подумал я, и меня охватила обычная шпионская горячка. Олег улыбнулся своей всегдашней дружеской улыбкой и зашагал ко мне».
Как только они принялись уплетать превосходные скандинавские закуски, которыми славился «Остерпорт», Бромхед «сразу же ощутил дружескую атмосферу». Разговор вращался вокруг религии, философии и музыки. Олег мысленно отметил, что его собеседник хорошо подготовился к встрече, раз заговорил на интересные для него темы. Когда Бромхед «неожиданно упомянул об огромной численности сотрудников КГБ, работающих под крышей советских посольств», Гордиевский ответил уклончиво. Русский говорил в основном по-датски, а англичанин отвечал ему на беспорядочной смеси датского, немецкого и русского. Эта языковая мешанина, напоминавшая шведский стол, порой вызывала у Гордиевского смех, хотя в его веселье и «не чувствовалось никакой издевки». Бромхед вспоминал потом: «Он вел себя совершенно непринужденно и явно понимал, что мы с ним оба — сотрудники разведки».
Когда подали шнапс и кофе, Бромхед задал ключевой вопрос: «Вам придется написать отчет о нашей встрече?»
Ответ последовал откровенный: «Скорее всего, да, но сделаю я это в самых общих словах».
Вот наконец-то проскользнул намек на тайный сговор. Можно сказать, мелькнула лодыжка, но сама нога так и не показалась.
И все равно Бромхед покинул ресторан «еще более озадаченным, чем прежде». Гордиевский намекнул на то, что он отчасти утаивает правду от КГБ. Но при этом вел себя в точности как человек, который считает себя охотником — не дичью. Бромхед отправил в штаб МИ-6 докладную записку. «Я подчеркнул свои опасения, что все проходит чересчур гладко, и у меня есть сильное подозрение, что он так мил со мной неспроста, а потому что хочет завербовать меня».
Гордиевский тоже отчитался перед Центром о своей встрече. Он составил пространный, пресный документ, из которого следовало, что встреча «представляла некоторый интерес». При этом он постарался «подчеркнуть бесспорную важность проявленной [им] инициативы». Серый кардинал «пришел в восторг» от его отчета.
А потом произошло нечто удивительное. А именно — ничего не произошло.
Дело Гордиевского заглохло. В течение восьми месяцев никто не делал попыток выйти с ним на связь. Почему — так и осталось загадкой.
Джеффри Гаскотт писал: «Оглядываясь вспять, думаешь: „Какой ужас, дело просто задвинули в дальний угол и забыли о нем на несколько месяцев“. Мы ждали донесений от датчан, ждали, когда вернется Бромхед. Но ничего не происходило. Бромхед отвлекся на что-то другое — он пас еще двух-трех типов, а с этим затея была очень уж рискованная, никто особенно ничего от нее не ждал». Наверное, Бромхед из-за своей подозрительности слишком уж нажал на тормоза. «Если действуешь чересчур напористо, чересчур поспешно, все может пойти наперекосяк, — говорил Гаскотт. — Когда все идет как надо, часто это происходит потому, что никто ни на кого не напирает». В данном случае от МИ-6 не исходило вообще никаких сигналов: «Это был наш прокол».
Однако в конечном счете как раз этот прокол и сработал. Поначалу, когда недели проходили одна за другой, а Бромхед все не предпринимал никаких попыток возобновить контакт, Гордиевский ощущал беспокойство, затем смятение, потом он разозлился — и наконец успокоился. Повисшая пауза дала ему время на размышления. Если бы это была подстава, МИ-6 наверняка действовала бы гораздо быстрее. Что ж, он подождет. А в КГБ тем временем забудут о встрече с Бромхедом. В шпионских делах, как и в любви, небольшая разлука, некоторая неопределенность, видимое охлаждение с одной или с другой стороны может снова пробудить желание. За восемь разочаровывающе пустых месяцев, которые последовали за тем обедом в отеле «Остерпорт», решимость Гордиевского возросла.
1 октября 1974 года на залитом утренним светом бадминтонном корте снова показался высокий англичанин — и опять предложил встретиться. Почему же Бромхед внезапно решил возобновить контакт? Дело в том, что его собирались перебросить в Северную Ирландию, где ему предстояло проводить подпольные операции против ИРА. Через несколько месяцев он должен был покинуть Данию. «Времени оставалось немного. Поэтому я решил, что хватит тратить его попусту», — написал позднее Бромхед, и из его бойких слов явствует, что сам он прекрасно сознавал, что до этого просто терял время зря. Они условились встретиться в только что открывшемся отеле «САС», принадлежавшем «Скандинавским авиалиниям», куда никогда не заглядывали сотрудники советских миссий.
Когда Олег пришел, Бромхед уже ждал его за угловым столиком у барной стойки. Астерикс и Обеликс, парочка агентов ПЕТ, пришли еще раньше и сидели в противоположном конце бара, пытаясь прикинуться ветошью за пальмой в горшке.
«Олег, точный, как часы, вошел в бар ровно в час дня. Угол, который я выбрал, был освещен тускло, и Олег начал оглядываться по сторонам. Тогда, чтобы отвлечь его внимание от соглядатаев, я быстро вскочил на ноги. И он, улыбаясь знакомой улыбкой, двинулся ко мне».
Атмосфера моментально изменилась. «Я решил, что пора брать инициативу в свои руки, — вспоминал позднее Гордиевский. — Я твердо знал, чего хочу, и очень надеялся, что он наконец перейдет к делу. Его одолевали примерно такие же мысли». Бромхед сделал первый ход. Ведь МИ-6 поручило ему показать, что все это не пустые заигрывания: «Когда нам принесли напитки, я взял быка за рога».
— Вы — из КГБ. Нам известно, что вы работали в Первом главном управлении по линии «Н» — в самом секретном из всех ваших отделов, который управляет нелегалами по всему миру.
Гордиевский не стал скрывать, что удивлен.
— Вы готовы разговаривать с нами о том, что вам известно? Гордиевский ничего не ответил.
Бромхед продолжал наседать:
— Скажите, кто там у вас является заместителем резидента по работе со средствами массовой информации, кто отвечает за сбор данных для политической разведки и за курирование агентов?
Последовала пауза, а затем русский расплылся в широченной улыбке.
— Да я же.
Теперь настал черед Бромхеда удивляться.
«У меня в голове вертелась мысль — заговорить о мире во всем мире и так далее, но чутье подсказывало мне, что Олегу подобной ерундой зубы не заговоришь. И все равно все шло как-то слишком гладко! Моя подозрительность не позволяла мне воспринимать этого человека таким, каким он казался. Мое чутье подсказывало мне, что это удивительно приятный человек и я могу ему доверять. с другой стороны, моя выучка и опыт общения с кагэбэшниками отчаянно призывали меня к осторожности».
Еще один рубеж был перейден, и оба это понимали. «Внезапно мы сделались чуть ли не коллегами, — писал Гордиевский. — Наконец мы начали говорить просто, без обиняков».
Теперь Бромхед перешел к решающему вопросу:
— Вы готовы встретиться со мной без свидетелей в надежном месте?
Русский кивнул.
А потом сказал нечто такое, что как будто переключило вдруг невидимый светофор с желтого на зеленый:
— Никто не знает, что я сейчас встречаюсь здесь с вами.
После их первой встречи Олег проинформировал начальство и составил письменный отчет. На эту же встречу он разрешения не получал. Значит, если в КГБ узнают, что он снова контактировал с Бромхедом и сохранил это в тайне, он пропал. Сообщив МИ-6, что он никому ничего не говорил, он тем самым подавал совершенно четкий сигнал о том, что готов переметнуться к противникам — и вверяет им свою жизнь. Он перешел роковую черту.
«Это был важный шаг, — вспоминал позднее Гаскотт. — Это прозвучало так, как если бы мужчина, встречаясь с женщиной, сказал ей: „Моя жена не знает, что я здесь“». Гордиевский ощутил огромное облегчение и мощный выброс адреналина. Они с Бромхедом условились встретиться через три недели в баре на окраине города. Гордиевский ушел первым. Бромхед — немного погодя. Наконец, из-за кадки с пальмой вышла парочка датских шпионов.
Этап ухаживания завершился: отныне майор КГБ Гордиевский работал на МИ-6. Агент Санбим был активирован.
В одно очистительное мгновение в углу копенгагенского отеля соединились все элементы давно назревавшего бунта: это были и гнев на преступления отца, в которых тот так и не признался, и приятие самим Гордиевским тихого сопротивления матери и тайной бабушкиной веры в Бога, и ненависть к системе, внутри которой он вырос, и любовь к западным свободам, с которыми он познакомился позже, и яростное возмущение советскими репрессиями в Венгрии и Чехословакии и строительством Берлинской стены, и его ощущение собственной драматичной судьбы, чувство своего культурного превосходства и вера в лучшее будущее, ждущее Россию. Отныне Олегу Гордиевскому предстояло вести две разные, параллельные жизни — обе тайные и к тому же враждебные друг другу. И переход к этому новому этапу произошел с особой прямотой, свойственной его характеру: он испытывал неколебимую, железную уверенность в том, что поступает абсолютно правильно. Искренне повинуясь моральному долгу, он безвозвратно изменил свою жизнь. Это была добродетельная измена.
Когда отчет Бромхеда поступил в Лондон, руководство МИ-6 провело встречу на своей учебной базе в форте Монктон — крепости наполеоновской эпохи вблизи Портсмута на южном побережье Англии. В десять часов вечера небольшая группа собралась там, чтобы обсудить доклад Бромхеда и выработать план дальнейших действий. «Вновь и вновь звучал вопрос: не провокация ли это?» — вспоминал Джеффри Гаскотт. Неужели высокопоставленный сотрудник КГБ действительно готов рисковать жизнью ради тайной встречи с известным оперативником МИ-6? с другой стороны, посмеет ли КГБ устроить такую подставу для собственного сотрудника? После напряженных дебатов все сошлись на том, чтобы приступать к действиям. Возможно, этот Санбим слишком хорош, чтобы все оказалось правдой, но он был и слишком хорош, чтобы упускать его.
Спустя три недели Бромхед и Гордиевский встретились в сумрачном, почти пустом баре. По пути туда оба тщательно проверили, что за ними нет слежки, и пришли «чистыми». Разговор был деловым, но часто спотыкался: серьезной помехой оставалось отсутствие общего языка. Английский и русский шпионы уже достигли взаимопонимания — просто они очень плохо понимали, что же именно говорится. Бромхед рассказал, что он скоро уедет из Копенгагена, поэтому ответственность за дальнейшие встречи будет передана его коллеге, старшему сотруднику разведки, который хорошо говорит по-немецки, так что Гордиевскому будет намного легче с ним объясняться. Бромхед найдет удобную явочную квартиру для встреч, познакомит Олега со своим преемником, а затем откланяется.
Секретарь миссии МИ-6 в Копенгагене снимала квартиру в столичном пригороде Шарлоттенлунде. Туда легко доехать на метро, а сама секретарь в нужное время будет просто уходить. Бромхед предложил Гордиевскому встретиться у порога мясной лавки неподалеку от дома, где находилась конспиративная квартира, в семь часов вечера еще через три недели. «У порога мясной лавки как раз удобно падала тень, там можно было укрыться от ярких фонарей. К тому же поблизости трудно было бы поставить наблюдателя — так, чтобы он сам не маячил издалека. К семи вечера улица должна была вымереть — в это время все датчане обычно уютно устраиваются перед телевизором».
Гордиевский прибыл на место в семь ровно. Через пару минут подошел Бромхед. После молчаливого рукопожатия англичанин сказал: «Пойдемте, я провожу вас». Явочная квартира, или, на шпионском жаргоне, ОПП, «оперативное подпольное помещение», находилась менее чем в 200 метрах, но Бромхед отправился туда окольным путем — на случай, если кто-то следовал за ними по пятам. «Было холодно, падали снежинки». Оба разведчика были закутаны в теплые пальто. Гордиевский шел молча, погруженный в свои мысли: «Впервые ступая на вражескую территорию, я не боялся, что меня похитят, а если и волновался, то только потому, что сознавал важность момента».
Бромхед отпер дверь квартиры, впустил Гордиевского, а потом налил ему и себе виски с содовой.
— Сколько у вас времени? — осведомился англичанин.
— Около получаса.
— Признаться, я удивлен, что вы пришли. Разве вы не подвергаетесь большому риску, когда вот так встречаетесь со мной?
Гордиевский немного помолчал, а потом «очень взвешенно» ответил:
— Это может быть очень опасно, но в данный момент мне кажется, что опасности нет.
Бромхед старательно объяснил на своей причудливой смеси языков, что завтра утром улетает в Лондон, а оттуда в Белфаст. Но через три недели он вернется, снова встретится с Гордиевским у порога мясной лавки, приведет его в эту квартиру и представит новому сотруднику, который и будет курировать его. О происходящем была извещена лишь небольшая группа сотрудников ПЕТ, однако его дело будет вести исключительно МИ-6. Бромхед заверил Гордиевского, что и в британской разведке ради его же безопасности о его существовании будет известно лишь горстке людей, причем большинство из них никогда не узнает его настоящего имени. Тот, кого ознакомили с деталями той или иной секретной операции, на языке разведки назывался «осведомленным»; с данным делом осведомят как можно меньше людей, и вести его будут при строжайших мерах безопасности, поскольку внутри ПЕТ и МИ-6 могут скрываться советские шпионы, готовые докладывать обо всем в Москву. Даже ЦРУ — ближайший союзник Британии среди иностранных разведслужб — останется здесь не у дел. «В таких благоприятных условиях мы заложим здоровую основу для наших отношений и начнем серьезное сотрудничество».
Уже прощаясь с Гордиевским, Бромхед подумал о том, как мало он, в сущности, знает об этом улыбчивом, с виду таком спокойном русском кагэбэшнике, который почему-то оказался готов рисковать жизнью ради тайного сговора с МИ-6. Вопрос денег даже не затрагивался. Как, впрочем, и вопрос личной безопасности Олега или его семьи и его возможного желания дезертировать. Они беседовали на общие темы — чаще всего о культуре и музыке, а не о политике, идеологии или жизни при советском режиме. О мотивах, двигавших Гордиевским, речь не заходила. «Я никогда не спрашивал его — почему он на это идет. Даже времени на это не было».
Эти вопросы не давали Бромхеду покоя и на следующее утро, когда он прибыл в лондонский штаб МИ-6. Начальник отдела, заведовавшего советским блоком, поспешил успокоить его. «Он был очень опытен по части КГБ и достаточно осторожен, но, по его словам, тут мы наблюдали уникальную ситуацию, и следовало извлечь из нее максимальную выгоду. Это был первый случай, когда сотрудник КГБ — любого ранга — вот так с ходу положительно реагировал на британскую попытку сближения». Еще он сказал, что советские спецслужбы слишком подозрительны, чтобы устраивать подставу с участием человека, имеющего доступ к настоящим секретам. «Они еще ни разу не подсылали к нам действующего сотрудника КГБ… Они просто настолько не доверяют своим же, что никому не позволяют вступать в контакты с [западными] кураторами».
Руководство МИ-6 было настроено оптимистично: агент Санбим может принести эпохальный успех. Гордиевский казался искренним. Бромхед продолжал сомневаться. Пока что русский шпион не только не предоставил ни крупицы полезных разведданных, но даже не удосужился раскрыть мотивы своих действий.
Передача агента от одного куратора к другому — процесс сложный и порой обременительный, особенно если агент завербован совсем недавно. В январе 1975 года, через три недели после отъезда из Копенгагена, Бромхед «тихо и анонимно просочился обратно в Данию»: он прилетел в Гётеборг в Швеции, а там его встретил сотрудник ПЕТ Винтер Клаусен. с трудом втиснувшись на пассажирское место в «фольксвагене» рядом с «необъятной тушей» улыбчивого Обеликса, он пересек датскую границу и поселился в «надлежаще безликой и окраинной» гостинице при копенгагенском торговом центре «Люнгбю».
Нового куратора Гордиевского звали Филип Хокинс. Он прилетел из Лондона по фальшивому паспорту. «Он вам понравится», — пообещал Бромхед Олегу. Правда, сам он в этом сильно сомневался. «Мне он сразу не понравился. Я решил, что это первосортный говнюк». Это было и неверно, и несправедливо. Адвокат по образованию, Хокинс был суров, любил точность и нисколько не походил на Бромхеда.
Встретив Гордиевского возле мясной лавки, Бромхед препроводил его на явочную квартиру, где их уже ждал Хокинс. Гордиевский присмотрелся к своему новому куратору. «При виде этого крепко сложенного и обладавшего, судя по всему, недюжинной силой человека мне стало как-то не по себе». Хокинс стал общаться с новым агентом «во враждебной, чуть ли не угрожающей манере». По-немецки он говорил церемонно и несколько скованно.
Бромхед с серьезным видом пожал руку Гордиевскому, поблагодарил его за все, что тот делает, и пожелал ему удачи. Уже сидя в машине, Бромхед ощутил смесь разнородных чувств: сожаление (потому что русский шпион вызывал у него симпатию и восхищение), тревогу (потому что он продолжал опасаться подлянки со стороны КГБ) и огромное облегчение от того, что лично для него с этим делом теперь покончено.
«Я был страшно рад, что выхожу из игры, — писал позднее Бромхед. — Я не мог отогнать от себя мысль, что, быть может, я выкопал бездонную „яму для слонопотама“ и моя родная служба вот-вот нырнет в нее с головой».
Глава 4
Зеленые чернила и микропленки
Почему люди вообще становятся шпионами? Почему они отказываются от безопасной семейной жизни, от друзей и от спокойной работы ради опасного и сумрачного мира секретов? И почему, в частности, кто-то поступает в разведслужбу одной страны, а потом решает переметнуться в лагерь противника?
Ближайшая параллель к тайной перебежке Гордиевского из КГБ — это, пожалуй, случай Кима Филби — англичанина, выпускника Кембриджа, проделавшего точной такой же путь, только в обратном направлении: оставаясь на службе в МИ-6, он тайно работал на КГБ. Подобно Филби, Гордиевский пережил глубокое идейное обращение, хотя первого коммунизм притягивал, а второго — отталкивал. Но обращение Филби произошло еще до того, как он оказался завербован МИ-6 в 1940 году, и он поступил туда служить, уже имея твердое намерение тайно работать на КГБ против капиталистического Запада. Гордиевский же поступил в КГБ, будучи лояльным советским гражданином, и не подозревал, что когда-нибудь может предать родину.
Шпионы бывают разные. Одни руководствуются идейными, политическими или патриотическими убеждениями. На удивление многими движет банальная корысть — их привлекает финансовое вознаграждение. Другие втягиваются в шпионаж из-за секса, шантажа, тщеславия, мстительности, разочарования или того особого стремления к первенству и духа товарищества, какое порождает секретность. Одни принципиальны и отважны. Другие алчны и трусливы.
Павел Судоплатов, один из опытнейших сталинских разведчиков, давал такие наставления сотрудникам, которым поручалась вербовка шпионов в западных странах: «Ищите людей, обиженных судьбой или природой: некрасивых, страдающих от своей неполноценности, добивающихся власти и влияния, но по стечению обстоятельств потерпевших поражение… Все они найдут в сотрудничестве с нами своеобразную компенсацию. Компенсацию тайную и тем более интересную. Ощущение принадлежности к влиятельной, могущественной организации даст им чувство внутреннего превосходства над окружающими их красивыми и преуспевающими людьми»[10]. Много лет в КГБ использовали аббревиатуру ЭДИП для обозначения четырех главных пружин, приводивших в действие механизм шпионажа: эгоизм, деньги, идеология, принуждение.
Но была еще и романтика, шанс прожить вторую — скрытую ото всех — жизнь. Некоторые шпионы — фантазеры. Малкольм Маггеридж, бывший сотрудник МИ-6 и журналист, писал: «Из своего опыта я знаю, что разведчики — еще большие вруны, чем журналисты»[11]. Шпионская деятельность привлекает множество ущербных, одиноких и просто чудаковатых людей. Однако все шпионы мечтают обрести невидимое влияние, эту тайную компенсацию — обладание личной властью. Большинству в той или иной мере присущ и интеллектуальный снобизм — это тайное ощущение, что тебе известны важные вещи, которых не знает человек, стоящий рядом с тобой на автобусной остановке. Отчасти шпионство — работа воображения.
Решение шпионить на другую страну, действуя против собственной, обычно возникает в результате столкновения внешнего мира, часто воспринимаемого рационально, с внутренним миром, о котором у шпиона могут отсутствовать четкие представления. Например, Филби называл себя чисто идейным агентом, тайным солдатом, преданным делу коммунизма, но он умалчивал о том, что им двигали и иные силы — нарциссизм, чувство собственной неполноценности, отцовское влияние и стремление обманывать окружающих. Британец Эдди Чэпмен, преступник и двойной агент, действовавший в годы Второй мировой войны под кодовым именем агент Зигзаг, считал себя героем-патриотом (и это было правдой), но среди других его качеств были алчность, меркантильность и непостоянство — потому он и получил такое прозвище. Олег Пеньковский, русский шпион, предоставивший Западу важные разведданные во время Карибского кризиса, надеялся предотвратить ядерную войну, но помимо того он желал, чтобы ему доставляли в номер лондонской гостиницы проституток и шоколад, а еще он требовал встречи с королевой.
Тот внешний мир, который толкнул Гордиевского в объятья МИ-6, имел политическую и идеологическую окраску: мощными факторами воздействия и дальнейшего отчуждения стали для Олега строительство Берлинской стены и подавление Пражской весны. К тому же он был начитан в западной литературе, достаточно много знал о настоящей истории своей страны и собственными глазами видел демократическую свободу в действии, а потому понимал, что та социалистическая нирвана, какую изображают в коммунистической пропаганде, — чудовищная ложь. Он вырос в мире, где беспрекословное повиновение было возведено в догму. Отвергнув эту идеологию, он поклялся бороться против нее со всем пылом новообращенного, сделался столь же яростным и безоговорочным противником коммунизма, сколь преданными защитниками этого учения были его отец, брат и очень многие его соотечественники и современники. А так как он сам был продуктом системы, он из первых рук знал о беспощадной жестокости КГБ. Помимо политических репрессий отторжение в нем вызывало и культурное мещанство: Гордиевский люто ненавидел суррогатную советскую музыку и цензуру по отношению к западному классическому канону. Его душа требовала другого, более качественного звукового сопровождения к собственной жизни.
Труднее говорить о том внутреннем мире, что толкал Олега к измене. Ему всегда нравились романтика и приключения. Он наверняка бунтовал против отца — мучившегося от сознания собственной вины, но безотказного исполнителя воли КГБ. Бабушка с ее подпольной религиозностью, мать с ее молчаливым нонконформизмом, брат, умерший в 39 лет на службе у КГБ, — мысли об этом тоже могли оказывать на Гордиевского подспудное влияние и подталкивать к мятежу. Он не испытывал особого уважения к большинству коллег по КГБ — ленивых и нечистых на руку приспособленцев, которые, по-видимому, добивались повышения посредством политических маневров и подхалимажа. Он был гораздо умнее большинства окружавших людей — и сам это понимал. Брак Гордиевского к тому времени выдохся, заводить близких друзей оказалось трудно. Ему хотелось мести, самовыражения, а еще — любви.
Всем шпионам необходимо чувствовать, что их любят. Одна из наиболее мощных сил в шпионаже и разведке (а также один из ее главных мифов) — это эмоциональная связь между шпионом и куратором, между агентом и вербовщиком. Шпионам необходимо ощущать себя нужными людьми, частью секретного сообщества, им хочется, чтобы их вознаграждали, лелеяли, чтобы им доверяли. Эдди Чэпмену удалось установить такие отношения со своими кураторами из обеих разведок — британской и немецкой. Филби завербовал Арнольд Дейч, знаменитый своей харизмой разведчик-нелегал и «охотник за талантами» из КГБ. Филби так писал о нем: «Удивительный человек… Он смотрел на тебя так, словно в тот момент в его жизни не существовало ничего важнее, чем ты сам и разговор с тобой»[12]. Умение пользоваться и манипулировать этой жаждой привязанности и самоутверждения и является одним из важнейших профессиональных навыков разведчика, ведущего агентов. Не было еще ни одного успешного агента, который не ощущал бы, что его связь с куратором — нечто большее, чем просто «брак по расчету», дело политики или выгоды: это было подлинное, прочное единение душ и умов посреди разливанного моря лжи и обмана.
При знакомстве с Филипом Хокинсом, своим новым английским куратором, Гордиевский испытал сразу несколько эмоций, но любви среди них точно не было.
Эксцентричный и излучавший избыток энергии Ричард Бромхед подкупал Гордиевского своей «жуткой английскостью». Он был в его глазах одним из тех бравурных англичан, каких с восторгом описывал Любимов. Хокинс же был шотландец — и холоднее на несколько градусов. Весь такой правильный, невыразительный, неподатливый и черствый, как овсяная лепешка. «Он считал, что его обязанность — не улыбаться и любезничать, а смотреть на дело глазами юриста» — так отзывался о нем один коллега.
Во время войны Хокинсу приходилось допрашивать захваченных немцев. Несколько лет он занимался чешскими и советскими делами, в том числе перебежчиками. А главное, у него имелся непосредственный опыт курирования шпиона внутри КГБ. В 1967 году одна англичанка, жившая в Вене, обратилась в посольство Британии и сообщила, что у нее появился новый жилец — молодой русский дипломат, по-видимому, восприимчивый к западным идеям и довольно критично настроенный по отношению к коммунизму. Она учила его кататься на лыжах. Возможно, она еще и спала с ним. В МИ-6 этому русскому присвоили кодовое имя Пенетрабл (Пробиваемый), начали наводить справки и выяснили, что западногерманская разведка, BND, «тоже взяла след» и уже совершила попытку сближения с объектом. Тот оказался стажером КГБ и отреагировал на попытку контакта положительно. Было решено, что Пенетрабл станет общим англозападногерманским агентом. Курировать его с британской стороны поручили Филипу Хокинсу.
«Филип знал все досконально про КГБ, — говорил про него один коллега. — Ему и платили за скепсис. Курировать Гордиевского поручили ему, потому что выбор был очевиден: Филип говорил по-немецки и в тот момент не был занят». А еще он нервничал — и маскировал свое волнение проявлением агрессии. Свою задачу он понимал так: выяснить, не лжет ли Олег, и если нет, то какое количество информации он готов раскрывать и чего хочет взамен.
Хокинс предложил Гордиевскому сесть и приступил к допросу так напористо, словно дело происходило в зале суда.
«Кто ваш резидент? Сколько в вашем посольстве сотрудников КГБ?»
Гордиевский ждал более ласкового приема, ждал услышать похвалу и поздравление с принятым судьбоносным решением. А тут его бесцеремонно и жестко допрашивали, будто захваченного в плен врага, а не свежеиспеченного агента, настроенного на сотрудничество.
Позднее Гордиевский описывал свои ощущения: неприятный разговор «продолжался, как мне показалось, бесконечно долго, и я не был в восторге от этого».
В голове у Гордиевского промелькнула мысль: «Он не может олицетворять истинный дух английской разведывательной службы».
Потом допрос с пристрастием ненадолго прекратился. Тогда Гордиевский поднял руку и сделал заявление: он согласен работать на британскую разведку, но только при выполнении трех условий.
«Во-первых, — сказал он, — мой поступок не должен подставить под удар никого из моих коллег в КГБ. Во-вторых, я не желаю, чтобы без моего согласия меня фотографировали или записывали на пленку то, что я говорю. И в-третьих, вы не будете мне ничего платить. Я намерен работать на Запад исключительно из идейных соображений, а не из корысти».
Теперь настал черед Хокинса чувствовать себя оскорбленным. В его воображаемом зале суда свидетели, подвергавшиеся допросу, не устанавливали правила. Второе выдвинутое условие было невыполнимым. Если бы в МИ-6 решили вести записи бесед с Гордиевским, он бы никогда этого не узнал, поскольку такие записи по определению являлись бы секретными. Еще больше беспокойства внушал его превентивный отказ от финансового вознаграждения. В шпионской деятельности всем осведомителям предлагают подарки или деньги, это аксиома. Хотя, конечно, не следует давать им слишком много, чтобы они не захотели получать еще больше и не пустились в чрезмерные траты и тем самым не навлекли бы на себя подозрения. Деньги позволяют шпиону почувствовать себя ценным, являются зримой платой за оказанные услуги и, в случае необходимости, могут быть использованы как рычаг воздействия. И почему это он намерен выгораживать своих коллег-кагэбэшников? Значит, он по-прежнему собирается хранить верность КГБ? На самом деле Гордиевский отчасти хотел защитить самого себя: ведь если Дания вдруг начнет вышвыривать сотрудников КГБ, Центр сразу же примется за поиски предателя в своих рядах и рано или поздно вычислит его.
Хокинс начал было увещевать собеседника: «Сейчас, когда нам стало известно, какое положение занимаете вы в здешнем аппарате КГБ, мы не дважды, а трижды подумаем, прежде чем принять решение о высылке кого-либо из страны». Но Гордиевский железно стоял на своем: он не собирался сдавать своих коллег по КГБ, их агентов и нелегалов, так что придется оставить их всех в покое. «Эти люди не имеют никакой важности. Формально они агенты, но они не делают ничего плохого. И я не хочу, чтобы они попали в беду».
Хокинс нехотя согласился передать озвученные Гордиевским условия руководству МИ-6 и изложил дальнейший порядок действий. Хокинс будет прилетать в Копенгаген раз в месяц и оставаться здесь на длинные выходные. В течение этих дней они с Гордиевским смогут встретиться дважды и поговорить как минимум по два часа. Встречи будут проходить на другой явочной квартире (предоставленной датчанами — хотя эту подробность Гордиевскому не сообщили) в Баллерупе, северном пригороде столицы, в тихом районе возле конечной станции метро, на противоположном от советского посольства конце города. Гордиевский будет приезжать туда или на поезде, или на автомобиле — в последнем случае парковаться нужно на некотором расстоянии. Вероятность, что его заметит там кто-либо из коллег по посольству, была невысока, а если советские спецслужбы выставят где-нибудь поблизости соглядатаев, он наверняка об этом узнает. Больше приходилось опасаться слежки со стороны датчан. Ведь в прошлом ПЕТ заподозрила в Гордиевском тайного кагэбэшника и вела за ним наблюдение. Если теперь там прознают, что он ездит на тайные свидания в пригороде, то могут забить тревогу. О том, что МИ-6 взяла под свое крыло советского агента, в ПЕТ знало не больше полудюжины сотрудников, а имя этого агента было известно лишь двум-трем. Одним из введенных в курс дела был Йорн Брун, глава отдела контрразведки в ПЕТ и давний союзник Бромхеда. Бруну и предстояло следить за тем, чтобы его люди не ходили хвостом за Гордиевским в те дни, когда тот должен был встречаться с британским куратором. Наконец, Хокинс сообщил Гордиевскому номер телефона для экстренных случаев и передал ему чернила для тайнописи и лондонский адрес, на который можно отправлять любые срочные сообщения в промежутках между личными встречами.
Оба покинули явочную квартиру в дурном расположении духа. Первый контакт между шпионом и куратором никак нельзя было назвать удачным.
Однако в чем-то назначение на эту роль бесцеремонного и неулыбчивого Хокинса принесло в итоге неплохие плоды. Он был профессионалом в своем деле, как и Гордиевский — в своем. Русский оказался вверен человеку, который относился к своей работе — и к безопасности Гордиевского — с чрезвычайной серьезностью. К «шатанию без дела» (если вспомнить любимую фразу Бромхеда) Хокинс склонен не был.
Так начался ряд ежемесячных встреч, которые происходили в однокомнатной квартире на третьем этаже невзрачной многоэтажки в Баллерупе. Квартира была скромно обставлена датской мебелью, кухня оснащена всем необходимым. Аренду оплачивали в складчину разведслужбы Британии и Дании. За несколько дней до первой встречи в ОПП двое техников из ПЕТ, переодетые сотрудниками электрической компании, вмонтировали микрофоны в потолочные светильники и электрические розетки, а за плинтусами протянули соединительные провода к спальне, где — за панелью стены над кроватью — установили магнитофон. Так было нарушено второе из выдвинутых Гордиевским условий.
Сперва встречи проходили напряженно, но потом, когда постепенно напряжение ослабло, сделались исключительно плодотворными. Взаимодействие, начавшееся в атмосфере колючей подозрительности, мало-помалу переросло в чрезвычайно прочную связь, которая была основана не на приязни, а на ворчливом взаимном уважении. Пусть не любовь, но профессиональное одобрение Хокинса Гордиевский заслужил.
Лучший способ проверить, не лжет ли собеседник, — задать ему вопрос, ответ на который тебе уже известен. Хокинс прекрасно знал, как устроен КГБ. Гордиевский с максимальной дотошностью описал ему все управления, отделы и подотделы обширного, сложного бюрократического аппарата внутри московского Центра. Кое-что из этого Хокинс и так уже знал; очень многое оказалось ему неизвестно — имена, круг обязанностей, технические приемы, методы обучения, даже внутренние споры и конкуренция, порядок повышений и понижений в должности. Обилие подробностей, сообщенных Гордиевским, доказывало искренность его намерений: будь это подстава, он бы просто не посмел рассказать столько. При этом он не просил у Хокинса какой-либо информации о МИ-6 и не предпринимал никаких шагов, каких можно было бы ожидать от двойного агента, пытающегося просочиться во вражескую спецслужбу.
Руководство МИ-6 вскоре убедилось в добросовестности Гордиевского. «Оказалось, что Санбим — то, что надо, — заключил Гаскотт. — Он играл без обмана».
Это убеждение укрепилось еще сильнее, когда Гордиевский начал описывать в мельчайших подробностях деятельность Управления «С» — отдела, занимавшегося нелегалами, где он проработал около десяти лет, прежде чем перейти в политическое крыло. Он рассказывал о том, как Москва по всему миру внедряет своих шпионов, замаскированных под обычных граждан, и для этого проводит «неохватную и чрезвычайно сложную операцию по созданию фальшивых личностей»: это подделка документов, манипуляции с регистрационными книгами, сдача кротов и сложная система методов, позволяющих вести, контролировать и финансировать целую армию советских нелегалов.
Перед каждой встречей Хокинс снимал панель в стене спальни, вставлял в магнитофон новую кассету и включал его. Он также вел конспекты от руки, но после встречи тщательно транскрибировал каждый записанный на пленку разговор и переводил его с немецкого на английский. На обработку часа магнитофонной записи уходило по три-четыре часа. Получившийся в результате отчет Хокинс передавал младшему сотруднику МИ-6 в британском посольстве, а тот пересылал его в Лондон вместе с магнитофонной лентой в дипломатической сумке, защищенной от досмотров. В штабе МИ-6 с нетерпением ждали этих отчетов. Британская разведка еще никогда не обзаводилась шпионом, столь глубоко внедренным в КГБ. Гордиевский как хорошо подготовленный разведчик отлично понимал, что именно желает получить МИ-6. В школе № 101 его обучили технике, позволявшей запоминать большие объемы информации. А память у него была феноменальная.
Отношения между агентом и куратором понемногу улучшались. Они просиживали часами по разные стороны большого журнального стола. Гордиевский пил крепкий чай и изредка просил пива. Хокинс ничего не пил. На посторонние темы они практически не говорили. Гордиевскому трудно было проникнуться симпатией к этому застегнутому на все пуговицы шотландцу «с аскетической внешностью пресвитерианского священника», но уважения он безусловно заслуживал. «Он не был легок в общении, не был склонен к шуткам, его отличала исключительная преданность своему делу. Он тщательно готовился к встречам со мной, задавал конкретные, заранее продуманные вопросы и записывал ответы на них». Британский куратор часто приходил с готовым списком вопросов, которые русский запоминал, чтобы попытаться найти на них ответы к следующей встрече. Однажды Хокинс попросил Гордиевского посмотреть один из его отчетов — обстоятельную докладную записку на немецком языке, излагавшую устройство описанной Олегом нелегальной сети. Русский был впечатлен: похоже, Хокинс оказался виртуозом стенографирования по-немецки, ведь тут не была пропущена ни одна деталь! И лишь позднее до него дошло: скорее всего, МИ-6 просто прослушивает квартиру. Олег решил не устраивать скандал из-за нарушенного условия, потому что подумал, что на месте Хокинса, пожалуй, и сам поступил бы точно так же.
«Мне сделалось полегче, — писал Гордиевский. — Моя новая роль придавала смысл моему существованию». А роль эта, по его мнению, состояла ни больше ни меньше как в подрыве советского строя, в манихейской борьбе между добром и злом, которая приведет в конце концов к утверждению демократии в России и позволит русским жить свободно, читать все, что они захотят, и слушать Баха. В рамках своей основной работы в КГБ Гордиевский продолжал устанавливать новые контакты с датчанами, составлять статьи для местных просоветских журналистов и в целом обслуживать фрагментарную систему сбора разведданных, созданную копенгагенской резидентурой. Чем энергичнее он работал, тем больше мог рассчитывать на повышение, а значит, и на больший доступ к важной информации. Складывалась странная ситуация: он старался продемонстрировать свою лояльность КГБ, не вредя при этом датским интересам; одной рукой завязывал шпионские связи, а другой рукой распускал их, докладывая Хокинсу о каждом предпринятом шаге; смотрел в оба и держал ухо востро, чтобы не пропустить ни одного ценного сообщения или слуха, но при этом избегал проявлять излишнее любопытство.
Елена ни сном ни духом не ведала о том, чем занялся ее муж. «Шпион вынужден обманывать даже самых родных и близких людей», — писал позднее Гордиевский. Впрочем, Елена давно уже не была ему ни родной, ни близкой. Он не сомневался: случись жене узнать правду, она, как преданный сотрудник КГБ, обязательно сдаст его. Гордиевский прекрасно знал, как поступает КГБ с изменниками. В обход датских и международных законов его схватят оперативники отдела специальных операций, накачают наркотиками, обмотают бинтами, чтобы никто не опознал его, уложат на больничные носилки и в таком виде погрузят в самолет до Москвы, где допросят, подвергнут пыткам и затем убьют. В СССР для обозначения смертной казни использовался эвфемизм — «высшая мера наказания». Изменника приводили в специальную комнату, заставляли встать на колени, а потом приканчивали выстрелом в затылок. Иногда, впрочем, КГБ проявлял изобретательность. Ходили слухи, будто Пеньковского кремировали заживо и его казнь засняли на пленку, чтобы показывать в качестве устрашения потенциальным отступникам.
Невзирая на бремя двойной жизни и на опасности, которые она влекла за собой, Гордиевский был доволен: он в одиночку боролся против советского гнета. А потом он еще и влюбился.
Лейла Алиева работала машинисткой в бюро Всемирной организации здравоохранения в Копенгагене. Лейла была полукровка (мать русская, отец азербайджанец), высокая и стройная, с яркой внешностью, с копной темных волос, глубоко посаженными глазами и длинными ресницами. В отличие от Елены, она была застенчивой и несветской, но когда переставала стесняться, смеялась громко и заразительно. Ей нравилось петь. Как и Олег, Лейла родилась в кагэбэшной семье: ее отец, Али, дослужился до звания генерал-майора в рядах КГБ Азербайджанской ССР, а выйдя в отставку, перебрался в Москву. Лейла воспитывалась в строгих мусульманских традициях и детство провела почти в изоляции. Ее немногочисленных кавалеров родители подвергали строжайшим проверкам. Работать она начала машинисткой в конструкторском бюро, затем занималась журналистикой в комсомольской газете, а потом через Министерство здравоохранения подала заявку на секретарское место при европейском отделении ВОЗ. Как и всех советских граждан, желавших работать на какую-либо иностранную организацию за рубежом, Лейлу самым тщательным образом проверили на идейную надежность и лишь потом разрешили ей поехать в Копенгаген. Ей было двадцать восемь лет, она была на одиннадцать лет младше Олега. Вскоре после приезда в Данию Лейлу пригласили на прием, который устраивала жена посла, и та поинтересовалась, чем Лейла занималась в Москве.
— Я была журналисткой, — ответила девушка. — И мне хотелось бы написать что-нибудь о Дании.
— Тогда нужно познакомить вас с пресс-атташе в посольстве, товарищем Гордиевским.
Так Олег Гордиевский и Лейла Алиева принялись сообща работать над статьей для комсомольского журнала, посвященной трущобному району Копенгагена. Статью эту потом так и не напечатали. Но очень скоро их сотрудничество переросло в нечто иное. «Общительная, умная, обаятельная, со своеобразной внешностью, она отличалась к тому же и прирожденным остроумием, и страстным желанием нравиться окружающим. Я влюбился в нее с первого взгляда, и наша любовь, вспыхнув, словно молния, озарила нашу жизнь». Освободившись от неусыпного родительского надзора, Лейла самозабвенно закрутила роман с женатым мужчиной.
«Поначалу он казался мне таким серым, — вспоминала Лейла. — Повстречав его на улице, вы бы его просто не заметили. Но когда мы начали разговаривать, я была поражена. Он столько всего знал! Он оказался таким интересным человеком, с прекрасным чувством юмора. Потихоньку я в него влюбилась».
Природная незлобивость и мягкая простота Лейлы — после спесивой склочности Елены — стали для Гордиевского настоящим бальзамом на душу. Сам он привык все просчитывать в человеческих отношениях, постоянно оценивал и собственные, и чужие поступки и слова. Лейла же была простодушна, отзывчива и раскованна: Олег впервые в жизни почувствовал, что его обожают. Гордиевский принялся знакомить свою молодую возлюбленную с новыми для нее произведениями литературы, раскрывавшими мир идей и вещей, запрещенных в СССР. По его настоянию она прочла «Архипелаг ГУЛАГ» и «В круге первом» Александра Солженицына, где описывались мрачные зверства сталинизма. «Он давал мне книги из своей библиотеки. Я приняла его близко к сердцу, этот водопад правды. Он просветил меня». Лейла с самого начала поняла — без чьих-либо подсказок, — что Гордиевский служит в КГБ. Однако мысль о том, что интерес к подобным книгам может указывать на скрытое диссидентство, никогда не приходила ей в голову. На тайных свиданиях они строили грандиозные планы. Они решили, что обязательно заведут детей. В КГБ с неодобрением относились к супружеским изменам сотрудников, а к разводам и того хуже. «Мы встречались в глубочайшей тайне. Любое фото, которое свидетельствовало бы о связи на стороне, могли использовать против него, и тогда последовало бы очень серьезное наказание. Его могли выслать из страны в 24 часа». Им нужно было набраться терпения. Впрочем, Олегу было не привыкать к медленным и тайным ухаживаниям.
Гордиевский не покладая рук трудился на обеих своих работах. Еще он много играл в бадминтон. Лейла снимала квартиру вместе с другими двумя девушками, а Елена часто бывала дома, так что уединяться им с Лейлой приходилось крайне редко и с соблюдением множества секретных предосторожностей. Но здесь обман (с сопутствующей ему тревогой) возводился уже на новую ступень: Гордиевский изменял Елене вдвойне — на профессиональном и на личном уровнях. Разоблачение на любом из них грозило катастрофой. Маскировать следы двойной измены приходилось тщательно и осторожно. Раз в несколько дней он посылал Лейле шифрованное сообщение — и (каждый раз в разных копенгагенских гостиницах) изменял жене. Раз в месяц он отправлялся в ничем не примечательную квартиру в скучном датском пригороде — и там изменял родине. За год он выработал систему уверток, усыплявших бдительность советской разведки и подозрительность жены. Его тайные связи — и с Лейлой, и с МИ-6 — становились все глубже. Олег чувствовал себя в безопасности. Только здесь он ошибался.
Однажды зимним утром молодой сотрудник датской разведки спешил домой, к себе в Баллеруп, как вдруг он заметил припаркованную машину с дипломатическими номерами. Этот тихий переулок находился очень далеко от любых дипломатических анклавов, и молодого человека — хорошо подготовленного, востроглазого и чрезвычайно бдительного, — разобрало любопытство. Он подошел поближе, пригляделся и понял, что этот автомобиль принадлежит советскому посольству. Интересно, что понадобилось советскому дипломату в этом сонном пригороде в выходной день, в семь вечера?
Недавно выпал снег, и от машины в сторону вели свежие отпечатки ног. Сотрудник ПЕТ прошел по следам неизвестного около 2оо метров и подошел к подъезду многоэтажного жилого дома. Оттуда как раз выходила датская супружеская пара — и они любезно придержали за собой входную дверь. Мокрые следы вели по мраморному полу к лестнице. Они привели любопытного молодого человека к двери квартиры на втором этаже. Изнутри доносились негромкие звуки беседы. Разговор велся на каком-то иностранном языке. Следопыт записал адрес и номер машины.
На следующее утро на стол Йорна Бруна, главы датской разведслужбы, легло донесение: советский дипломат, подозреваемый в принадлежности к КГБ, посещал квартиру в Баллерупе, где удалось подслушать, что он разговаривал на неопознанном языке, возможно немецком, с неизвестным лицом (или лицами). «Это дает повод для подозрений, — заключал автор донесения. — Мы должны что-то предпринять».
Но прежде чем механизм датской слежки оказался бы приведен в действие, Йорн Брун вырубил мотор. Неуместный рапорт был изъят из дела. Излишне рьяного молодого сотрудника похвалили за проницательность, а затем «отфутболили», отделавшись невнятным объяснением, почему брать обнаруженный след не имеет смысла. Не в первый раз случалось, что служба безопасности своим чрезмерным усердием едва не загубила секретную операцию, о которой ей знать не полагалось.
Гордиевский был потрясен, когда узнал о том, как близок он был к провалу. «Эта промашка стала для нас сильным ударом, и ее последствия ощущались еще долго». с тех пор он ездил в Баллеруп только на подземке.
Его отказ называть чьи-либо имена через несколько месяцев ослаб и утратил силу. Нельзя сказать, что этих имен было так уж много. Сеть советских агентов и осведомителей в Дании была, как он и сообщил, до жалости мала. Был Герт Петерсен, охочий до выпивки политик, был тучный полицейский в датском департаменте иммиграции, изредка поставлявший кое-какие сведения, и было несколько нелегалов, внедренных в разных уголках страны, — те просто ждали начала Третьей мировой войны. По словам Олега, сотрудники КГБ в Дании гораздо чаще сочиняли что-то про свои контакты, чтобы оправдать регулярное расходование выдаваемых им денег, чем действительно с кем-то встречались. Эта обнадеживающая информация была передана ПЕТ. Датчане проявляли осмотрительность, не трогая тех немногочисленных шпионов, на которых указал Гордиевский, поскольку их арест сразу же дал бы понять, что внутри КГБ окопался осведомитель. В ПЕТ избрали другую тактику: пристально наблюдать за горсткой датских агентов КГБ и выжидать.
Если в Дании у КГБ практически не было шпионов, достойных этого звания, то этого никак нельзя было сказать о соседних скандинавских странах.
Гунвор Галтунг Хаавик[13] была неприметной сотрудницей Министерства иностранных дел Норвегии. Бывшая медсестра, она работала теперь секретарем и переводчиком и уже готовилась выходить на пенсию. Это была миниатюрная, довольно застенчивая женщина с мягким характером. Кроме того, она была ветераном разведки — шпионкой с почти тридцатилетним стажем, тайно получившей советский орден Дружбы за «особые заслуги в укреплении взаимопонимания между народами». В каком-то смысле она действительно поспособствовала укреплению взаимопонимания, передав в распоряжение КГБ несколько тысяч секретных документов.
Случай Хаавик — классическая история манипуляций, к каким обычно прибегал КГБ. В самом конце войны, когда Норвегия все еще находилась под немецкой оккупацией, Гунвор работала в военном госпитале в Будё. Там она влюбилась в русского военнопленного Владимира Козлова. Тот «позабыл» сказать ей, что уже женат и в Москве у него есть семья. Она помогла ему бежать в Швецию. После войны, поскольку Гунвор свободно говорила по-русски, ее взяли в Министерство иностранных дел Норвегии и послали в Москву секретарем посла. Там ее роман с Козловым возобновился. Об этой любовной связи прознал КГБ — и предоставил любовникам квартиру для свиданий. Затем кагэбэшники принялись угрожать Гунвор, что если она не пойдет на сотрудничество, о ее шашнях доложат норвежцам, а Козлова сошлют в Сибирь. В течение восьми лет Хаавик передала КГБ множество совершенно секретных материалов и продолжила делать это уже после того, как ее перевели в Осло, снова в министерство. Норвегия, северный фланг НАТО, имела с СССР сухопутную границу длиной около 200 километров и считалась в КГБ «ключом к северу». Здесь холодная война велась с арктической лютостью. Хаавик, получившая кодовое имя Грета, встречалась с восемью разными кураторами из КГБ не менее двухсот семидесяти раз. Она продолжала получать деньги от Москвы и письма от Козлова (или, вполне возможно, от какого-то кагэбэшника, писавшего от имени ее русского любовника). Излишне доверчивая одинокая женщина с поломанной судьбой, согласившаяся сотрудничать с КГБ под давлением и из страха, Хаавик даже не была коммунисткой.
Если Хаавик была серой мышкой, то Арне Трехолт, напротив, был личностью яркой и заметной. Сын известного норвежского министра, видный журналист и член имевшей большую силу Рабочей партии Норвегии, он был колоритным, привлекательным персонажем и открыто высказывал свои левые взгляды. Дела у Трехолта быстро шли в гору. Он навел еще больший глянец на свой статус знаменитости, женившись на норвежской телезвезде Кари Сторакре. В New York Times его называли «одним из представителей золотой молодежи в норвежской общественной жизни». Его прочили в премьер-министры.
Но в 1967 году его резкие выступления против Вьетнамской войны привлекали внимание КГБ. К нему подослали Евгения Беляева — сотрудника разведки, для прикрытия работавшего в советском посольстве. Позднее Трехолт заявил полиции, будто его завербовали путем «сексуального шантажа» после оргии в Осло (впоследствии он отказался от своих слов). Беляев убедил Трехолта принимать денежное вознаграждение в обмен на информацию, а в 1971 году в ресторане «Кок д'Ор»[14] в Хельсинки он познакомил его с Геннадием Федоровичем Титовым, новым резидентом КГБ в Осло. Благодаря своей беспощадности Титов заслужил прозвище Крокодил, хотя из-за больших очков в круглой праве и походки вразвалку он куда больше походил на какую-то очень злую сову. За Титовым закрепилась «репутация самого отъявленного льстеца во всем Первом главном управлении». Трехолт был падок на лесть. А еще — на бесплатные обеды. В течение следующих десяти лет они с Титовым отобедали вместе — за счет КГБ — пятьдесят девять раз. «Мы на славу обедали, — вспоминал Трехолт много лет спустя, — и за едой беседовали о норвежской и международной политике».
Норвегия оставалась вне сферы компетенции Гордиевского, но в представлениях КГБ все скандинавские страны смешивались в одну кучу, и каждая из резидентур, находившихся в этих странах, в некоторой степени знала о деятельности соседей. В 1974 году в Данию прибыл новый сотрудник КГБ, Вадим Черный, до этого работавший в Москве в британо-скандинавском отделе ПГУ. Черный был посредственным разведчиком и к тому же заядлым сплетником. Однажды он случайно обмолвился, что КГБ пасет в норвежской дипломатической службе одну осведомительницу по прозвищу Грета. А несколько недель спустя он упомянул о том, что КГБ завербовал нового, «еще более важного» агента внутри правительства Норвегии — «человека с журналистским прошлым».
Гордиевский передал эту информацию Хокинсу, а тот — дальше, в МИ-6 и ПЕТ.
Две эти чрезвычайно ценные подсказки поступили в распоряжение норвежской контрразведки. Источник был тщательно закамуфлирован: Норвегии сообщили, что донесение достоверно, но утаили, от кого и откуда оно поступило. «К этой информации Олег не получал доступа при исполнении обязанностей, она попала к нему чисто случайно, и мы решили, что к нему напрямую не должны вести никакие следы». Норвежцы были очень благодарны — и страшно перепуганы. Гунвор Хаавик, скромная сотрудница Министерства иностранных дел, с некоторых пор уже находилась под подозрением. Предупреждение Гордиевского стало важным подкреплением этих подозрений. Молодой и знаменитый Арне Трехолт тоже засветился — после того, как его заметили в обществе известного кагэбэшника-оперативника. Теперь за обоими начали вести пристальное наблюдение.
Норвежская ниточка иллюстрировала главную загвоздку в деле Гордиевского — и одну из важнейших трудностей в шпионском деле вообще: как воспользоваться полученными ценными разведданными и в то же время не навредить раздобывшему их источнику. Агент, глубоко внедренный во вражеский лагерь, может сорвать маски со шпионов в вашем собственном лагере. Но если вы арестуете и нейтрализуете их всех, то подадите четкий сигнал противнику о том, что в его лагере находится шпион, и поставите под удар своего агента. Как британская разведка могла воспользоваться теми данными, что передал ей Гордиевский, и не спалить его самого?
С самого начала в МИ-6 приготовились играть вдолгую. Гордиевский был еще довольно молод. Информацию он предоставлял превосходную, а со временем, по мере его повышения по службе, она могла стать еще ценнее. Излишняя спешка или жадность до сведений могли провалить все дело и погубить самого Гордиевского. Поэтому важнее всего была безопасность. Катастрофа с Филби заставила британцев понять, какую опасность представляет предательство изнутри. Малочисленной группе сотрудников МИ-6, введенных в курс дела, сообщили лишь то, что им полагалось знать. Внутри ПЕТ о существовании Гордиевского знало еще меньше людей. Информация, которую он поставлял, передавалась союзникам чрезвычайно осторожно, через особых посредников (их называли «предохранителями»), разрозненными крупицами и в таком виде, чтобы можно было поверить, будто они поступили совсем из другого источника. Гордиевский выдавал секреты легко и быстро, но в МИ-6 долго и тщательно трудились над тем, чтобы отпечатки его пальцев не проступали нигде.
ЦРУ о Санбиме не информировали. Так называемые особые отношения были особенно крепкими в сфере разведки, однако и там применялся — с обеих сторон — принцип «служебной необходимости», иначе говоря, принцип ограниченного доступа. В МИ-6 сошлись на том, что ЦРУ совершенно не обязательно знать, что у Британии появился ценный шпион в недрах КГБ.
Разведывательным службам нежелательно держать своих сотрудников на одном месте бесконечно долго, чтобы они не слишком там пригревались; исходя из этой же логики, сотрудников, курировавших агентов, тоже периодически меняли, чтобы они не утрачивали объективность и не погружались с головой в одно дело, не привязывались к одному шпиону.
В соответствии с этим принципом резидента КГБ в Копенгагене Могилевчика, когда пришло время, заменили старым другом Гордиевского Михаилом Любимовым — добродушным англофилом, питавшим слабость к шотландскому виски и добротным твидовым костюмам. Дружба между давними приятелями немедленно возобновилась. Любимов состоял теперь во втором браке. Распад первого вызвал небольшую заминку в его карьере, но теперь он снова поднимался по служебной лестнице. Гордиевский восхищался этим «доброжелательным, спокойным человеком», его практичным и в то же время ироничным отношением ко всему на свете. Они проводили вместе целые вечера, разговаривали и выпивали, рассуждали о литературе, искусстве, музыке и шпионаже.
Любимов видел, что его друг и протеже далеко пойдет. Начальство ценило Гордиевского как «грамотного и эрудированного» сотрудника, с работой он справлялся прекрасно. Олег «вел себя безупречно, — писал потом Любимов, — не влезал ни в какие интриги, был подчеркнуто вежлив и исполнителен, готов тут же… рвануться исполнять святой приказ резидента. К тому же еще скромен, как истинный коммунист: собирался повысить его по должности — он только руками замахал. К Гордиевскому многие относились отрицательно. однако эти оценки плавали в виде туманных облаков: „высокомерный“, „считает себя слишком умным“, „себе на уме“. Я этих ужасных пороков в нем не замечал, да и пороки ли это? Разве большинство людей не считают себя умными? Или у всех души нараспашку?» Лишь позже, задним числом, он припоминал кое-какие предательские детали. Гордиевский почти перестал посещать дипломатические приемы, и, если не считать самого Любимова, он редко общался с другими сотрудниками КГБ. Он окружил себя диссидентской литературой. «У него дома стояли книги некоторых авторов, запрещенных в нашей стране, и я, как старший коллега, советовал ему не держать их на виду». Обе супружеские пары часто ужинали вместе, и Гордиевский обычно рассказывал анекдоты, налегал на выпивку и всячески создавал видимость своей счастливой семейной жизни. И как-то раз Елена обронила замечание, которое засело в памяти у Любимова. «Он совсем не открытый человек, не думайте, что он искренен с вами!» — сказала она. Но Любимов знал, что брак Гордиевского под угрозой распада, и потому не придал значения этим словам.
Однажды вечером в январе 1977 года Гордиевский пришел, как обычно, на явочную квартиру и обнаружил, что Филип Хокинс ждет его не один: с ним был еще один человек — помладше и в очках. Филип представил его — Ник Венаблз — и объяснил, что его самого в скором времени переведут на другую должность в другую страну, а этот человек сменит его.
Новым куратором был Джеффри Гаскотт — тот самый честолюбец, который семью годами ранее изучил папку с делом Каплана и поставил метку напротив имени Гордиевского, увидев в нем потенциальную мишень. Гаскотт состоял референтом при Хокинсе и потому был знаком с делом Гордиевского во всех подробностях. Но теперь он нервничал. «Мне казалось, я знаю достаточно, чтобы вести это дело, но все-таки я был еще молод. Начальство сказало мне: „Ты справишься“. А я сам не был в этом уверен».
Гордиевский и Гаскотт сразу же понравились друг другу. Англичанин свободно говорил по-русски, и с самого начала они выбрали неофициальную форму обращения. Оба были бегунами на длинные дистанции. Но этим дело не ограничивалось. Будучи полной противоположностью Хокинса, Гаскотт, по-видимому, ценил Олега не просто как источник информации, а еще и как личность. Этот англичанин «обладал удивительным даром заряжать своей неуемной энергией всех попавших в его поле зрения. Неизменно веселый и доброжелательный, он всякий раз, допуская какую-нибудь оплошность, искренне каялся». Гаскотт оказался для Олега родственной душой и посвящал теперь все свое время его делу, действуя в глубочайшей тайне. О том, чем именно он занят, в МИ-6 знали только его секретарша и непосредственные начальники. Дело Санбима поднялось на новую ступень.
В МИ-6 предложили обеспечить Гордиевского миниатюрным фотоаппаратом, чтобы он мог снимать документы, хранившиеся в резидентуре, а затем передавать куратору непроявленную пленку. Олег отклонил это предложение. Слишком уж высок был риск быть пойманным: «один случайный взгляд в полуоткрытую дверь, и всему конец». Уже само обладание мини-фотоаппаратом британского производства явилось бы красноречивым доказательством преступных замыслов. Но был и другой выход: тайком выносить документы из резидентуры.
Сообщения и инструкции прибывали из Москвы в виде длинных катушек микропленки. Курьеры доставляли их в мешках дипломатической почты, которая, согласно международным законам, использовалась для безопасной передачи информации в посольства и из посольств без вмешательства принимающей страны. Затем резидент — а чаще шифровальщики — нарезали пленку на части и распределяли по соответствующим отделам, или линиям: это были линии нелегалов «Н», политической разведки «ПР», контрразведки «КР», хозяйственная «Х» и так далее. На каждом отрезке пленки могло помещаться около десятка писем, докладных записок и иных документов. Если бы Гордиевскому удалось тайком выносить эти кусочки микропленки из здания посольства в обеденный перерыв, он мог бы передавать их Гаскотту, а тот снимал бы с них копии и потом возвращал бы оригиналы. Весь процесс занимал бы менее получаса.
Гаскотт обратился с запросом в технический отдел МИ-6 в Хэнслоп-парке — загородной усадьбе в графстве Бакингемшир, расположенной посреди обширного парка и обнесенной кордоном безопасности с колючей проволокой и караульными постами. Хэнслоп был (и продолжает оставаться) одним из самых замкнутых и тщательно охраняемых опорных пунктов британской разведки. В годы войны хэнслопские изобретатели разработали поразительное множество технических штуковин для шпионов, включая секретные радиоприемники, чернила для тайнописи и даже шоколад со вкусом чеснока. Такой шоколад выдавали шпионам, выбрасывавшимся с парашютом в оккупированную Францию, чтобы по приземлении от них пахло чесноком — а значит, никто бы не усомнился в их принадлежности к французской нации. Если бы гений технической изобретательности Q, персонаж книг и фильмов о Джеймсе Бонде, действительно существовал, то он непременно работал бы в Хэнслоп-парке.
Вещь, о которой просил Гаскотт, была одновременно простой и мудреной: ему нужно было маленькое переносное устройство, которое могло бы снимать копии с полосок микропленки, причем незаметно и быстро.
Копенгагенская площадь Святой Анны, обсаженная деревьями, находится в центре города, недалеко от королевского дворца. В обеденное время, особенно в погожие дни, там толчется много народу. Однажды весной 1977 года один хорошо сложенный мужчина в деловом костюме вошел в телефонную будку в конце сквера. Пока он набирал номер, рядом остановился турист с рюкзаком и спросил у него дорогу, а потом пошел дальше. В этот самый момент Гордиевский незаметно опустил катушку пленки в карман пиджака Гаскотта. Йорн Брун позаботился о том, чтобы поблизости не было группы наружного наблюдения из ПЕТ. Зато неподалеку на скамейке со скучающим видом сидел младший сотрудник МИ-6.
Гаскотт ринулся в ближайшую явочную квартиру ПЕТ, заперся наверху, в спальне, и вынул из рюкзака шелковые перчатки и небольшую плоскую коробочку размером примерно с карманный блокнот (15 на 8 сантиметров). Потом задернул шторы, выключил свет, размотал пленку, вставил ее одним концом в таинственную коробочку и протащил через нее.
«Это была довольно хлопотная процедура — возиться вот так в темноте. Я всегда помнил: не уложусь в четко отведенное время — значит, все придется прекратить. А уж если поврежу пленку, тогда совсем беда».
Ровно через тридцать пять минут после первой «моментальной передачи» шпион и куратор встречались второй раз, уже в другом конце сквера, где их не видел никто, кроме хорошо обученного сотрудника надзора, — и катушка пленки снова оказывалась в кармане у Гордиевского.
Ручеек документов, утекавших из резидентуры КГБ и попадавших в руки МИ-6, перерос в бурный поток: поначалу это были только инструкции для линии «ПР» из московского Центра, получателем которых являлся сам Гордиевский, но затем мало-помалу к ним стали присоединяться полоски пленки, адресованные другим сотрудникам, поскольку на время обеденного перерыва те часто оставляли их у себя на столах или в портфелях.
Выгоды были велики, но и риски — не меньше. Всякий раз, тайком вынося выкраденные материалы, Гордиевский отдавал себе отчет в том, что играет со смертью. Ведь кто-то из коллег мог бы вернуться с обеда раньше времени и обнаружить, что его пленки куда-то пропали, или застукать Гордиевского, когда тот умыкал материалы, не предназначенные для него. Если же обнаружилось бы, что он вынес пленку за пределы посольства, то все, конец. Каждая моментальная передача, как с многозначительной сдержанностью отмечал Гаскотт, сопровождалась «сильными эмоциями».
Гордиевский испытывал жуткий страх, но не терял решимости. После каждого контакта его охватывала дрожь, какая нападает на азартного игрока после удавшегося маневра, и все же он задумывался: а не отвернется ли от него удача? Даже в холодные дни он возвращался в резидентуру весь в липком поту от страха и возбуждения и надеялся, что коллеги не заметят, как дрожат у него руки. Места для встреч выбирались в намеренно произвольном порядке: то парк, то больница, то уборная при гостинице, то вокзал. Гаскотт парковал машину неподалеку — на тот случай, если снимать копию придется прямо в автомобиле (для этого у него имелся особый мешок из светонепроницаемой ткани).
Несмотря на все предосторожности, иногда все же возникали непредвиденные помехи. Однажды Гаскотт договорился о встрече на железнодорожной станции на севере города. Он уселся у окна в пристанционном буфете и пил кофе в ожидании Гордиевского, который должен был вскоре появиться и оставить катушку пленки под полочкой в ближайшей телефонной будке. Русский появился в условленное время, оставил передачу и ушел. Но не успел Гаскотт дойти до будки, как его опередил какой-то человек и принялся куда-то названивать и разговаривать. Разговаривал он долго. Минуты проходили одна за другой, а человек все болтал, словно забыв обо всем на свете, и бросал в щель автомата монету за монетой. Времени на то, чтобы забрать, переснять и вернуть пленку (положив в другое условленное место), было всего тридцать минут, и они таяли на глазах. Гаскотт ходил взад-вперед около телефонной будки, переминался с ноги на ногу, всем своим видом изображая (совершенно искренне) крайнее нетерпение. Но человек в будке не обращал на него ни малейшего внимания. Гаскотт уже готов был вломиться в будку и выхватить пленку — и тут-то болтун наконец повесил трубку. Гаскотт успел домчаться до второго условленного места и положить так и не переснятую пленку — в его распоряжении оставалось меньше минуты.
Гордиевский, будучи заместителем и наперсником Любимова, имел доступ ко многим микропленкам, и «объем утечек возрастал». Десятки, а потом и сотни документов выносились и копировались, раскрывалось множество подробностей — кодовые имена, операции, директивы и даже «годовой отчет о деятельности советского посольства в Дании объемом в целых сто пятьдесят страниц». Полученная информация старательно переправлялась в Лондон в хорошо замаскированном виде, а там поэтапно дробилась и распределялась: что-то попадало в МИ-у, если касалось внутренней безопасности Британии, а кое-какие материалы, если их находили достаточно важными, — в Министерство иностранных дел. Из союзников Британии прямые разведданные, раздобытые Санбимом, получали только датчане. Некоторые материалы — в частности, относившиеся к советскому шпионажу в Арктике, — показывались министру иностранных дел Дэвиду Оуэну и премьер-министру Джеймсу Каллагэну. Об источнике секретных данных не сообщалось никому.
Гаскотт стал прилетать в Данию чаще и задерживаться там дольше. Иногда он оставался на явочной квартире в Баллерупе по три дня подряд. Шпионы производили обмен пленками в пятницу в обеденное время, затем встречались в Баллерупе в субботу вечером, а потом и следующим утром. Из-за тайных свиданий с Лейлой и шпионских свиданий с Гаскоттом Гордиевский все больше и больше времени проводил вне дома. Елене он говорил, что занят секретной работой в КГБ, о которой ей знать не положено. Верила она таким объяснениям или нет, трудно сказать.
Условия сотрудничества, изначально выдвинутые Гордиевским, постепенно размылись, а потом и вовсе испарились. Русский уже понял, что разговоры с ним записываются. Он сам отступился от прежнего своего отказа называть чьи-либо имена — и сдал всех сотрудников КГБ, нелегалов и осведомителей. Наконец, он согласился принимать деньги. Гаскотт сообщил ему, что «время от времени» ему на счет в одном лондонском банке будут поступать некоторые суммы в фунтах стерлингов — и на случай непредвиденных обстоятельств, и в качестве ощутимой благодарности Британии за его услуги, и в подтверждение негласной договоренности о том, что когда-нибудь при желании он сможет перейти на сторону Великобритании. Гордиевский понимал, что, возможно, никогда не сможет воспользоваться своими шпионскими заработками, но оценил по достоинству этот жест и согласился принять деньги.
Сам Гордиевский был ценнее любых денег, и потому британцы нашли и другой, в высшей степени символичный способ продемонстрировать, что сознают это: в личном письме ему выразил благодарность сам глава МИ-6.
Морис Олдфилд, самый главный шпион Британии, подписывался буквой «К», причем зелеными чернилами. Первым такую привычку завел основатель МИ-6 Мэнсфилд Камминг, который подсмотрел этот способ в Королевском флоте, где капитаны кораблей почти всегда пишут зелеными чернилами. с тех пор это обыкновение сделалась традицией для всех руководителей МИ-6. Письмо со словами благодарности и поздравлениями от Олдфилда Гордиевскому Гаскотт отпечатал на машинке по-английски, на толстой кремовой почтовой бумаге, а глава секретной службы поставил свою подпись с зеленым росчерком. Затем Гаскотт перевел текст письма на русский и на следующей встрече с Гордиевским вручил ему и оригинал, и перевод. Когда Гордиевский прочел похвалы в свой адрес, лицо его разрумянилось. Перед расставанием Гаскотт снова забрал у Олега письмо: конечно, личное письмо с зеленой подписью от самого шефа британской разведки стало бы не просто опасным сувениром, а практически смертным приговором его адресату. «Таким способом мы заверили Олега в том, что очень ценим его, и придали делу официальный оборот. Между ним и шефом разведки была установлена личная связь, мы дали Олегу понять, что он имеет дело с самой организацией. Все это немного успокоило его, доказало зрелость наших отношений». На следующую встречу Гордиевский принес свой ответ Олдфилду. Переписка между Санбимом и «К» хранится в архивах МИ-6 как доказательство того, что порой успех шпионажа зависит от личных контактов.
Письмо Гордиевского излагало его кредо.
Я подчеркиваю, что мое решение не явилось результатом безответственности или шаткости моего характера. Ему предшествовали долгая душевная борьба и нравственные терзания. Еще более глубокая разочарованность в том, что совершалось в моей стране, и мой личный опыт укрепили во мне убеждение, что демократия и сопутствующая ей терпимость к человеку являются единственным путем развития для моей страны — европейской, несмотря ни на что. На Западе даже не представляют себе, до какой степени нынешний советской режим противен демократии. Человек, сознающий это, должен выказать твердость своих убеждений, должен сам что-то сделать, чтобы не дать рабству расползтись еще шире, захватывая территорию свободы.
Гунвор Хаавик договорилась о встрече со своим куратором из КГБ Александром Принципаловым на вечер 27 января 1977 года. Когда она пришла на условленное место, русский уже ждал ее на темной стороне улицы на окраине Осло. Ждали неподалеку и трое сотрудников норвежской службы безопасности. А потом выскочили из укрытия. После «ожесточенной борьбы» кагэбэшника наконец удалось скрутить. У него в кармане нашли 2000 крон, предназначавшиеся для Греты. Хаавик не оказывала сопротивления. Вначале она признавалась только в том, что у нее был роман с русским по фамилии Козлов, но в итоге сломилась: «Я вам все расскажу. Я шпионила на СССР в течение тридцати лет». Ей предъявили обвинение в шпионаже и измене родине. Через полгода, еще до суда, Хаавик внезапно умерла в тюрьме от сердечного приступа.
В ходе разразившегося дипломатического скандала из Осло выдворили Геннадия Титова, резидента КГБ, и новость о том, что в Норвегии схватили важного советского агента, очень быстро просочилась в резидентуру КГБ в Дании. Тамошние сотрудники лихорадочно принялись выдвигать предположения о причинах случившегося, а одного из них охватил «холодный и колкий» страх. Гордиевский догадывался, что к аресту Хаавик напрямую привела его наводка. Теперь со всеми, кто как-то причастен к этому делу, будут проводиться беседы. Если разговорчивый Черный вдруг припомнит, что несколькими месяцами раньше в своем праздном трепе с Гордиевским обмолвился о Грете, и отважится в этом сознаться, то кагэбэшные охотники на кротов могут взять верный след. Недели шли одна за другой, Гордиевского никто не трогал, и он начал расслабляться, но все же этот случай послужил для него отрезвляющим предупреждением: если переданную им информацию будут пускать в ход с излишней прямотой, это погубит его.
Елену Гордиевскую было трудно обмануть. Она, конечно же, заметила, что с мужем «происходит что-то неладное». Он все чаще где-то пропадал по ночам и в выходные, а свои отлучки объяснял как-то односложно и невразумительно. Елена без чужих подсказок поняла, что муж ей изменяет. Она гневно бросила обвинение ему в лицо — он все отрицал, но неубедительно. Потом она закатила ему «пару безобразных сцен», и громкие крики наверняка были слышны соседям по дому, тоже кагэбэшникам. Затем воцарилась ядовитая тишина: супруги перестали разговаривать друг с другом. Их отношения практически выдохлись, но оба оставались в одной ловушке. Как и Олег, Елена не хотела, чтобы семейные дрязги навредили ее карьере в КГБ, а еще ей не хотелось уезжать из Дании. В случае немедленного развода они ближайшим самолетом отправились бы в Москву. Гордиевские поженились потому, что в КГБ брали семейных людей, и ровно по этой же причине должны были сохранять брак — пускай для видимости. Однако их брак уже трещал по швам.
Однажды Гаскотт спросил Гордиевского, не испытывает ли тот крайнее «нервное напряжение». Значит, это датчане подслушали, что у них дома раздаются крики и разлетается вдребезги посуда, и доложили в МИ-6. Олег заверил своего куратора, что, хоть брак и шатается, его нервная система отнюдь не расшатана. Однако вопрос англичанина послужил для Гордиевского очередным напоминанием о том, что слежка за ним не прекращается — пускай даже со стороны тех, кто был теперь на одной с ним стороне.
Его утешением и прибежищем была Лейла. В сравнении с унылым компромиссом, к какому свелась теперь вся его рассыпавшаяся в прах супружеская жизнь, моменты счастья с Лейлой были тем сладостней, что их приходилось урывать тайком и в спешке, то в одном гостиничном номере, то в другом. «Мы решили сразу же пожениться, как только я оформлю развод», — писал он потом. Угловатая Елена постоянно сердито огрызалась, а гибкая темноволосая Лейла была мягкой, доброй, забавной. Она родилась и выросла в кагэбэшном мире. Ее отца, Али, завербовали в начале 1920-х годов в его родном городе Шеки на северо-западе Азербайджана. Мать, родившаяся в бедной московской семье с семью детьми, тоже работала в КГБ и познакомилась с будущим мужем на подготовительных курсах в Москве, вскоре после окончания войны. Однако Гордиевский не чувствовал, что Лейла наблюдает за ним, оценивает его, — не то что жена. Наивность этой девушки служила противоядием от всех накопившихся сложностей его жизни. Он полюбил ее так, как не любил еще никогда и никого. Но параллельно он впутался в бурный тайный «роман» с МИ-6. Его эмоциональные потребности входили в прямой конфликт с его шпионской деятельностью. Развод и повторный брак грозили погубить не только его карьеру в КГБ, но и перспективу раздобывать новые ценные данные для МИ-6. Любовь часто начинается с излияний неприкрытой правды, со страстного обнажения души. Лейла была молода и бесхитростна и безоговорочно доверилась своему красивому и такому умному любовнику. «Мне никогда не казалось, что я краду его у Елены. Их брак уже был мертв. А я его обожала. Для меня он был кумир. Само совершенство!» Лейла не знала, что он никогда полностью не раскрывается перед ней. «Половина моей жизни и моих мыслей должна быть сокрыта от окружающих плотной завесой». Гордиевский опасался, не помешает ли ему эта двойная жизнь стать полностью счастливым в новом браке: «Удастся ли мне установить с ней близкие, теплые отношения, к которым я так стремился?»
Наконец, он откровенно рассказал Михаилу Любимову о том, что у него роман с молодой секретаршей из Всемирной организации здравоохранения и что он собирается на ней жениться. Его друг и начальник выразил ему сочувствие, однако не стал понапрасну обнадеживать. Любимов по личному опыту знал, какие беды обрушатся на его протеже, как только пуритане из КГБ узнают о перипетиях его личной жизни. Самого Любимова после развода с первой женой понизили в должности и несколько лет не принимали в расчет. «Разведенный Гордиевский был обречен на длительное прозябание в самом затхлом углу просторного ПГУ», — напишет он позднее. Однако резидент обещал замолвить за Олега слово перед начальством.
Гордиевский и Любимов сблизились еще больше. Летом 1977 года они провели выходные вместе на морском побережье Дании. И однажды на пляже Любимов рассказал, как еще в 1960-е годы он, совсем молодой кагэбэшник, обрабатывал в Лондоне разных деятелей левого толка, в том числе члена парламента от партии лейбористов Майкла Фута, в котором Москва видела потенциального агента влияния — человека, восприимчивого к просоветским идеям и способного воспроизводить их в своих статьях и выступлениях. Это имя было незнакомо Гордиевскому.
Любимов, конечно, мог быть «другом на всю жизнь», но это не мешало ему выступать и первосортным источником информации. Все, что Гордиевскому удавалось узнать от него, передавалось в МИ-6, включая документы, адресованные персонально резиденту под кодовым именем Корин. Так что изнанкой этой дружбы тоже было предательство. Позднее Любимов, вспоминая слова Гамлета, обращенные к Розенкранцу и Гильденстерну, замечал, что Гордиевский играл на нем, «как на дудке».
После каждой встречи Гаскотт отчитывался непосредственно перед Олдфилдом. Во время одного из таких докладов куратор рассказал о том, что новый глава британской миссии в Копенгагене «убалтывал» Любимова, а тот реагировал вполне дружелюбно. «Санбим рано или поздно покинет Данию, и нам нужно бы присмотреть ему замену. А кто еще годится на эту роль, как не Любимов? Он ярый англофил, и однажды к нему уже подкатывали. Он вам понравится. К тому же он страшный сноб, и если его попытается обольстить некто высокопоставленный, он наверняка клюнет». Так родилась эта радикальная идея. Морис Олдфилд, глава МИ-6, сам полетит в Копенгаген и попытается лично завербовать резидента КГБ. Директор контрразведки не желал даже слышать об этом: нельзя подвергать «К» такому риску, вовлекая его в активные операции, и к тому же, если что-то пойдет не так, ненужное внимание окажется привлечено к Гордиевскому. «Слава богу, этот план зарезали, — говорил один сотрудник разведки. — Это было чистое безумие».
Гордиевский писал: «Я пребывал в эйфорическом состоянии от сознания того, что более не являюсь человеком нечестным, работающим на тоталитарный режим». Однако новая честность требовала от него эмоционального обмана, неправды в праведном деле, святой лжи. Он выдавал МИ-6 все секретные истины, какие мог обнаружить сам, и попутно лгал коллегам и начальникам, лгал лучшему другу, лгал разлюбленной жене и лгал новой возлюбленной.
Глава 5
Полиэтиленовая сумка и батончик Mars
На Вестминстер-Бридж-роуд в Ламбете, неподалеку от вокзала Ватерлоо, стояло большое и уродливое двадцатидвухэтажное деловое здание из стекла и бетона — Сенчури-хаус. Само здание было абсолютно непримечательное. Мужчины и женщины, входившие туда и выходившие оттуда, внешне ничем не отличались от других служащих, работавших в этом районе. Но любознательный прохожий мог бы заметить, что здесь охранник в вестибюле несколько более мускулист и гораздо более бдителен, чем бывает обычно. Возможно, любознательный прохожий также задался бы вопросом, почему в разное время суток рядом со зданием припарковано так много фургонов с телефонным оборудованием. Еще он мог бы заметить, что у здешних сотрудников явно ненормированный рабочий день, а въезд на подземную парковку ограждают особенно мощные электрифицированные тумбы. Впрочем, чтобы заметить все эти детали, такому любознательному прохожему пришлось бы замешкаться рядом с неприметным зданием, а если бы он там замешкался, его бы задержали.
Сенчури-хаус был штабом МИ-6 и самым секретным зданием во всем Лондоне. Официально его вообще не существовало, как не существовало и МИ-6. Это было место настолько неброское и нарочито заурядное, что новички, устроившиеся туда на работу, поначалу часто решали, что им сообщили неправильный адрес. «Бывало даже, что людей брали сюда на службу, — писал один бывший сотрудник, — и они понимали, куда устроились, только проработав здесь уже неделю или две»[15]. Широкая публика даже не догадывалась о подлинном предназначении этого невзрачного здания, а те немногие чиновники и журналисты, которые знали, что это такое, помалкивали.
Отдел, занимавшийся странами советского блока, занимал целиком двенадцатый этаж. В одном углу сидело бюро P5 — команда, отвечавшая за советские операции и агентов и державшая связь с московской резидентурой МИ-6. В Р5 о деле Гордиевского знали всего пять человек. Одной из них была Вероника Прайс.
В 1978 году Прайс было сорок восемь лет, она была не замужем и всей душой предана службе. Она относилась к тем проворным, практичным женщинам, англичанкам до мозга костей, которые терпеть не могут всякого вздора, особенно когда его мелют мужчины. Дочь адвоката, который получил тяжелое ранение на Первой мировой войне («из него до конца жизни выпадали осколки шрапнели»), она выросла с мощным внутренним стержнем патриотической морали, а от матери, бывшей актрисы, унаследовала тягу к драме. «Я не хотела идти в юристы. Я хотела поездить по миру». В Министерство иностранных дел Веронику не взяли, потому что ей не давалась стенография, и в итоге она устроилась секретаршей в МИ-6. Ей довелось поработать в Польше, Иордании, Ираке и Мексике, однако руководству МИ-6 понадобилось больше двадцати лет, чтобы понять, что знания и навыки Вероники Прайс отнюдь не ограничиваются печатанием на машинке и ведением архивов. В 1972 году она выдержала экзамен и стала одной из первых женщин в штате британской секретной службы. А через пять лет ее назначили заместителем главы Р5. Каждый день она ездила на работу в Сенчури-хаус из Хоум-Каунтиз[16], где жила вместе с овдовевшей матерью, сестрой Джейн, несколькими кошками и большой коллекцией английского костяного фарфора. Прайс любила всегда все делать правильно. Она мыслила чрезвычайно трезво и была, по словам одного коллеги, «совершенно несгибаема». Ей нравилось решать сложные задачи. Весной 1978 года Веронику Прайс ознакомили с делом Гордиевского. В итоге именно ей пришлось ломать голову над задачей, еще ни разу не встававшей перед МИ-6: каким образом тайно вывезти шпиона из СССР?
Несколькими неделями ранее Гордиевский пришел на явочную квартиру очень усталый и озабоченный.
«Ник, мне нужно подумать о своей безопасности. Первые три года я не задумывался об этом, но скоро мне предстоит вернуться в Москву. Вы сможете организовать для меня побег из Советского Союза — на тот случай, если я попаду под подозрение? Если я вернусь туда, то смогу ли как-то выбраться?»
Начали расползаться тревожные слухи: в московском Центре заподозрили, что внутри КГБ орудует шпион. Из этих сплетен невозможно было понять, откуда произошла утечка — из Дании ли, вообще из Скандинавии ли, — но одного намека на внутреннее расследование оказалось достаточно, чтобы Гордиевского охватила противная дрожь страха. А что, если в ряды МИ-6 просочился советский лазутчик? Быть может, в британской разведке окопался новый Филби, готовый в любой момент разоблачить Гордиевского? К тому же не было никакой гарантии, что Гордиевского еще когда-либо пошлют за границу, особенно если он разведется, — и тогда, вернувшись в СССР, он навсегда останется в ловушке. Гордиевский хотел узнать, не существует ли какого-нибудь способа сбежать, если в этом возникнет необходимость.
Тайно переправить русского шпиона из Дании было бы легче легкого: от него требовалось только позвонить по имевшемуся у него экстренному номеру, переночевать на одной из явочных квартир, а потом ему выдали бы фальшивый паспорт и билет до Лондона. Но устроить побег из Москвы, да еще в случае, если бы Годиевского расколол КГБ? Это была уже задача повышенной трудности — возможно, вовсе не имевшая решения.
Гаскотт дал отрезвляющий ответ:
— Мы не можем ничего обещать и не можем дать стопроцентную гарантию, что побег удастся.
Гордиевский понимал, что вероятность успеха обычно бывает гораздо ниже ста процентов.
— Конечно, — ответил он. — Это абсолютно ясно. Просто на всякий случай предоставьте мне такую возможность.
Советский Союз представлял собой, по сути, огромную тюрьму, где за строго охранявшимися границами содержались в заключении более 280 миллионов человек, а роль надзирателей исполняли сотрудники и осведомители КГБ численностью более миллиона. Население страны находилось под неусыпным контролем, и ни за одним сегментом общества не велось более пристальное наблюдение, чем за самим же КГБ: за внутренний надзор отвечало Седьмое управление, и в одной только Москве действовало около 1,5 тысяч его оперативников. При Леониде Брежневе, придерживавшемся несгибаемого курса на коммунизм, идеологическая паранойя обострилась настолько, что едва не вернулась к сталинскому уровню. Возникло шпионское государство в государстве, стравливавшее всех со всеми: телефоны прослушивались, письма вскрывались, граждан побуждали доносить друг на друга — повсюду и всегда. Советское вторжение в Афганистан и последовавший за ним всплеск международной напряженности привели к усилению внутренних проверок в КГБ. «Ночью — страх, а днем — лихорадочные потуги разыграть восторг перед вездесущей системой лжи: в этих двух состояниях постоянно пребывал каждый советский гражданин»[17], — пишет Роберт Конквест.
Внедрение, вербовка и поддержание контактов со шпионами на территории Советского Союза было делом чрезвычайно хлопотным. Немногочисленные агенты, набранные на службу на месте или заброшенные туда через «железный занавес», как правило, исчезали без каких-либо предупреждений и объяснений. В обществе, где постоянно велась охота на шпионов, средняя продолжительность жизни тайного агента была невелика. Когда КГБ опускал на кого-то свою ловчую сеть, он делал это молниеносно и беспощадно. Впрочем, поскольку Гордиевский сам служил в КГБ, он, вероятно, своевременно почуял бы, что ему грозит опасность, и успел бы предпринять попытку экстренного побега.
Ровно эту сложнейшую задачу и смаковала теперь Вероника Прайс — к тому времени она уже стала опытным специалистом по эксфильтрации. В середине 1970-х она провернула операцию «Инвизибл» («Невидимка») — тогда нужно было тайно переправить через границу в Австрию команду чешских ученых (мужа и жену). Еще она придумала, как вывезти из Венгрии сотрудника чешской разведки под кодовым именем Дисэррейндж («Вноси беспорядок»). «Но у чехов и венгров не было КГБ, — говорила Прайс. — с Россией все намного, намного сложнее». Да и расстояние, которое нужно преодолеть, чтобы достичь безопасного места, намного больше. Кроме того, даже не считая риска потерять самого агента, провальная попытка побега дала бы русским в руки мощное пропагандистское оружие.
Бежать можно было, во-первых, морем. Прайс принялась взвешивать этот вариант: мог ли беглец, используя подложные документы, сесть на коммерческий лайнер или торговое судно, выходившее из какого-нибудь советского порта. Однако приграничные гавани и доки охранялись столь же неусыпно, как и сухопутные границы и международные аэропорты, а предъявить фальшивый паспорт было бы практически невозможно, ведь официальные советские удостоверения личности имели водяные знаки, подобно денежным купюрам, и изготовить подделку было почти немыслимо. Теоретически по Черному морю шпион мог бы добраться на моторной лодке до берегов Турции или по Каспийскому — в Иран, но, скорее всего, патрульные катера советских пограничников догнали бы беглеца и потопили бы моторку. Протяженные сухопутные границы СССР с Турцией и Ираном находились в сотнях километров от Москвы и тщательно охранялись пограничными постами, минными полями, электрическими ограждениями и колючей проволокой.
Можно было бы задействовать дипломатический багаж: в нем через границу перевозились секретные материалы — чаще всего документы, но иногда и наркотики, оружие и, вполне возможно, даже люди. Вскрыть пакет с пометкой «дипломатический багаж» значило бы, строго говоря, нарушить Венскую конвенцию. Таким способом, например, ливийские террористы тайно ввезли в Британию огнестрельное оружие. Сами русские пытались расширить понятие дипломатического багажа, заявив, что девятитонный грузовик, под завязку набитый ящиками и направляющийся в Швейцарию, не должен подвергаться досмотру. Швейцарцы с этим не согласились. В 1984 году беглому дипломату в Лондоне, родственнику свергнутого незадолго до того президента Нигерии, вкололи снотворного, завязали глаза и поместили его в дощатый ящик. На ящик налепили ярлык «дополнительный груз» и указали получателя: Министерство внутренних дел в Лагосе. Бесчувственного пленника обнаружил и освободил сотрудник таможни в аэропорту Станстед. Так что дипломатический багаж размерами с человека, отправляемый из посольства Британии в Москве, едва ли остался бы незамеченным.
Так один за другим варианты побега отвергались как неосуществимые или сопряженные со смертельным риском.
Но была и другая традиция международной дипломатии, и вот к ней, вероятно, можно было прибегнуть для вывоза Гордиевского.
Согласно давнему соглашению, автомобили, на которых ездили сотрудники посольства, с особыми дипломатическими номерными знаками, при пересечении государственных границ обычно не досматривались. Это было продолжением дипломатической неприкосновенности — статуса, наделявшего дипломатов правом беспрепятственного передвижения и защитой от преследования по законам принимающей страны. Однако о свободе от досмотра говорилось в конвенции, а не в правовых нормах, и советские пограничники без малейших угрызений совести обыскивали все машины, вызывавшие у них подозрения. И все же это была небольшая лазейка в укрепленной стене, окружавшей СССР: шпион, спрятанный в дипломатическом автомобиле, теоретически мог выскользнуть через эту щель в «железном занавесе».
Советско-финская граница была ближайшей к Москве границей между Востоком и Западом, хотя и до нее от российской столицы было двенадцать часов езды. Западные дипломаты регулярно ездили в Финляндию для отдыха и развлечений, за покупками или на лечение. Чаще всего они передвигались на автомобилях, и советские пограничники привыкли к тому, что через их КПП проезжают дипломатические машины.
Но возникала другая трудность: как такой машине забрать беглеца? Британское посольство, консульство и все дипломатические резиденции тщательно охранялись сотрудниками КГБ в милицейской форме. Любого советского гражданина, который пытался туда проникнуть, задерживали, обыскивали и допрашивали. Кроме того, за автомобилями посольства Британии, куда бы они ни ехали, постоянно следовал кагэбэшный хвост, а обслуживанием дипломатических автомобилей занимались механики из КГБ, которые предположительно комплектовали их скрытыми «жучками» и отслеживающими устройствами.
Вероника Прайс несколько недель билась над решением этой задачи и потом наконец выработала план, уснащенный множеством «если»: если Гордиевский сможет предупредить агентов МИ-6 в Москве о том, что ему необходимо бежать; если он сможет самостоятельно добраться до места встречи неподалеку от финской границы и за ним не увяжется хвост; если дипломатический автомобиль, за рулем которого будет сидеть сотрудник МИ-6, сможет уйти от кагэбэшной слежки на достаточно длительное время, чтобы успеть подобрать Олега; если удастся надежно спрятать его внутри автомобиля; и если советские пограничники не решат нарушить дипломатическую конвенцию и дадут машине спокойно проехать без досмотра… тогда, пожалуй, Гордиевскому удастся бежать в Финляндию. (Где его все равно еще могут арестовать и отправить обратно в СССР по распоряжению финских властей.)