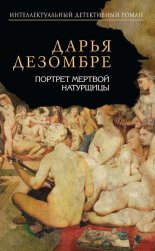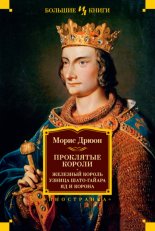Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны Макинтайр Бен

Не менее уникальная возможность открывалась и перед Гордиевским. Как начальнику линии политической разведки в резидентуре, ему предстояло отвечать за составление меморандумов для Москвы, то есть за информирование Горбачева о том, чего ему стоит ожидать; а как британскому агенту, ему предстояло извещать МИ-6 о подготовке советской делегации к предстоящему визиту. Такого в истории разведки не бывало еще никогда: шпион оказался в удивительно выгодном положении, благодаря которому он мог во многом направлять и даже режиссировать встречу двух мировых лидеров, шпионя на обе стороны и обеспечивая их важными разведданными. Гордиевский мог советовать Горбачеву, что ему лучше говорить Тэтчер, и одновременно подсказывать Тэтчер, что ей лучше сказать Горбачеву. И если встреча пройдет хорошо, это повысит шансы самого Гордиевского занять должность резидента — и вместе с ней получить доступ к невиданному богатству новых разведданных.
Новость о том, что в Лондон приедет вероятный будущий глава советского государства, ввергла лондонскую резидентуру в вихрь лихорадочных приготовлений. Из Москвы полился безостановочный поток распоряжений и запросов, понадобилось срочно предоставить подробнейшую информацию обо всех сторонах британской жизни — политической, военной, технической и экономической. Особый интерес представляло забастовочное движение шахтеров: одержат ли они победу? Кто и как их финансирует? В Советском Союзе забастовки, конечно же, были запрещены. Центр запрашивал подробные инструкции: чего ожидать Горбачеву от британцев и не замышляет ли британская разведка каких-нибудь неприятных сюрпризов. В 1956 году, когда с визитом в Лондон приезжал Хрущев, МИ-6 напичкала «жучками» гостиницу, где он остановился, отслеживала его телефонные звонки и даже подсылала аквалангиста — обследовать корпус крейсера, на котором советский вождь прибыл в Британию.
У обеих сторон взаимное недоверие давно вошло в привычку. Горбачев был преданным членом партии, порождением советского строя, Тэтчер же оставалась громогласным противником коммунизма как идеологии, которую она считала аморальной и деспотичной. В 1983 году, выступая в фонде Уинстона Черчилля в США, она говорила: «Есть ли совесть у Кремля? Задаются ли там вопросом, в чем состоит цель жизни? Зачем это все?… Нет. Их убеждения глухи к голосу совести, чужды понятиям о добре и зле». История отвела Горбачеву роль либерального прогрессивного деятеля. Будущий идейный вдохновитель гласности и перестройки возьмется за коренное преобразование Советского Союза и высвободит при этом такие силы, которые приведут в итоге к распаду страны. Но в 1984 году никто бы не сумел угадать признаки грядущих событий, которые были уже не за горами. Тэтчер и Горбачев стояли тогда по разные стороны обширной политической и культурной пропасти, разделявшей их. Успех их встречи отнюдь не был гарантирован. Для того чтобы произошло сближение, требовалось пустить в ход тонкую дипломатию и тайные интриги.
В КГБ увидели в предстоящем визите в Британию шанс усилить позиции Горбачева. «Когда он соберется в Лондон, мы попросим вас прислать нам краткий, но достаточно полный и глубокий анализ обстановки в Англии, — сказал Грибин Гордиевскому в завершение их беседы. — Такой, чтобы, изучив этот документ, он мог быть воспринят англичанами как человек исключительно высокого интеллекта».
Гордиевский и его команда принялись за работу. «Мы буквально засучили рукава, — вспоминал Максим Паршиков, — и принялись писать исчерпывающие докладные записки обо всех важнейших сторонах британской политики и подробно излагать все, что было известно обо всех видных британских деятелях». Все, что Гордиевский собирал для Никитенко, чтобы тот передавал это в КГБ в Москву, он передавал и в МИ-6. Кроме того, британская разведка подбрасывала Гордиевскому разную информацию, чтобы он включал ее в свои отчеты для Москвы: темы для обсуждения, возможные предметы согласия или разногласия вроде забастовок горняков, подсказки относительно того, как лучше общаться с разными участниками переговоров. Фактически британская разведслужба определяла круг вопросов для обсуждения на предстоящих встречах и инструктировала обе стороны.
15 декабря 1984 года Михаил и Раиса Горбачевы прибыли в Лондон с восьмидневным визитом. У них было время и на шопинг, и на осмотр достопримечательностей. В числе прочего они совершили благоговейное паломничество к тому столу в Британской библиотеке, за которым Карл Маркс писал свой «Капитал», однако по сути этот визит был лишь легким дипломатическим демаршем. Противники по холодной войне осторожно изучали друг друга, встречаясь раз за разом в Чекерсе — загородной резиденции британского премьер-министра. Каждое утро Горбачев запрашивал подробную докладную записку объемом в три-четыре страницы, где были бы собраны «предположения и догадки по поводу того, с чем может столкнуться Горбачев во время встреч, намеченных на следующий день». У КГБ таких предположений и догадок не было. И вот тут-то перед Гордиевским открывалась прекрасная возможность привести обе стороны к взаимопониманию и одновременно продемонстрировать московскому начальству собственную ценность. В МИ-6 раздобыли подготовленную британским МИДом для министра иностранных дел Джеффри Хау докладную записку, где перечислялись темы, которые он собирался затронуть в беседе с Горбачевым и его командой. Затем все это передали Гордиевскому, и тот помчался к себе в резидентуру — отстукивать на пишущей машинке черновой вариант краткой сводки. Затем он передал это все другому сотруднику, чтобы тот составил очередную докладную записку. «Да это же как раз то, что нужно!» — высказался Никитенко, ознакомившись с этим материалом.
Материал, подготовленный британским МИДом для Джеффри Хау, послужил основой для докладной записки, адресованной Михаилу Горбачеву. «Он вошел туда целиком, слово в слово».
Визит Горбачева в Британию имел оглушительный успех. При всех идейных разногласиях Тэтчер и Горбачев, похоже, оказались на одной волне. Конечно, не обходилось и без острых моментов: так, Тэтчер прочла своему гостю целую лекцию о плюсах свободного предпринимательства и рыночной конкуренции, а Горбачев на это ответил, что «советская система все равно лучше», и пригласил ее приехать в СССР, чтобы своими глазами увидеть, как «счастливо» живет там семья советских народов. Еще они заспорили из-за участи советских диссидентов, в том числе физика Андрея Сахарова, и из-за гонки вооружений. В ходе одной особенно ожесточенной перепалки Тэтчер обвинила СССР в финансировании британских шахтеров. Горбачев отмел это обвинение. «Советский Союз не перечислял никаких денег профсоюзу ваших горняков, — сказал он, а потом искоса поглядел на главного пропагандиста из своей делегации и добавил: — Насколько мне известно». Это была ложь, и миссис Тэтчер это знала. Еще в октябре Горбачев собственноручно поставил свою подпись под планом, предусматривавшим перечисление бастующим горнякам 1,4 миллиона долларов.
Однако, несмотря на все эти словесные поединки, британский и советский лидеры явно нашли общий язык. Создавалось такое впечатление, что они действовали слаженно, словно заглядывая в один сценарий, — да так оно, собственно, и было. Ежедневные записки Горбачеву от КГБ возвращались «с подчеркнутыми в знак благодарности или удовлетворения строчками». Горбачев читал все очень внимательно. «Мы инструктировали обе стороны, — говорил аналитик МИ-6. — Мы делали нечто новое — пытались честно использовать информацию, а не искажать ее, влиять на отношения между странами и открывать новые возможности. Нас было всего несколько человек, и, работая, мы испытывали эйфорию, потому что понимали, что в эти самые часы творим историю».
Очевидцы тогдашних событий отмечали, что видели «сильное взаимное притяжение сторон в действии». Под конец дискуссий Горбачев объявил, что «по-настоящему доволен». Тэтчер испытывала сходные чувства: «Он нисколько не напоминал тех чурбанов-чревовещателей, какими были в большинстве своем советские аппаратчики». Гордиевский доложил МИ-6 о «восторженных отзывах Москвы».
В записке Рейгану Тэтчер написала: «Безусловно, это человек, с которым можно иметь дело. Он очень понравился мне — и хотя можно не сомневаться в его полной преданности советскому строю, он все же готов слушать, вести настоящий диалог и думать собственным умом»[64]. Впоследствии слова Тэтчер из этого отзыва — «человек, с которым можно иметь дело», — прославятся и емко охарактеризуют энергичную деятельность Горбачева, которую тот разовьет на посту главы государства, сменив в марте 1985 года наконец-то умершего Черненко.
Прорыв, благодаря которому «иметь дело» с новым руководителем стало возможно, произошел отчасти стараниями Гордиевского.
В Центре были довольны. Горбачев — предпочтительный, с точки зрения КГБ, кандидат в лидеры — успешно продемонстрировал качества, подобающие государственному руководителю, и лондонская резидентура показала себя с лучшей стороны. Никитенко получил орден «за отличную организацию визита Горбачева». Однако основная заслуга в этом деле принадлежала Гордиевскому — умелому руководителю линии политической разведки, который составлял столь подробные и основательные докладные записки, опираясь на информацию, собранную из множества британских источников. Теперь Гордиевский был главным претендентом на должность резидента.
И все же, несмотря на удовлетворение от хорошо выполненной работы — и для КГБ, и для МИ-6, — в душе Гордиевского поселилась легкая тревога.
В один из дней визита Горбачева Никитенко, временно исполнявший обязанности резидента, вызвал к себе заместителя. Перед ним на столе лежали разложенные листы докладной записки, подготовленной для Горбачева, уже изученной им и испещренной его пометками.
На Гордиевского неподвижно смотрели желтые глаза специалиста по контрразведке КГБ.
— М-м-м. Очень хороший доклад о Джеффри Хау, — сказал Никитенко, а потом выдержал небольшую паузу. — Можно подумать, его составили в английском МИДе.
Глава 11
Русская рулетка
Бертон Гербер, глава советского отдела ЦРУ, был большим специалистом по КГБ и имел широкий оперативный опыт ведения шпионской войны против Советского Союза. Долговязый и худой уроженец штата Огайо, решительный и целеустремленный, он был представителем нового поколения американских разведчиков, которых не затронула маниакальная подозрительность прошлых лет. Он установил так называемые правила Гербера, которые гласили, что каждое поступающее предложение о шпионаже в пользу Запада следует принимать всерьез, каждому указанию следует уделять внимание. Одним из наиболее странных хобби Гербера было изучение волков, а в его способе охоты на кагэбэшную дичь было определенно что-то лисье. В 1980 году Гербера назначили главой московской резидентуры ЦРУ, а в начале 1983-го он вернулся в Вашингтон, чтобы возглавить самое важное отделение ведомства, курировавшее шпионов по другую сторону «железного занавеса». А их было множество. Неопределенность предыдущего десятилетия миновала, и при новом директоре ЦРУ Билле Кейси наступил период напряженной деятельности и значительных достижений, особенно в военной сфере. На территории Советского Союза ЦРУ проводило более ста тайных операций и имело как минимум двадцать активных шпионов — больше, чем когда-либо раньше: в ГРУ, в Кремле, в военных кругах и в научных учреждениях. В раскинутой ЦРУ шпионской сети состояло несколько сотрудников КГБ, но ни одного — такого, кто бы сравнился калибром с тем таинственным агентом, который снабжал МИ-6 отборным материалом из первых рук.
Если Бертон Гербер не знал чего-то о шпионстве за СССР, оно того и не стоило. Но было одно важное исключение: он не знал, кто шпионит на Британию внутри КГБ. И это незнание не давало ему покоя.
Гербер видел материалы, которые передавали в ЦРУ из МИ-6, и они очень впечатлили и заинтриговали его. Психологическое удовлетворение от всякой разведывательной работы получаешь тогда, когда знаешь больше, чем твои противники, — но также и больше, чем твои союзники. Во всеохватной, глобальной картине мира, какой она виделась из Лэнгли, ЦРУ имело право знать все, что только желало знать.
Отношения между английской и американской разведслужбами были тесными и строились на взаимной поддержке, однако в них наблюдалось неравенство. с ЦРУ — с его обширными ресурсами и раскинутой по всему миру агентурной сетью — в способности собирать разведданные мог тягаться только КГБ. ЦРУ делилось информацией с союзниками, когда это служило интересам США, хотя, как это делают все разведслужбы, оно тщательно оберегало свои источники. Обмен разведданными можно уподобить улице с двусторонним движением, но, по мнению некоторых цээрушников, Америка имела право знать все. От МИ-6 поступали разведданные высочайшего качества, но, сколько бы ЦРУ ни намекало, что желает знать, откуда они берутся, британцы с упрямой учтивостью, бесившей американцев, отказывались отвечать на этот вопрос.
Намеки постепенно становились все менее тонкими. На одной рождественской вечеринке Билл Грейвер, глава лондонской резидентуры ЦРУ, подошел к начальнику «совблока» МИ-6. «Он схватил меня, припер к стенке и сказал: „Ты мне можешь сказать, кто этот ваш источник? Нам нужно точно знать, что этой информации можно доверять, потому что она просто офигенная“».
Британец покачал головой. «Я не скажу, кто он. Могу только сказать, что мы целиком и полностью ему доверяем, и он занимает такое положение, что может подтвердить подлинность этих данных». Тогда Грейвер отстал.
Примерно в то же время МИ-6 попросила ЦРУ об одном одолжении. Вот уже много лет руководители британской разведки настоятельно просили технический отдел в Хэнслоп-парке разработать хорошую секретную фотокамеру, но правление МИ-6 всегда отвергало эти просьбы, ссылаясь на непомерные расходы. В МИ-6 продолжали пользоваться старомодной камерой Minox. ЦРУ же, как было известно, наняло одного швейцарского часовщика и поручило ему разработать хитроумную миниатюрную фотокамеру, которая пряталась в самой обычной зажигалке Bic и делала отличные снимки, когда к ней присоединяли нить длиной около 30 сантиметров и булавку. Нить прилеплялась к низу зажигалки кусочком жевательной резинки; когда булавка на ее конце плоско ложилась на документ, тем самым отмерялось идеальное фокусное расстояние, а чтобы щелкнуть затвором, нужно было нажать на кнопку зажигалки. Нитку и булавку можно было спрятать за отворот пиджака, зажигалка выглядела совершенно невинно. От нее даже можно было прикурить. Вот такая штука была бы идеальной фотокамерой для Гордиевского. Перед самой перебежкой он принес бы ее в резидентуру, чтобы «опустошить сейф» — то есть отснять все, что можно. Для принятия решения пришлось задействовать длинную цепь инстанций, вплоть до Билла Кейси, и наконец ЦРУ согласилось предоставить МИ-6 одну из своих фотокамер. Но перед ее вручением между ЦРУ и МИ-6 произошел интересный диалог.
ЦРУ: Вам этот фотоаппарат нужен для какой-то конкретной цели?
МИ-6: У нас есть кое-кто с доступом к секретной информации.
ЦРУ: А нам она будет перепадать?
МИ-6: Необязательно. Этого мы не можем гарантировать.
МИ-6 не реагировала ни на какие просьбы, уговоры и попытки подкупа, и Гербер раздражался все больше. У британцев завелся очень ценный шпион, и они его скрывали. Как говорилось впоследствии в секретном отчете ЦРУ о панике, вызванной учениями Able Archer: «Получаемая [ЦРУ] информация… поступала преимущественно от британской разведки и была фрагментарной, неполной и неоднозначной. Кроме того, британцы не раскрывали, кто их источник. и его надежность невозможно было подтвердить независимым путем»[65]. Поступавшие от него разведданные доходили до самого президента, и ЦРУ испытывало элементарную неловкость от того, что не знало, кто же этот человек.
И вот, получив одобрение сверху, Гербер инициировал тайную охоту. В начале 1985 года он поручил одному следователю ЦРУ приступить к раскрытию личности британского супершпиона. В МИ-6 ни сном ни духом не должны были знать о происходящем. Гербер не считал эту операцию ни злоупотреблением доверием, ни тем более шпионством за союзником — скорее подчисткой хвостов, благоразумной и вполне законной перепроверкой.
Олдрич Эймс возглавлял в ЦРУ советский отдел контрразведки. Милтон Бирден, сотрудник ЦРУ, к которому впоследствии перешло управление советским отделом, писал: «Бертон Гербер вознамерился установить личность британского информатора и поручил главе советского и восточноевропейского отдела контрразведки, Олдричу Эймсу, разгадать эту загадку»[66]. Позднее Гербер заявлял, что поручал детективное расследование не самому Эймсу, а другому (оставшемуся неназванным) сотруднику, «хорошо проявившему себя в подобного рода проверках». По-видимому, тот сотрудник и работал бок о бок с Эймсом, главой контрразведки.
Название должности Эймса звучало внушительно, но сектор советского отдела, занимавшийся выискиванием шпионов и попытками просчитать, какие операции могут оказаться уязвимыми для проникновения вербовщиков, слыл в ЦРУ эпохи Кейси пыльным углом, «мусорной свалкой для неудачников с непроявленными талантами».
Эймсу исполнилось сорок три года, он был неприметным правительственным чиновником с плохими зубами, тягой к пьянству и очень дорогой любовницей. Каждый день он выходил из тесной съемной квартирки в Фоллс-Чёрч, с трудом пробирался сквозь пробки в Лэнгли, а потом понуро сидел за своим рабочим столом и «мрачно размышлял о будущем». Долгов у Эймса накопилось на 47 тысяч долларов. Он уже подумывал об ограблении банка. Согласно внутренним доносам, он стал «пренебрегать личной гигиеной». Обед у него почти всегда состоял из одних только жидкостей и занимал очень много времени. Росарио проводила свой «обильный досуг, транжиря деньги Рика» и жалуясь, что их так мало. Его карьера зашла в тупик. Больше никакого повышения ему не светило. ЦРУ обмануло его ожидания. А еще он дулся на своего начальника, Бертона Гербера, строго отчитавшего его за то, что Эймс возил Росарио в Нью-Йорк за казенный счет. Пожалуй, ЦРУ давно уже следовало заметить, что с Эймсом творится что-то неладное, но, как это было и с Беттани в МИ-5, обычная странность поведения, злоупотребление алкоголем и неравномерный успех в работе не становились сами по себе поводом для подозрений. В ЦРУ на Эймса давно смотрели просто как на предмет мебели — пообтрепавшийся, зато привычный.
Положение и стаж Эймса давали ему право доступа к делам, заведенным на все операции, проводившиеся против Москвы. Но был один советский шпион, поставлявший ЦРУ ценные разведданные и отделенный от него одним «рукопожатием», чьего имени Эймс не знал. Это был высококлассный агент, которого курировали британцы.
Установить личность конкретного шпиона в обширном советском правительственном аппарате было чрезвычайно сложно. Как говорил Шерлок Холмс, «если отбросить невозможное, то оставшееся — пусть даже самое невероятное — и окажется правдой». Именно за эту задачу взялось теперь ЦРУ. Она была не из легких, но каждый шпион оставляет какие-то следы. Ищейки из ЦРУ начали перелопачивать информацию, полученную от загадочного британского агента за три предыдущих года, пытаясь вычислить — при помощи метода исключения и перекрестных проверок, — кто же он (или, быть может, она).
Вероятно, расследование продвигалось примерно следующим образом.
Подробности, касавшиеся операции «РЯН» и поступившие от МИ-6, указывали на то, что источник работал в КГБ, и хотя американцам сообщили, будто материалы получены от сотрудника среднего звена, само их качество ясно указывало на то, что он занимал гораздо более высокое положение. Судя по регулярности донесений, этот человек часто встречался с кураторами из МИ-6, а это, в свой черед, указывало на то, что, скорее всего, он находится где-то за пределами СССР и, вполне возможно, в самой Британии. Последняя догадка подкреплялась тем, что он, похоже, был «хорошо знаком с английскими делами». Отдельного шпиона можно вычислить по тому, что он сообщает, — но еще и по тому, о чем он не сообщает. В данных, которые передавали ЦРУ британцы, почти отсутствовала информация технического или военного характера, зато содержалось много первоклассных политических сведений. Следовательно, осведомитель, вероятнее всего, работал в отделе политической разведки Первого главного управления. Агент, сидящий в самом КГБ, наверняка должен был дать наводку хотя бы на нескольких западных шпионов, работающих на СССР. Посмотрим, кого из своих агентов недавно потерял Советский Союз? Ага, Хаавик и Трехолта в Норвегии и Берглинга в Швеции. Но самое громкое разоблачение советского шпиона произошло недавно в Британии: там много шума наделали арест Майкла Беттани и суд над ним.
В ЦРУ хорошо знали, как устроен КГБ. В Третьем отделе ПГУ Скандинавия была свалена в одну кучу с Британией. Все подсказки явно говорили о том, что искомый шпион работает именно там.
После прочесывания базы данных ЦРУ, где хранились сведения обо всех известных и потенциальных агентах КГБ, стало бы ясно, что из них всех лишь один-единственный человек находился в Скандинавии, когда сцапали Хаавик и Берглинга, и в Британии, когда схватили Трехолта и Беттани: сорокашестилетний советский дипломат, который впервые появился на радаре спецслужб еще в начале 1970-х в Дании. Перекрестная ссылка показала бы, что имя Олега Гордиевского попало в архивные записи ЦРУ в связи со Стандой Капланом. При ближайшем рассмотрении обнаружилось бы, что датчане заподозрили этого человека в принадлежности к КГБ и сделали у себя соответствующую запись, однако британцы в 1981 году выдали ему визу как благонадежному дипломату, что прямо противоречило их собственным правилам. Еще британцы недавно выдворили ряд кагэбэшников, а том числе резидента, Аркадия Гука. Может быть, они нарочно расчищали путь наверх собственному шпиону? Наконец, при изучении архивных записей ЦРУ, касавшихся Дании в 1970-е годы, всплыло бы, что «один сотрудник датской разведки обмолвился однажды, что в 1974 году МИ-6 завербовало некоего сотрудника КГБ, когда тот находился в служебной командировке в Копенгагене»[67]. Единственной телеграммы в лондонскую резидентуру хватило бы, чтобы подтвердить: все выявленные факты в точности совпадали с фактами биографии Олега Гордиевского.
В марте Бертон Гербер был уже уверен, что знает теперь, кто этот шпион, которого так долго и старательно скрывали британцы.
Так ЦРУ одержало маленькую, но приятную профессиональную победу над МИ-6. Британцы думали, что знают кое-что, чего не знают американцы; теперь же ЦРУ знало кое-что, о чем в МИ-6 думали, будто оно этого не знает. Только ради этого и велась игра. Олегу Гордиевскому присвоили кодовое имя Тикл (Tickle — «щекотка»), нейтрально звучавшее и вполне подходившее к маленькой безобидной операции, вызванной к жизни международным соперничеством.
В Лондоне Олег Гордиевский с нарастающим волнением, к которому примешивалась легкая тошнотворная тревога, ожидал вестей из Москвы. Он находился в выигрышном положении и надеялся вскоре занять пост резидента, но Центр, как обычно, тянул с принятием решения. Гордиевского продолжали преследовать мысли о зловещем замечании Никитенко, которое тот обронил по поводу необычайно хорошо составленных докладных записок во время визита Горбачева, и он мысленно бранил себя за то, что не сумел как следует переработать текст.
В январе он получил распоряжение: прилететь в Москву «для собеседования на весьма высоком уровне».
В британской разведке этот вызов спровоцировал оживленные дебаты. Поскольку там знали о словах Никитенко, в которых можно было уловить завуалированную угрозу, кое-кто опасался, не ждет ли Олега западня. Может быть, настал подходящий момент для перебежки? Ведь шпион уже не раз проявлял благородство. Некоторые сотрудники МИ-6 считали, что отпускать его сейчас в Россию слишком рискованно: «Может быть, его ждет там хорошая новость. Но если все окажется иначе, то мы не просто лишимся агента, занимающего очень высокое положение. Мы же сидели на целом кладе информации, которая до сих пор пускалась в ход лишь умеренно, потому что нельзя было использовать ее на полную катушку и делиться ею с другими — из опасения скомпрометировать Олега».
Но желанный приз был уже совсем близко, и сам Гордиевский чувствовал уверенность. Никаких сигналов тревоги из Москвы не поступало. Вызов в Центр, скорее всего, означал, что он вышел победителем из противоборства с Никитенко. «Мы не были слишком встревожены, он тоже, — вспоминал потом Саймон Браун. — Конечно, мы немного волновались из-за того, что подтверждение долго не приходило, но сам он считал, что, скорее всего, его кандидатуру одобрили».
И все равно Гордиевскому предложили дезертировать, если он захочет. «Мы сказали ему, и сказали от чистого сердца, что если он хочет соскочить прямо сейчас, то пожалуйста. Конечно, если бы он так и поступил, мы бы очень огорчились. Но он так же сильно хотел продолжать работу, как и мы. Он не видел большого риска».
На последней встрече перед отъездом Гордиевского Вероника Прайс снова отрепетировала с ним, шаг за шагом, операцию побега «Пимлико».
В Москве, когда Гордиевский явился в штаб Первого главного управления, его сердечно встретил Николай Грибин, начальник его отдела, и сообщил, что его считают «наилучшей кандидатурой на место Гука». Официально об этом должны были объявить несколько позже. Но уже через несколько дней на внутриведомственной конференции ее председатель неосторожно представил готовившегося выступить Гордиевского как «товарища Гордиевского, только что назначенного на пост резидента в Лондоне, но еще не вступившего в новую должность». Грибин пришел в ярость, «поскольку считал, что до подписания соответствующего приказа нельзя допускать ни малейшей утечки информации», зато Гордиевский испытал облегчение и восторг: значит, новость о его повышении уже разошлась по всему КГБ.
Его хорошее настроение лишь слегка подпортило известие об участи его коллеги Владимира Ветрова, полковника КГБ, служившего по линии «Х» (в отделе, занимавшемся научно-техническим шпионажем). Проработав несколько лет в Париже, Ветров начал шпионить на французскую разведку под кодовым именем Фэруэлл (Farewell — «прощай»). Он передал французам 4 тысячи секретных документов и данных, что привело к высылке из Франции 47 сотрудников КГБ. В 1982 году, находясь в Москве, Ветров вступил в ожесточенную перепалку со своей любовницей в припаркованном автомобиле. На крики прибежал дружинник и застучал в окно машины, и тогда Ветров, решив, что его сейчас арестуют за шпионаж, убил того человека ударом ножа. Уже сидя в тюрьме, он сам неосторожно признался, что еще до ареста был замешан в «нечто важное». Было проведено новое расследование, и обнаружились истинные масштабы предательства Ветрова. Агента со столь несчастливой кличкой Фэруэлл расстреляли 23 января годом ранее. Конечно, Ветров был убийцей и сумасшедшим, и он сам же себя и погубил, однако его расстрел послужил напоминанием о том, как поступают в КГБ с изменниками родины, уличенными в шпионаже на Запад.
В конце января 1985 года, когда Гордиевский возвратился в Лондон с новостью о своем назначении, в МИ-6 наступило бурное ликование — точнее, оно непременно было бы бурным, не будь оно в то же время совершенно секретным. Встречи на явочной квартире в Бейсуотере приобрели по-новому волнующий, будоражащий характер. Дело обернулось беспрецедентной удачей: шпион британской разведки вскоре должен был возглавить лондонскую резидентуру КГБ и получить доступ ко всем до единого хранившимся там секретам. А потом он наверняка поднимется еще выше. Проскальзывали намеки на очередное повышение в звании — так что в итоге он запросто мог стать генералом КГБ. Тридцатью шестью годами раньше Ким Филби дорос в МИ-6 до должности резидента в Вашингтоне — так шпион, работавший на КГБ, оказался в самом сердце западной державы. Теперь же со стороны МИ-6 последовал зеркальный шаг по отношению к КГБ. Колесо провернулось, роли поменялись. И простиравшиеся впереди возможности казались безграничными.
Гордиевский ждал официального подтверждения своего назначения в эйфорическом изумлении. Максима Паршикова особенно удивило одно изменение, произошедшее в поведении его друга: «Его редкие седеющие волосы внезапно приобрели огненно-рыжий цвет». За одну ночь благопристойная советская прическа Гордиевского цвета «перца с солью» сменилась чем-то кричащим, почти панковским. Его коллеги тихонько пересмеивались между собой: «Может, у него завелась молоденькая любовница? Или, чего доброго, наш без пяти минут резидент внезапно подался в гомосеки?» Когда Паршиков отважился осторожно спросить, что случилось с волосами Олега, тот, немного смутившись, объяснил, что случайно схватил краску для волос, которой пользовалась его жена, вместо шампуня. Такое объяснение никуда не годилось, потому что у Лейлы были темные волосы, а Гордиевский покрасил свои в совершенно другой — ярко-охряной — цвет. «Когда „ошибка с шампунем“ вошла у него в привычку, мы перестали задавать вопросы». Паршиков заключил: «Каждый имеет право на свои странности».
Никитенко получил указания готовиться к возвращению в Москву. Он был в бешенстве от того, что его обошел какой-то выскочка, проживший в Британии всего три года, и его поздравления звучали особенно лицемерно. Официально Гордиевскому предстояло вступить в должность не раньше конца апреля; в оставшийся до того момента промежуточный период Никитенко, как только мог, проявлял несговорчивость и недружелюбие, лил яд в уши начальства и пренебрежительно высказывался о новом назначенце в разговорах со всеми, кто изъявлял готовность слушать. Что еще тревожнее, он отказывался передавать Гордиевскому телеграммы, которые завтрашний резидент имел право видеть. Возможно, это всего лишь мелочная мстительность, успокаивал себя Гордиевский, но отношение к нему Никитенко как будто отдавало еще чем-то, кроме очевидной досады на то, что «зелен виноград».
Для Гордиевского и команды Ноктона ситуация зависла в состоянии неопределенности. Все замерли в ожидании: когда Никитенко наконец уберется в Москву, чтобы занять там новую должность в отделе контрразведки штаба КГБ, Гордиевский получит ключи от сейфа КГБ, и вот тогда МИ-6 наверняка снимет небывалый урожай.
А за двенадцать дней до того, как Гордиевский должен был вступить в должность резидента, Олдрич Эймс предложил КГБ свои услуги.
Эймс был человеком вредным и склочным. От него вечно разило перегаром, а работа его превратилась в трясину. Ему было обидно, что в ЦРУ его совсем не ценят. Но позднее он объяснит свой поступок гораздо проще: «Я сделал это ради денег». Ему нужно было оплачивать покупки Росарио в универмаге Neiman Marcus и обеды в ресторане The Palm. Ему хотелось вырваться из тесной квартирки, расплатиться с бывшей женой, сыграть пышную свадьбу и немедленно купить себе новую машину.
Эймс решил продать Америку КГБ, чтобы купить себе американскую мечту, которую, как ему казалось, он вполне заслужил. Гордиевского никогда не интересовали деньги. Эймса не интересовало ничего, кроме денег.
В начале апреля Эймс позвонил советскому дипломату Сергею Дмитриевичу Чувахину и предложил ему встретиться. Чувахин не принадлежал к числу тех сорока кагэбэшников, что работали в самом посольстве. Он был специалистом по контролю над вооружениями и «лицом, представлявшим оперативный интерес» в глазах ЦРУ, — иными словами, его считали объектом, подходящим для обработки. Эймс сообщил коллегам, что попытается установить контакт с этим русским чиновником и прозондировать его. На их встречу дали добро и ЦРУ, и ФБР. Чувахин согласился встретиться с Эймсом 16 апреля, в четыре часа дня, в баре при отеле «Мэйфлауэр», неподалеку от советского посольства на 16-й улице.
Эймс нервничал. Дожидаясь Чувахина в баре «Мэйфлауэр», он выпил порцию мартини с водкой, потом повторил свой заказ еще дважды. Прошел час, а Чувахин так и не появился. Тогда Эймс решился на «импровизацию» (как он сам потом выразился): он направился довольно шаткой походкой по Коннектикут-авеню к зданию советского посольства, вручил секретарю приемной пакет, который собирался отдать Чувахину, и ушел.
Этот маленький сверток был адресован резиденту КГБ в Вашингтоне, генералу Станиславу Андросову. Внутри помещался еще один конверт, тоже адресованный Андросову, только уже под его оперативным псевдонимом Кронин. В конверте лежала рукописная записка: «Я — Х. Олдрич Эймс, начальник подразделения контрразведки в советском отделе ЦРУ. Мне нужны 50 тысяч долларов, а в обмен на эти деньги я предлагаю следующую информацию о трех агентах, которых мы в настоящее время вербуем в Советском Союзе». Все три имени принадлежали тем людям, которым советская разведка устраивала подставу в ЦРУ, то есть они лишь притворялись потенциальными агентами, а на самом деле были кагэбэшными подсадными утками. «Это не были настоящие предатели», — говорил позднее сам Эймс. Он убеждал себя, что, раскрывая их имена, он никому не вредит и не подрывает ни одной операции ЦРУ. Еще внутри конверта лежала страница, вырванная из внутриведомственного телефонного справочника ЦРУ, где желтым фломастером было подчеркнуто имя Эймса.
Эймс тщательно продумал свой подход и задействовал четыре отдельных элемента, подтверждавшие серьезность его намерений: информацию о текущих операциях ЦРУ, какую не стал бы разглашать обычный провокатор; свой более ранний псевдоним, который мог быть известен КГБ со времени его службы в Нью-Йорке; осведомленность о тайном кодовом имени советского резидента и, наконец, подтверждение его собственного имени и должности в ЦРУ. Все это, вне сомнения, должно завладеть вниманием советских разведчиков, и вот тогда деньги потекут к нему рекой.
Зная, как устроена работа в КГБ, Эймс не рассчитывал на немедленный ответ: о заявке инициативщика вначале доложат в Москву, затем наведут справки, рассмотрят возможность провокации, а потом в конце концов Центр примет его предложение. «Я был уверен, что мне дадут положительный ответ, — писал он позднее. — И не ошибся».
Две недели спустя, 28 апреля 1985 года, Олег Гордиевский официально стал лондонским резидентом — самым высокопоставленным сотрудником КГБ в Лондоне. Передача полномочий от Никитенко произошла своеобразно. По традиции уезжавший глава резидентуры оставлял в своем кабинете запертый служебный портфель, в котором хранились важные секретные документы. Когда Никитенко уже сидел в самолете, Олег открыл резидентский портфель и обнаружил там один-единственный коричневый конверт с двумя фотокопиями писем, которые Майкл Беттани подбросил в почтовый ящик Гука двумя годами ранее и содержание которых пересказывали потом все британские газеты. Что же это — шутка? Намек, напоминание о профнепригодности Гука? Предупреждение? Или Никитенко таким образом пытался сообщить ему нечто нехорошее? Почему он положил сюда никому не нужные бумаги? «Не потому ли, что он не доверял мне и поэтому решил не оставлять в своем кейсе никаких документов, с которых еще не снят гриф секретности?» Но если дело было в этом, зачем тогда было оставлять завуалированную подсказку? Скорее всего, Никитенко просто хотел подпортить настроение сопернику, заполучившему то место, на которое нацеливался он сам.
В МИ-6 тоже встали в тупик: «Мы ожидали коронных драгоценностей — но не получили их. Мы уж думали, сейчас выяснится, что члены кабинета окажутся давними агентами КГБ, или обнаружатся новые Беттани, — но ничего подобного. Конечно, мы вздохнули с облегчением, но и с легким разочарованием». Гордиевский принялся читать дела, хранившиеся в резидентуре, и понемногу собирать для МИ-6 свежие данные, представлявшие для британцев бесспорную ценность.
Как и предвидел Эймс, КГБ не сразу откликнулся на его предложение, но в итоге отозвался на него с энтузиазмом. В начале мая Эймсу позвонил Чувахин и непринужденным тоном предложил «встретиться 15 мая в советском посольстве, выпить чего-нибудь, а затем пойти пообедать в местном ресторанчике». В действительности ни об энтузиазме, ни о непринужденности и речи не было: Чувахин был отличным экспертом по контролю над вооружениями и совсем не хотел, чтобы его втягивали в какие-то мутные и опасные шпионские игры. «Пускай кто-нибудь из ваших ребят займется этой грязной работой», — проворчал он, когда его попросили связаться с Эймсом и договориться о встрече. Но КГБ тут же строго его одернул: раз Эймс сам остановил выбор на нем, значит, Чувахин вступит в эту игру, хочет он того или нет.
Вот уже три недели в КГБ кипела бурная деятельность. Письмо Эймса сразу же передали полковнику Виктору Черкашину, главе отдела контрразведки при советском посольстве. Поняв всю важность полученного сообщения, Черкашин отправил надежно защищенную шифрограмму Крючкову, начальнику ПГУ, а тот показал ее Виктору Чебрикову, тогдашнему председателю КГБ. Чебриков немедленно дал разрешение взять в Военно-промышленной комиссии 50 тысяч долларов наличными. КГБ был громоздким чудовищем, но, когда нужно, умел совершать молниеносные движения.
В среду 15 мая Эймс, как и было условлено, явился в советское посольство. ЦРУ и ФБР он сообщил, что идет туда, чтобы снова окучивать военного эксперта, которого он уже начал охмурять. «Я знал, что делаю. Я решил добиться своего». Чувахин встретил Эймса в вестибюле посольства, представил его сотруднику КГБ Черкашину, и тот повел Эймса в небольшой конференц-зал в полуподвальном этаже. Они не обменялись ни словом. Показав жестами, что помещение, возможно, прослушивается, Черкашин с улыбкой протянул Эймсу записку: «Мы принимаем ваше предложение, и делаем это с большим удовольствием. Нам хотелось бы, чтобы Чувахин был посредником в наших с вами обсуждениях. Он сможет передать вам деньги и пообедать с вами». На оборотной стороне листка Эймс написал: «Хорошо. Большое спасибо».
Но это было еще не все.
Есть один вопрос, который каждый куратор обязан задать только что завербованному шпиону: «Не известно ли вам о внедрении в нашу разведслужбу? Нет ли в нашей организации человека, который шпионит на вашу и может выдать вас?» Гордиевскому такой вопрос задали сразу же, как только он согласился шпионить на Британию. Черкашин был профессионалом высокого класса. Просто невозможно представить, что он не спросил Эймса, известно ли ему о каких-либо шпионах, внедренных в КГБ, которые могли бы обнаружить, что он предлагает свои услуги противнику, и доложить об этом ЦРУ. Да и Эймс тоже должен был ожидать этого вопроса. Он знал, что таких агентов насчитывается больше десятка, в том числе в самом советском посольстве, и что есть еще один, самый высокопоставленный, которого курируют британцы.
Позднее Эймс заявлял, что в тот момент не называл имени Гордиевского. Систематически выдавать всех советских агентов, чьи имена значились в архивных записях ЦРУ, он начал только месяцем позже. В мемуарах, опубликованных в 2005 году, Черкашин утверждал, будто решающий сигнал о роли Гордиевского подал не Эймс, а некий «работающий в Вашингтоне английский журналист» (больше о нем ничего не сообщалось). ЦРУ расценило это заявление как намеренную дезинформацию, призванную создать благоприятное впечатление о КГБ и вброшенную с явным намерением замести следы.[68]
Большинство аналитиков разведслужб, изучавших дело Гордиевского, сходятся во мнении, что уже на раннем этапе общения с русскими Эймс все-таки сообщил им, что внутри КГБ на очень высоком уровне засел крот, тайно работающий на британскую разведку. Может быть, в тот момент Эймс и не знал наверняка, что это именно Гордиевский, особенно если он лично не проводил расследование. Но он точно знал, что ЦРУ ведет расследование, пытаясь установить личность шпиона, завербованного МИ-6, под кодовым именем Тикл, — и, весьма вероятно, он мог передать эти сведения русским в ходе первой беззвучной встречи в полуподвале советского посольства, записав предупредительное сообщение на листке бумаги. Даже если имени шпиона он тогда и не раскрывал, одного указания на то, что он есть, было вполне достаточно, чтобы КГБ спустил с цепи охотничьих псов из Управления «К».
Когда встреча в подземелье закончилась, Эймс поднялся в вестибюль. «А теперь идемте обедать», — сказал дожидавшийся его Чувахин.
Они уселись за угловой столик в ресторане Joe and Mo’s и начали разговаривать и пить. Что именно было сказано во время того «длинного хмельного» обеда, до конца не ясно. Позднее Эймс утверждал (неправдоподобно), будто они обсуждали исключительно контроль над вооружениями. Возможно, что примерно между третьей и четвертой порциями мартини Эймс подтвердил, что в КГБ кто-то шпионит на британцев. Но позднее он признавался: «В памяти моей полный туман».
Под конец обеда Чувахин, который пил значительно меньше своего собеседника, передал Эймсу полиэтиленовую сумку, набитую бумагами. «Тут кое-какие пресс-релизы, думаю, вы найдете там кое-что интересное для себя», — сказал он вслух на тот случай, если их подслушивало ФБР при помощи направленных микрофонов. Распрощавшись, они пожали друг другу руки, и русский поспешил к себе в посольство. Эймс, хотя был уже порядочно пьян, сел за руль и поехал домой. На Мемориальной аллее имени Джорджа Вашингтона он припарковался на площадке для отдыха с великолепным видом на Потомак и приоткрыл сумку. Там, на дне, под ворохом посольской макулатуры, лежал аккуратно запечатанный сверток размером с кирпич. Эймс надорвал обертку. И тут его охватил «неописуемый восторг». В свертке оказалась пачка из пятисот стодолларовых купюр.
Пока американец пересчитывал банкноты, в советском посольстве Чувахин инструктировал Черкашина, и тот сочинял очередное шифрованное послание для сверхбыстрой передачи, адресованное самому Чебрикову.
К тому времени, когда Эймс добрался домой, уже успела развернуться одна из самых масштабных в истории КГБ облав.
Во вторник 16 мая, на следующий день после первой встречи Эймса с Черкашиным, на стол свежеиспеченного резидента КГБ в Лондоне легла срочная телеграмма из Москвы.
Когда Олег Гордиевский прочел ее, его прошиб холодный пот.
«В связи с утверждением вас в должности резидента, — говорилось в телеграмме, — вам предлагается немедленно, в течение двух дней, прибыть в Москву для обсуждения важных вопросов с товарищами Михайловым и Алешиным». Это были оперативные псевдонимы Виктора Чебрикова и Владимира Крючкова — председателя КГБ и главы ПГУ. Вызов поступил от самой верхушки КГБ.
Гордиевский сказал секретарю, что идет на назначенную встречу, ринулся к ближайшей телефонной будке и попросил своего куратора из МИ-6 об экстренном совещании.
Через несколько часов, когда он прибыл на явочную квартиру, его уже ждал там Саймон Браун. «Вид у него был встревоженный, — вспоминал потом Браун. — Он явно был озабочен, но не паниковал».
В ближайшие 48 часов МИ-6 и Гордиевский должны были решить: откликаться ему на вызов и лететь в Москву — или же свернуть всю деятельность и перебраться с семьей в надежное укрытие.
«Олег принялся взвешивать все за и против: он выдвигал самый очевидный разумный довод — что все это хоть и необычно, но не настолько необычно, чтобы немедленно возбуждать сильные подозрения. Для такого вызова вполне могли найтись и логические объяснения».
С момента его назначения Москва хранила странное молчание. Гордиевский ожидал получить хотя бы коротенькое поздравление от Грибина, но еще больше его тревожило то, что из Центра до сих пор не поступило ни одной телеграммы, открывавшей доступ к шифровальным кодам для связи. с другой стороны, его коллеги по КГБ не выказывали ни малейших признаков подозрительности, а напротив, старались ему угодить.
Гордиевский задавался вопросом, не напрасно ли он нервничает: как знать, не унаследовал ли он вместе с должностью Гука и его болезненную подозрительность?
Некоторые сотрудники МИ-6 сравнивали сложившуюся ситуацию с типичной дилеммой игрока. «Вы играете в рулетку, и у вас накопилась целая куча фишек. Как вы поступите: поставите их все на один последний кон? Или заберете выигранные деньги и встанете из-за стола?» Здесь просчитать риски тоже было нелегко, а ставки уже приобрели астрономическую величину: в случае нового выигрыша можно сорвать огромный куш и получить доступ к самым сокровенным тайнам КГБ, а в случае проигрыша Гордиевского можно потерять навсегда, или же он мог исчезнуть на долгие месяцы без каких-либо известий о его дальнейшей судьбе. Тем временем использовать и распространять полученные от него разведданные будет нельзя. А для самого Гордиевского проигрыш будет означать в конечном счете гибель.
Было что-то странное в тоне полученного сообщения — одновременно повелительном и вежливом. По существовавшей в КГБ традиции председатель лично назначал резидентов, особенно в странах вроде Великобритании, представлявших собой важный объект разведки. В январе, когда стало известно, что пост резидента достанется Олегу, Чебрикова не было в Москве, так что предстоящая встреча могла быть всего лишь официальным утверждением в должности — так сказать, «рукоположением» с участием самого шефа КГБ. Быть может, именно оттого, что Гордиевский еще не был торжественно «помазан» руководством КГБ, Никитенко и не оставил ему никаких секретных материалов и никто не прислал ему шифровальных кодов? Если КГБ подозревал его в измене, почему тогда его не отозвали домой немедленно, а дали двухдневную отсрочку? Возможно, его просто не хотели спугнуть срочным вызовом. Но ведь если они прознали, что он шпион, то почему к нему не подослали молодчиков из Тринадцатого отдела, специалистов по похищению людей, и не привезли в СССР насильно? А если все в порядке, то почему все-таки его не предупредили заблаговременно? Гордиевскому сообщили о его новой роли три месяца назад. Какие еще вопросы вдруг понадобилось обсуждать? И почему их сочли настолько важными и срочными, что об этом нельзя было упомянуть в телеграмме? Вызов поступил от самой верхушки КГБ — это был или тревожный знак, или знак большого уважения, которое теперь внушал Гордиевский.
Браун пытался проникнуть в замыслы КГБ. «Если бы они знали наверняка, они бы не стали так себя вести — и идти на риск, давая ему время улизнуть. Они бы повременили, принялись играть вдолгую, скармливая ему „цыплячий корм“ и выжидая. Они бы могли вернуть его домой и более профессиональными методами. Скажем, прислали бы ему ложное сообщение о смерти матери или нечто подобное».
Совещание закончилось, а план действий так и не был утвержден. Гордиевский согласился зайти на явочную квартиру снова следующим вечером, в пятницу, 17 мая. А пока что он заказал билет на самолет, вылетающий в Москву в воскресенье, и ничем не стал выдавать своего волнения.
Максим Паршиков выезжал из посольского гаража, направляясь на встречу в ресторане, как вдруг, к его удивлению, «к машине наперерез» бросился Гордиевский «и возбужденно заговорил через открытое окно: „Меня вызвали в Москву. Загляните ко мне после обеда, потолкуем“». Через два часа Паршиков зашел к Гордиевскому и увидел, что новый резидент «нервно ходит взад-вперед» по кабинету. Гордиевский рассказал, что его вызывают в Центр — получить окончательное благословение от Чебрикова. Само по себе это не было чем-то ненормальным, и все же, по словам Олега, в способе вызова было что-то странное: «Никто не присылал мне личных писем с заблаговременными предупреждениями. Ну, да делать нечего: съезжу на несколько дней, выясню, в чем дело. В мое отсутствие вы будете моим заместителем. Сидите тихо, ничего не предпринимайте до моего возвращения».
В Сенчури-хаус в кабинет самого К для обсуждения ситуации собрались на совет «шеф с другими главными»: Крис Кервен, недавно назначенный глава МИ-6, Джон Деверелл из МИ-5, отвечавший за страны советского блока, и куратор Гордиевского Саймон Браун. Никакой тревоги они не ощущали. Кое-кто в МИ-6 уверял позднее, что у них-то были серьезные опасения, но задним числом разведчики, как и все остальные, не прочь похвастать стопроцентным зрением. Дело было на мази, и Вероника Прайс с Саймоном Брауном, кураторы, лучше всего знакомые с делом Гордиевского, не видели серьезных оснований прикрывать лавочку прямо сейчас. Деверелл доложил, что в МИ-5 не заметили никаких признаков того, что КГБ засекло их шпиона. «Мы решили, что не можем сказать наверняка, безопасно ли ему возвращаться», — сказал он. Все сошлись на том, что окончательный выбор останется за самим Гордиевским. Его не будут вынуждать возвращаться в Москву, но и не станут склонять к капитуляции. «Все это были жалкие отмазки, — утверждал впоследствии один сотрудник МИ-6. — Его жизнь была в опасности, и нам нужно было защитить его».
В азартной игре главное — интуиция, то самое шестое чувство, которое позволяет игроку предвидеть события и читать мысли противника. Так что же все-таки знали в КГБ?
В действительности в Москве знали очень мало.
Полковник Виктор Буданов из Управления «К» (контрразведки) был, по общему мнению, «самым опасным человеком во всем КГБ». В 1980-е он служил в Восточной Германии, и там одним из сотрудников КГБ, находившихся под его началом, был молодой Владимир Путин. В Управлении «К» его роль состояла в том, чтобы изучать «пороки развития», обеспечивать безопасность в разных ответвлениях разведслужбы Первого главного управления, искоренять коррупцию среди сотрудников и выслеживать шпионов. Несгибаемый коммунист Буданов — худой и даже иссохший — обладал лисьим лицом и умом высококвалифицированного юриста. Его подход к работе отличался методичностью и придирчивостью. Он считал себя детективом, пекущимся о неукоснительном соблюдении правил, а вовсе не вершителем возмездия. «Мы всегда строго следовали букве закона, по крайней мере в то время, когда я еще служил и в контрразведке, и в разведке КГБ СССР. Мне никогда не приходилось идти ради какой-то цели на операции, которые приводили бы к нарушению закона на территории СССР». Он мог поймать шпиона, опираясь исключительно на улики и дедукцию.
Буданов узнал от начальства, что внутри КГБ есть крот, занимающий высокое положение. Имя его пока не называлось, зато было понятно, где он работает. Если предателя курирует британская разведка, вполне вероятно, что он сидит где-то в лондонской резидентуре. Перед отъездом из Лондона Леонид Никитенко, опытный контрразведчик, прислал в Москву ряд донесений, в которых критиковал Гордиевского и ставил под вопрос его благонадежность. Возможно, наводка, полученная от Эймса, в сочетании с непроверенными подозрениями Никитенко, указывала на нового резидента. Итак, подозрение падало на Гордиевского, но не на него одного. Вторым подозреваемым был сам Никитенко. Третьим — Паршиков, хотя его пока еще не отзывали. Были и другие. Сети МИ-6 были раскинуты повсюду, и крот мог оказаться где угодно. Буданов не знал наверняка, что предатель — Гордиевский, но он точно знал, что, как только человек, которого теперь ищут, окажется в Москве, его вину или невиновность можно будет установить, не боясь, что он в любой момент сбежит.
На следующее утро, в пятницу, 17 мая, из Центра пришла вторая срочная телеграмма, адресованная Гордиевскому, на сей раз — более успокоительного содержания: «Во время пребывания в Москве вам предстоит обстоятельно доложить о положении в Англии и о проблемах, актуальных для этой страны, разумеется, подкрепив свое сообщение убедительными фактами». Вот это уже наводило на мысли об обычном заседании: подобные требования подготовить как можно больше информации были как раз в порядке вещей. Горбачев, пришедший к власти всего три месяца назад, проявлял огромный интерес к Британии после своего успешного визита в конце минувшего года. А Чебриков славился строгой приверженностью протоколу. Пожалуй, поводов для опасений здесь нет.
В тот вечер Гордиевский и его кураторы вновь встретились на явочной квартире. Вероника Прайс принесла копченую семгу и хлеб с отрубями. Магнитофон был поставлен на запись.
Саймон Браун обрисовал ситуацию. В МИ-6 не располагали никакими разведданными, которые указывали бы на то, что вызов Олега в Москву представляет угрозу. Но если Гордиевский хочет перебежать сейчас, то он волен это сделать, и тогда его самого и его семью будут оберегать и окружать заботой всю оставшуюся жизнь. Если же он решит продолжать деятельность, то Британия останется навеки в долгу перед ним. Дорога привела к распутью. Можно выйти из игры прямо сейчас — сгрести все выигранные фишки и пойти в кассу за огромным выигрышем. Если же Гордиевский вернется из Москвы, получив персональное благословение на должность резидента от председателя КГБ, тогда британцы могут сорвать еще больший куш.
Позднее Браун рассуждал так: «Если бы он решил не ехать в Москву, никто не стал бы разубеждать его, об этом даже речи не шло. Думаю, он понимал, что мы говорим вполне искренне. Я, как мог, старался держаться беспристрастно».
Куратор закончил свой доклад заявлением: «Если вы считаете, что все это дурно пахнет, прекращайте деятельность сейчас же. Окончательное решение остается за вами. А если вы вернетесь в Москву и окажется, что дело плохо, тогда мы задействуем план эксфильтрации».
Нередко бывает так, что два человека слышат одни и те же слова — и при этом совершенно разные вещи. Именно так и произошло в тот момент. Браун думал, что предлагает Олегу путь к отступлению, одновременно напоминая о том, что, быть может, они упускают бесценную возможность. Гордиевскому же показалось, что ему велят возвращаться в Москву. Он надеялся услышать от своего куратора, что он сделал уже достаточно и теперь настала пора с честью отступить. Но Браун, следуя полученным инструкциям, не давал ему никаких подсказок. Решение должен был принять сам Гордиевский.
Несколько минут, сгорбившись и сидя неподвижно, русский хранил гробовое молчание. Он явно напряженно думал. А потом сказал: «Мы оказались на пороге, и отступить сейчас значило бы нарушить долг и перечеркнуть все, что я уже сделал. Риск есть, но это риск управляемый, и я готов на него пойти. Я возвращаюсь в Москву».
Позже один сотрудник МИ-6 сказал об этом так: «Олег понял: мы хотим, чтобы он продолжал работу, и он отважно продолжил идти по этому пути, потому что никаких четких сигналов тревоги не было».
Теперь взялась за дело Вероника Прайс, разработавшая план побега.
Она повторила вместе с Гордиевским все этапы операции «Пимлико». Он снова внимательно рассмотрел фотографии, изображавшие место встречи. Снимки были сделаны зимой, когда большой валун у съезда на запасную полосу четко выделялся на фоне снега. Олег задумался, сумеет ли он без труда узнать это место летом, когда все деревья покрыты листвой.
Все время, пока Гордиевский оставался в Британии, план побега поддерживался в состоянии готовности. Всех новых сотрудников МИ-6, направлявшихся в Москву, посвящали во все подробности операции, показывали им фотографию шпиона «Пимлико» (никогда не сообщая при этом его настоящего имени) и просили запомнить всю сложную пантомиму, касавшуюся подачи опознавательных сигналов, установления контакта и места подбора для эксфильтрации. Перед отъездом из Британии этих сотрудников и их жен отвозили в лес под Гилдфордом, где они тренировались залезать в багажник машины и вылезать из него, чтобы в точности представлять себе, с какими именно сложностями может быть сопряжено спасение этого безымянного шпиона и его семьи. В начале командировки каждому из этих сотрудников поручали доехать в Россию на автомобиле из Британии через Финляндию, чтобы познакомиться с маршрутом, с условленным местом подбора и пограничным пунктом. В 1979 году, когда Саймон Браун сам впервые проехал через этот пограничный пост, он насчитал семь сорок, сидевших на шлагбауме, и тут же вспомнил строчку из детской считалки про сорок: «Семь — значит, что-то в тайне хранится».
Каждый раз, когда Гордиевский приезжал в Москву, и в течение нескольких недель до и после его приезда команда МИ-6 получала распоряжение: являться на место подачи условного сигнала на Кутузовском проспекте не только раз в неделю, но и каждый вечер. Идеальным временем для подачи сигнала был вечер вторника, потому что в таком случае экфильтрационная команда могла бы попасть на место встречи уже через четыре дня — во второй половине ближайшей субботы. Но в экстренной ситуации команда была готова приступить к делу в любой день: например, если бы сигнал был подан в пятницу, то эксфильтрация могла бы состояться в следующий четверг (задержка объяснялась прихотливым графиком работы гаража, где дипломатам выдавали особые автомобильные номерные знаки). У одного сотрудника остались яркие воспоминания об этом дополнительном бремени, которое ложилось на плечи британских шпионов: «Каждый вечер на протяжении восемнадцати не вполне прогнозируемых заранее недель в году нам нужно было приходить к хлебному магазину рядом с щитами, где висели рядом расписание автобусов и концертов. Там мы ждали — с неизменным страхом, — не появится ли Пимлико. Хуже всего бывало зимой: стояла такая тьма с туманом, что ничего не было видно, можно было только ходить взад-вперед. Снег, соскобленный с тротуаров, был навален в высокие сугробы, так что уже шагах в сорока никого нельзя было толком разглядеть. И сколько раз в неделю могла жена объявлять, что как раз сегодня она забыла купить хлеб, и говорить мужу: „Тебе не трудно выскочить в двадцатипятиградусный мороз за последней партией черствых булочек?“»
Подготовка к операции «Пимлико» была одной из важнейших задач резидентуры МИ-6: тщательно разработанный план для спасения шпиона, которого часто не было в стране, следовало иметь наготове к тому моменту, когда он там появится. Каждый сотрудник МИ-6 держал у себя в квартире, всегда под рукой, серые брюки, зеленую сумку от Harrods и запас шоколадок KitKat и батончиков Mars.
План дополнили еще одним элементом. Если, оказавшись в Москве, Гордиевский поймет, что попал в беду, он мог оповестить Лондон: нужно было позвонить Лейле по домашнему номеру и спросить, как успехи детей в школе. Телефон прослушивался, и МИ-5 услышит этот разговор. Если такой предупредительный звонок поступит, в МИ-6 доложат об этом, и московская команда будет приведена в полную боевую готовность.
Наконец, Вероника Прайс вручила ему два маленьких пакета. В одном были какие-то таблетки. «Они помогут вам сохранять бодрость», — пояснила она. Во втором оказался мешочек с нюхательным табаком от Джеймса Дж. Фокса, табачника с площади Сент-Джеймс. Если Гордиевский осыплет себя этим табаком, залезая в багажник машины, то помешает служебным собакам на границе унюхать его и, возможно, заглушит запах химических веществ, которые кагэбэшники, вероятно, разбрызгают на его одежду и обувь. На финской стороне границы в укромном месте Олега будет ждать команда сотрудников МИ-6, готовых доставить его в Британию. Если этот момент когда-нибудь наступит, сказала Вероника, она лично поедет туда и встретит его.
В тот вечер Гордиевский сказал Лейле, что летит в Москву «на совещание, которое должно состояться на самом верху», и вернется в Лондон через несколько дней. В нем чувствовались нервозность и нетерпение. «Его должны были утвердить в должности резидента. Я тоже очень волновалась». Лейла заметила, что ногти у мужа обгрызены до самого мяса.
Суббота, 18 мая 1985 года, стала днем активного шпионажа в трех столицах.
В Вашингтоне Олдрич Эймс принес в банк 9 тысяч долларов наличными и положил их на свой счет. Росарио он сказал, что деньги ему одолжил старый друг. Эйфория от того, что предательство принесло плоды, начала испаряться, и стала проступать трезвая мысль: любой из шпионов ЦРУ может прознать о его контакте с КГБ и разоблачить его.
В Москве КГБ готовился к приезду Гордиевского.
Виктор Буданов велел тщательно обыскать квартиру на Ленинском проспекте, но там не нашли ничего обличающего, если, конечно, не считать большого количества сомнительных западных книг. Красиво оформленное издание сонетов Шекспира не привлекло особого внимания сыщиков. Техники из Управления «К» установили в квартире незаметные «жучки», в числе прочего внедрив их в телефон. В светильники вмонтировали камеры. Когда вся кагэбэшная команда покидала квартиру, слесарь-замочник аккуратно запер входную дверь.
Тем временем Буданов внимательно изучал личное дело Гордиевского. Не считая развода, внешне его биография выглядела безупречно: сын и брат сотрудников КГБ, хорошо показавших себя, женат на дочери генерала КГБ, преданный коммунист, пробившийся наверх благодаря старанию и способностям. Однако, присмотревшись внимательнее, можно было обнаружить и другую сторону жизни товарища Гордиевского. Материалы расследования КГБ никогда не будут опубликованы, поэтому невозможно точно сказать, что именно и когда именно узнало следствие.
Но пищи для размышлений у Буданова могло появиться предостаточно: близкая дружба Гордиевского в МГИМО со студентом-чехом, будущим перебежчиком; его интерес к западной культуре, в том числе к запрещенной литературе; слова бывшей жены о двуличии и притворстве мужа; повышенный интерес к британским делам из секретного архива, которые Гордиевский досконально изучил перед командировкой в Лондон; и, наконец, подозрительная быстрота, с какой британцы выдали ему визу.
Как это уже проделывало ЦРУ, Буданов выискивал связи и закономерности. КГБ лишился ценных агентов в Скандинавии — Хаавик, Берглинга и Трехолта. Не могло ли быть, что Гордиевский, находясь в Дании, узнал об этих агентах и донес на них западной разведке? А позже случилась история с Майклом Беттани. Никитенко мог подтвердить, что Гордиевский знал о странных письмах от англичанина, вызывавшегося шпионить на КГБ. Британцы поймали Беттани с удивительным проворством.
При ближайшем рассмотрении в трудовом стаже Гордиевского тоже можно было бы обнаружить немало интересного. В первые месяцы своего пребывания в Британии он справлялся с работой так плохо, что даже поговаривали об отправке его домой, но потом круг его контактов вдруг заметно расширился, а глубина и качество его разведывательных сводок столь же заметно возросли. Решение британского правительства выдворить Игоря Титова, а вскоре после него и Аркадия Гука в то время не показалось странным, но сейчас вызывало вопросы. Возможно, узнал Буданов и о прежних подозрениях Никитенко — особенно тех, что возбудили в нем отчеты, поступавшие от Гордиевского в дни визита Горбачева и выглядевшие так, словно их скопировали с документов британского МИДа.
Где-то в глубинах его личного дела пряталась и еще одна возможная подсказка. Еще в 1973 году, во время второй командировки в Данию, Гордиевский вступал в прямые контакты с британской разведкой. Известный сотрудник МИ-6 Ричард Бромхед вышел на него и пригласил его пообедать. Гордиевский тогда повел себя в соответствии с правилами: прежде чем встретиться с англичанином в копенгагенском отеле, проинформировал резидента и получил официальное разрешение на встречу. Из его отчетов, составленных в те дни, можно было сделать вывод, что контакты с Бромхедом ни к чему не привели. Но было ли это правдой? Или, быть может, Бромхед завербовал Гордиевского еще тогда, одиннадцать лет назад?
Косвенные улики, несомненно, компрометировали его, но их нельзя было счесть окончательно изобличающими. Впоследствии, давая интервью «Правде», Буданов хвастался, что лично «вычислил Гордиевского в рядах сотрудников ПГУ КГБ». Но на этом этапе у него все еще не было железных доказательств, а его педантичный законоведческий ум мог быть доволен лишь тогда, когда удалось бы поймать шпиона с поличным или вырвать у него полное признание вины, причем желательно именно в таком порядке.
А в Лондоне команда Ноктона на двенадцатом этаже Сенчури-хаус не находила себе места от волнения.
«Мы чувствовали тревогу и огромный груз ответственности, — говорил потом Саймон Браун. — Пожалуй, мы уже примирялись с тем, что Олег едет навстречу своей гибели. Но тогда я думал, что мы приняли верное решение, иначе бы я попытался отговорить его. Это выглядело как просчитанный риск, управляемая азартная игра. В конце концов, мы же с самого начала понимали, что сильно рискуем. Такая уж наша работа».
Перед отъездом Гордиевскому нужно было выполнить одно задание для КГБ: оставить «закладку» для нелегального агента, недавно прибывшего в Британию и действовавшего под кодовым именем Дарио[69]. Обычно операциями с нелегалами в Британии занимался какой-нибудь сотрудник линии «Н» в резидентуре, однако это задание сочли настолько важным, что его выполнение возложили на нового резидента лично.
В марте из Москвы прислали 8 тысяч фунтов стерлингов в неотслеживаемых двадцатифунтовых банкнотах с распоряжением передать эти деньги агенту Дарио.
Деньги можно было бы просто вручить нелегалу сразу по прибытии, но КГБ никогда не делал выбор в пользу простых решений, если можно было придумать что-нибудь позаковыристее. Операция «Граунд» была наглядным примером подобного чрезмерного усложнения.
Для начала в техническом отделе резидентуры изготовили полый искусственный кирпич — тайник для купюр. Дарио должен был просигнализировать о своей готовности забрать деньги, оставив пометку голубым мелом на столбе уличного фонаря с южной стороны площади Одли неподалеку от американского посольства. Гордиевскому же было поручено оставить нафаршированный деньгами кирпич (положив его в полиэтиленовый пакет) на полосе дерна между дорожкой и оградой на северной стороне Корамс-Филдс, парка в Блумсбери. О получении передачи Дарио должен был сообщить, прилепив кусок жевательной резинки к верху бетонного столба возле паба Ballot Box у станции метро «Садбери-Хилл».
Гордиевский описал детали операции Брауну, и тот передал их в МИ-у.
Вечером в субботу, 18 мая, Гордиевский повел дочерей поиграть в парк Корамс-Филдс. Без пятнадцати восемь он оставил в условленном месте пакет с кирпичом. Единственными людьми в окрестностях были женщина, катившая коляску с младенцем, и велосипедист, возившийся с цепью своего велосипеда. Женщина эта была одним из опытнейших экспертов наружного наблюдения из МИ-у, и в коляске у нее была незаметно спрятана фотокамера. Велосипедистом же был Джон Деверелл, глава отдела «К». Через несколько минут на аллее парка показался быстро шагавший человек. Наклонившись, чтобы подобрать пакет, он на полсекунды остановился, и этого оказалось достаточно, чтобы скрытая камера поймала его лицо. Человек торопливо зашагал в северном направлении, и Деверелл покатил за ним следом, но потом тот нырнул на станцию метро «Кингз-Кросс». Деверелл быстро припарковал свой велосипед и бросился вниз по эскалатору, но было слишком поздно: агент уже растворился в толпе. Не удалось МИ-у и засечь человека, прилепившего жевательную резинку к бетонной тумбе рядом с невзрачным пабом на северо-западе Лондона. Этот Дарио оказался очень ловким профессионалом. Гордиевский отправил в Москву телеграмму, рапортуя об успешном выполнении операции «Граунд». Уже то, что ему поручили выполнить такую секретную миссию, само по себе наводило на мысль, что ему все-таки продолжают доверять.
Все еще оставалось время выйти из игры, исчезнуть. Но во второй половине дня в воскресенье Гордиевский распрощался с женой и детьми. Он понимал, что, быть может, никогда больше их не увидит. Он старался не показывать своих чувств, но, пожалуй, поцеловал Лейлу и обнял Анну и Марию чуть крепче, чем обычно. А потом сел в такси и поехал в Хитроу.
10 мая в четыре часа дня Олег Гордиевский, проявив невероятное мужество, поднялся на борт самолета «Аэрофлота» и вылетел в Москву.
Часть третья
Глава 12
Игра в кошки-мышки
Гордиевский снова проверил все замки, внутренне молясь о том, чтобы произошла ошибка. Но нет, ему не померещилось: третий замок — точнее, внутренний засов, которым Олег никогда не пользовался и давно потерял ключ от него, — оставался заперт. Значит, Гордиевский под колпаком у КГБ. «Вот и все, — мелькнуло у него в голове, а спину прошиб холодный пот. — Скоро меня прикончат». Теперь в любой момент, когда КГБ заблагорассудится, его арестуют, подвергнут допросу, выпытают все до последней тайны, а потом убьют. Его ждет «высшая мера наказания» — пуля в затылок и безымянная могила.
Но, пока мысли Гордиевского от ужаса разбегались в разные стороны и буксовали, его натренированный ум уже понемногу начинал включаться и соображать. Он ведь знал, как работает КГБ. Если бы в Управлении «К» обнаружили весь масштаб его шпионской деятельности, он бы ни за что не дошел до двери собственной квартиры: его арестовали бы прямо в аэропорту, и сейчас он сидел бы в одной из подземных камер на Лубянке. КГБ ведь шпионит за всеми. Возможно, в том, что к нему в квартиру проникали, нет ничего страшного: просто рутинная слежка. Совершенно ясно: даже если он попал под подозрение, следователи еще не собрали достаточного количества улик, чтобы схватить его.
Как ни странно — учитывая полное отсутствие моральных ограничений у этой организации, — в КГБ неукоснительно придерживались действующих законов. Гордиевский был уже полковником КГБ. Его нельзя было задержать просто по подозрению в измене. Относительно пыток, какие можно применять к полковникам, существовали строгие правила. Над Лубянкой все еще висела мрачная тень больших чисток 1936–1938 годов, когда погибло множество невиновных людей. На дворе же стоял 1985 год, и теперь необходимо было собрать доказательства, провести суд и надлежащим образом вынести приговор. Следователь КГБ Виктор Буданов делал ровно то, что в МИ-5 проделали в отношении Майкла Беттани, и ровно то, что делает любая нормальная контрразведка: он наблюдал за подозреваемым, слушал и ждал, когда тот совершит какую-нибудь ошибку или вступит в контакт с куратором, — вот тогда его можно будет брать. Разница была лишь в одном: Беттани не знал, что за ним следят, а Гордиевский знал. Или думал, что знает.
Однако ему нужно было проникнуть в квартиру. В подъезде жил один слесарь, бывший кагэбэшник, разбиравшийся в замках. У него нашелся целый набор инструментов, и он охотно помог соседу, забывшему ключ, попасть домой. Войдя в квартиру, Гордиевский невзначай осмотрелся — нет ли других признаков того, что здесь побывали ищейки из КГБ? Можно было не сомневаться, что тут все напичкано «жучками». Если техники установили где-то камеры, значит, за ним будут пристально наблюдать. Поиск «жучков» как раз можно было счесть подозрительным поведением. Отныне ему нужно помнить о том, что, скорее всего, каждое его слово будет услышано, каждый шаг замечен, каждый телефонный разговор записан. Нужно вести себя так, как будто ничего необычного не происходит. Нужно держаться спокойно, беспечно и уверенно. Но как раз спокойствия, беспечности и уверенности ему отчаянно недоставало. В квартире не видно было никакого беспорядка. В шкафчике для медикаментов Олег нашел упаковку влажных салфеток, запечатанную фольгой. Кто-то продавил фольгу пальцем. «Сделать эту дырку мог кто угодно: и Лейла, и кто-то из любопытствующих гостей, — сказал себе Гордиевский. — Вполне возможно, что она была тут с самого начала». А может быть, это сделал сыщик из КГБ, повсюду искавший улики. В коробке под кроватью хранились книги «крамольных», с точки зрения советской цензуры, писателей: Оруэлла, Солженицына, Максимова. Однажды Любимов дал ему совет: не держать эти книги на виду, в шкафу. В коробке все лежало как было. Гордиевский окинул взглядом книжный шкаф и отметил, что томик шекспировских сонетов, изданный Оксфордским университетом, стоит на месте, его явно никто не трогал.
Гордиевский позвонил домой Николаю Грибину и сразу понял: что-то не так. «Голос его звучал сухо, без обычных теплых, радушных интонаций».
Ночью он никак не мог уснуть, его не отпускал страх, в голове безостановочно крутились одни и те же вопросы: «Кто меня выдал? Что именно известно КГБ?»
Наутро Гордиевский отправился в Центр. Он не заметил за собой хвоста, но само по себе это ничего не значило. В Третьем отделе его встретил Грибин. Держался он «как обычно, но все-таки не совсем». «Вы должны как можно лучше подготовиться к предстоящей встрече, — сказал Грибин. — Ведь как-никак с вами хотят поговорить два человека из высшего руководства». Потом он «пустился в пространные рассуждения» о том, чего именно могут ожидать от нового лондонского резидента Чебриков и Крючков. Гордиевский сообщил, что привез, как его и просили, объемистые материалы о Британии: о ее экономике, отношениях с США, достижениях в науке и технике. Грибин слушал и кивал.
А через час Гордиевского вызвали к Виктору Грушко, который был теперь заместителем главы ПГУ. Украинец, всегда отличавшийся благожелательностью, был не похож на себя прежнего: на Гордиевского холодно смотрел начальник «с безжалостным инквизиторским взглядом».
— Что вы можете сказать относительно Майкла Беттани? — спросил он. — Все выглядит так, что, несмотря ни на что, он действительно желал сотрудничать с нами. Вполне возможно, из него вышел бы со временем второй Филби.
— Я ни чуточки не сомневаюсь в том, что он и в самом деле готов был работать на нас, — ответил Гордиевский. — Причем, как представляется мне, он мог бы стать значительно более ценным агентом для КГБ, чем Филби.
Тут он, конечно, сильно перегнул палку.
— Так как же мы допустили подобный просчет? И был ли Беттани искренен с самого начала?
— Думаю, да. Почему товарищ Гук не пожелал иметь с ним дело, это мне и самому невдомек.
Грушко немного помолчал, а потом сказал:
— Гук, между тем, был выслан из страны. И это вопреки тому факту, что с его стороны не было предпринято ни единой попытки связаться с Беттани. Мало того, он даже слышать не хотел ни о чем подобном. Так почему же в таком случае английские спецслужбы сочли необходимым объявить нашего резидента персоной нон грата?
Было в лице и в тоне Грушко нечто такое, от чего Гордиевскому сделалось не по себе. Он сказал:
— Он нередко вел себя именно так, как мог бы вести себя только кагэбэшник. Вы бы поглядели, с каким важным, напыщенным видом разъезжал он постоянно в своем дорогом «мерседесе», послушали бы, как превозносил он КГБ, разыгрывая при этом из себя генерала. Англичанам, естественно, не могло понравиться такое.
Грушко переменил тему.
Через несколько минут Грушко вызвал сотрудника, которому поручено было встретить Гордиевского в аэропорту, и принялся громко отчитывать его: «Что случилось? Вам поручили встретить Гордиевского и отвезти его домой. Где вы были?» Тот в свое оправдание пробормотал, что ждал в другом крыле аэровокзала. Гордиевскому вся эта сцена казалась разыгранной нарочно для него. Быть может, в КГБ сознательно решили никого не посылать в аэропорт, чтобы проследить, куда Гордиевский поедет и что станет делать.
Гордиевский вернулся к себе в кабинет, стал перебирать бумаги и ждать, когда его вызовут к руководству КГБ, что будет означать, что все в порядке, или, наоборот, его похлопает по плечу кто-то из контрразведки, и это будет означать конец. Не произошло ни того, ни другого. Он поехал домой и провел еще один вечер в раздумьях, еще одну ночь — в полных страха догадках. На следующий день повторилось все то же самое. Гордиевскому впору было заскучать — если бы не ужас, не отпускавший его ни на минуту. На третий день Грибин сказал, что уйдет с работы пораньше, и предложил подбросить Олега на машине до центра Москвы.
— А что, если я вдруг понадоблюсь, а меня не окажется на месте? — спросил Гордиевский.
— О нет, сегодня вечером вас уж точно никуда не станут вызывать, — ответил Грибин.
Шел дождь, машина то и дело застревала в пробках. Гордиевский, стараясь сохранять небрежный тон, заговорил о том, что здесь он только впустую теряет время, а в Лондоне его ждет масса неотложной работы.
— Если нет каких-то веских оснований для дальнейшего пребывания в Москве, то я предпочел бы вернуться в Лондон и заняться работой. Ее же невпроворот: парламентский год подходит к концу, вот-вот состоится важная конференция стран — членов НАТО, сотрудники, курирующие осведомителей, нуждаются в руководстве…
Грибин только отмахнулся от его сетований — с какой-то наигранной беспечностью.
— Ерунда все это! — сказал он. — Люди порой отсутствуют месяцами, и то ничего. Незаменимых людей нет.
На следующий день Гордиевского опять никто никуда не вызвал, и опять он, борясь с внутренней паникой, всем своим видом показывал, будто все идет своим чередом. На следующий день — то же самое. Происходил какой-то странный обманный танец, в котором и Гордиевский, и КГБ как будто двигались синхронно, а на самом деле каждый ждал, когда же другой споткнется. Напряжение не ослабевало, и поделиться тревогой Гордиевскому было не с кем. Он не замечал наружного наблюдения, но шестое чувство подсказывало ему, что уши и глаза — повсюду, на каждом углу, в каждой тени. Большой Брат следил за ним. Вернее, за ним следил вон тот человек на автобусной остановке, сосед на улице, бабушка с самоваром в вестибюле. А может быть, ему это только мерещилось. Дни проходили один за другим, и Гордиевскому уже начинало казаться, что, быть может, его страхи напрасны. А потом явилось доказательство того, что все-таки нет.
В коридоре Третьего отдела он случайно встретил коллегу из Управления «С» (отвечавшего за работу сети нелегалов) Бориса Бочарова, и тот спросил его: «Олег, что творится в Британии? Почему отзывают всех нелегалов?» Гордиевский постарался скрыть изумление. Команда «отбой!» глубоко засекреченным разведчикам могла означать только одно: КГБ узнал, что их деятельность в Великобритании скомпрометирована, и спешно сворачивал свою сеть нелегалов. Агент Дарио, получивший недавно кирпич, нафаршированный деньгами, пробыл в Лондоне в качестве тайного шпиона меньше недели. Его личность так и не удалось установить.
А потом Гордиевский обнаружил на своем столе ящик с надписью «лично товарищу Грушко», прибывший с дипломатической почтой из лондонской резидентуры. Поскольку Гордиевский был теперь лондонским резидентом, люди, разбиравшие почту в Москве, предположили, что он же сам и отправил эту посылку в Москву. Дрожащими руками он встряхнул ящик и услышал сухой стук и звяканье металлической пряжки. Все стало ясно: это был его собственный портфель, оставленный им на столе в Лондоне, а в нем — важные бумаги. КГБ продолжал собирать свидетельства. Сохраняй спокойствие, приказал он сам себе. Веди себя как ни в чем не бывало. Он передал посылку в секретариат Грушко и вернулся к своему столу.
«Рассказывают, что солдаты, когда слышат грохот артиллерии, впадают в панику. Именно это произошло и со мной. Я не мог даже припомнить план побега. А потом я подумал: „Все равно этот план неосуществим. Можно про него забыть и просто ждать пули в затылок“. Меня словно парализовало».
В тот вечер он позвонил в кенсингтонскую квартиру. К телефону подошла Лейла. Записывающие устройства включились и в Лондоне, и в Москве.
«Как там успехи девочек в школе?» — спросил Гордиевский, четко выговаривая слова.
Лейла, не уловив ничего необычного, ответила, что у девочек все хорошо. Они проговорили несколько минут, а потом Гордиевский положил трубку.
Грибин, изо всех сил разыгрывая дружелюбие, стал настойчиво зазывать Гордиевского к себе на дачу на выходные. Очевидно, ему дали задание: по возможности не спускать глаз с подчиненного. Гордиевский вежливо отклонил приглашение, объяснив, что после возвращения в Москву еще не виделся с матерью и сестрой. Но Грибин продолжал настаивать, говоря, что им необходимо повидаться, и сказал, что они с женой сами к нему придут. Несколько часов кряду, сидя вокруг кофейного столика с мраморной столешницей, они говорили о жизни в Лондоне, о том, как подрастают девочки и что они уже говорят на английском языке как на родном. Дочь Мария даже выучила наизусть молитву «Отче наш». Со стороны могло бы показаться, что Гордиевский — просто гордый за детей папаша, рассказывающий старому приятелю и близкому коллеге за чашкой чая о радостях заграничной командировки. В действительности же между ними происходила жесткая и необъявленная психологическая дуэль.
В понедельник, 27 мая, Гордиевский уже еле держался на ногах от расстройства сна и нервного напряжения. Перед выходом из дома он проглотил одну из таблеток, которыми снабдила его Вероника Прайс. Это были кофеинсодержащие стимуляторы, какие продавали в аптеках безрецептурно, — обычно их употребляли студенты, чтобы ночами напролет готовиться к экзаменам. Добравшись до Центра, Гордиевский ощутил некоторую бодрость, утомление как будто отступило.
Он просидел за столом всего несколько минут, как вдруг зазвонил телефон — аппарат без диска, связывавший напрямую только с кабинетом начальника отдела.
В Гордиевском воспрянула слабая надежда. Может быть, вот-вот состоится долгожданная встреча с верхушкой КГБ.
— Наконец-то! Кто-то из высшего руководства? — спросил он у Грушко, когда тот попросил его зайти к нему.
— Пока нет, — вкрадчиво ответил Грушко. — с вами желают побеседовать два человека по поводу внедрения наших агентов в высшие звенья государственной структуры в Англии.
Еще он добавил, что встреча состоится не в его кабинете, а где-то в другом месте, за пределами здания. Сам Грушко тоже будет на ней присутствовать. Все это показалось Гордиевскому весьма странным.
Испытывая нарастающее волнение, Гордиевский оставил портфель на столе в кабинете и пошел вниз, в вестибюль. Вскоре появился Грушко и повел его к своей машине, уже ждавшей во дворе. Водитель выехал не из главных, а из задних ворот и, проехав пару километров, остановился возле обнесенного высоким забором комплекса, предназначенного для гостей и посетителей ПГУ. Дружелюбно поддерживая беседу, Грушко повел Гордиевского к небольшому дачному домику за невысоким сетчатым забором, симпатичному на вид и, похоже, не охраняемому. Стояла влажная духота, но в домике сохранялась приятная прохлада. В центре располагался узкий холл, обставленный новой мебелью из мореного дерева, а по обеим сторонам тянулись двери в спальни. У двери стояла прислуга: мужчина лет за пятьдесят и женщина помоложе. Они приветствовали Гордиевского с преувеличенной почтительностью, словно иностранного высокого гостя.
Сели за стол, и Грушко достал бутылку.
— Взгляните, какой раздобыл я армянский коньяк! — сказал он весело и наполнил рюмки.
Вслед за рюмками слуги принесли тарелки и блюдо с бутербродами — с сыром, ветчиной и красной икрой.
И тут в комнату вошли двое. Гордиевский никогда не встречал их раньше. У того, что постарше, лицо было изрезано глубокими морщинами, что говорило о пристрастии к табаку и крепким напиткам. Его коллега — высокий, с худощавым длинным лицом — был заметно моложе своего напарника. Ни тот, ни другой не улыбались. Грушко не стал представлять их по именам, лишь сказал, что эти двое — «как раз те люди, которые хотели побеседовать о возможности внедрения наших агентов в Англии». Гордиевский разволновался еще больше: «Я подумал: „Что за чушь! Какие еще агенты в Англии. Речь пойдет совсем о другом“». Грушко же, продолжая разыгрывать хлебосольного хозяина, созвавшего всех на дружеский деловой обед, сказал: «Давайте сперва перекусим, а делом займемся потом». Прислуга снова разлила по рюмкам коньяк. Гордиевский вслед за остальными выпил. Потом на столе появилась еще одна бутылка. Всем снова налили, и снова все выпили. Незнакомцы говорили о каких-то пустяках. Тот, что постарше, курил одну сигарету за другой.
А потом с ошеломительной внезапностью Гордиевский ощутил, как все вокруг словно пошло рябью и перетекло в галлюцинаторное видение: продолжая сознавать себя лишь наполовину, он как будто наблюдал теперь за самим собой со стороны, откуда-то издалека, сквозь преломляющее и искажающее реальность стекло.
В коньяк Гордиевскому явно подлили «сыворотку правды» — некое психотропное вещество, разработанное КГБ и известное как СП-117: разновидность тиопентала натрия, содержащая быстродействующий анестетик-барбитурат, без запаха, цвета и вкуса. Словом, это был химический коктейль, призванный вызывать расторможение и развязывать язык. Всем остальным слуга подливал коньяк из первой бутылки, а Гордиевскому, незаметно для него, — из другой.
Из двух неназванных тот, что постарше, как потом выяснилось, был генералом Сергеем Голубевым, главой Пятого отдела Управления «К», занимавшегося всеми подозрительными случаями в ходе внутренних расследований. Вторым был полковник Виктор Буданов, один из самых опытных следователей в КГБ.
Они начали задавать вопросы, а Гордиевский — отвечать на них, лишь смутно сознавая, что он говорит. Однако часть его мозга продолжала сохранять бдительность и защищаться. «Будь начеку», — говорил себе Гордиевский. Теперь, продираясь сквозь коньячно-наркотический туман, задыхаясь от испарений пота и страха, он боролся за жизнь. Ему доводилось слышать о том, что КГБ, желая вырвать у подозреваемых правду, иногда применяет не физические пытки, а наркотические препараты, но совершенно не ожидал, что подобной химической атаке подвергнется его собственная нервная система.
Впоследствии Гордиевский так и не смог во всех подробностях восстановить в памяти происходившее в течение следующих пяти часов. Он припоминал лишь некоторые эпизоды, будто вылавливая из медикаментозного марева отдельные кусочки жуткого кошмара и пытаясь склеить из них внятную картину. Перед ним внезапными вспышками проносились яркие сцены, обрывки слов и фраз, нависающие над ним грозные лица допросчиков.
На помощь ему, как ни странно, пришел не кто иной, как Ким Филби — престарелый британский шпион, доживавший свой век в Москве. «Никогда не сознавайтесь»[70], — внушал когда-то Филби слушавшим его студентам, будущим кагэбэшникам. И вот теперь, когда Гордиевский чувствовал, как его мозг все больше поддается действию психоактивного вещества, в его голове вдруг прозвучали те слова Филби. «Как и Филби, я стал все отрицать. „Нет, нет, нет“, — твердил я на все вопросы. Во мне заговорил инстинкт».
Буданову и Голубеву, похоже, вздумалось поговорить о литературе — об Оруэлле и Солженицыне.
— Почему вы держите у себя все эти антисоветские произведения? — допытывались они. — Пользуясь статусом дипломата, вы ввозили литературу, запрещенную, как вам было прекрасно известно, в нашей стране.
— Но я, как сотрудник сектора «ПР», просто обязан знакомиться с подобного рода литературой, — оправдывался он. — Без этого не обойтись. В таких книгах содержится много полезного для моей профессии.
Вдруг рядом с ним появилось лицо Грушко, расплывавшееся в улыбке:
— Молодец, Олег! То, что вы говорите, очень интересно! Продолжайте в том же духе! Расскажите им, пожалуйста, все как есть.
Потом Грушко опять куда-то исчез, и снова над Гордиевским нависли лица допросчиков.
— Мы знаем, что вы — английский агент. У нас имеются неопровержимые доказательства совершенного вами преступления. Вам лучше признаться во всем! Признайтесь же!
— Нет! Мне не в чем признаваться.
Едва держась на стуле, обливаясь потом, Гордиевский замечал, что его сознание то и дело отключается.
Буданов говорил мягким успокаивающим голосом, будто увещевая капризного ребенка:
— Несколько минут назад вы ведь уже признались во всем. Повторите же это еще раз. Подтвердите все то, что сказали тогда. Повторите признание.
— Я ни в чем не виноват, — твердил Гордиевский, цепляясь за собственную ложь, как утопающий за соломинку.
Он припоминал, что в какой-то момент, пошатываясь, встал и ринулся в ванную комнату, и там его сильно вытошнило в раковину. Прислуга смотрела на него с нескрываемой неприязнью — вся их почтительность куда-то улетучилась. Он жадно пил воду, проливая ее себе на рубашку. Грушко то появлялся, то исчезал. Следователи говорили то утешительным тоном, то обвинительным. Иногда они как будто мягко увещевали его:
— Как можете вы, коммунист, с гордостью разглагольствовать о том, что ваша дочь читает по-английски «Отче наш»?