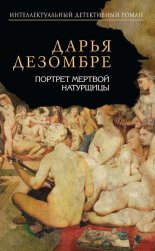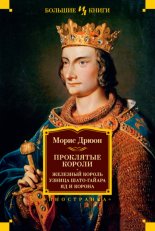Шпион и предатель. Самая громкая шпионская история времен холодной войны Макинтайр Бен

Позднее Армстронг станет главным свидетелем на «процессе „Ловца шпионов“» — неудавшейся попытке британского правительства помешать публикации разоблачительной книги воспоминаний Питера Райта. Тогда Армстронг придумал и запустил в оборот выражение: «правда в щадящих дозах». Сам он, похоже, решил распространять правду о деле Майкла Фута в чрезвычайно щадящих дозах. А именно: он ничего не стал рассказывать ни Маргарет Тэтчер, ни другим ее главным советникам; он ничего не стал рассказывать никому на государственной гражданской службе, ни в Консервативной, ни в Лейбористской партии. Он ничего не стал рассказывать ни американцам, ни кому-либо из других союзников Британии. Он вообще никому даже слова об этом не сказал.
После того, как в распоряжении Армстронга оказалась неразорвавшаяся информационная бомба, он положил ее себе в карман и просто оставил там — в надежде, что Фут проиграет на выборах и проблема рассосется сама собой. Вероника Прайс говорила об этом прямо: «Мы это похоронили». И все равно внутри МИ-6 то и дело разгорались споры о том, чем возможная победа Майкла Фута на выборах чревата для конституции: все сходились во мнении, что если политик, в прошлом имевший контакты с КГБ, сделается премьер-министром, тогда обо всем непременно нужно рассказать королеве.
И было в массиве данных, переданных британской разведке Гордиевским, еще кое-что, даже более опасное, чем дело Бута, — один секрет КГБ, способный не только изменить мир, но и взорвать его.
В 1982 году холодная война снова разогревалась и грозила достигнуть такой температуры, при которой ядерная война казалась уже вполне реальной возможностью. Гордиевский сообщил, что в Кремле считают — пусть ошибочно, зато вполне серьезно, — что Запад собирается нажать на ядерную кнопку.
Глава 8
Операция «РЯН»
В мае 1981 года Юрий Андропов, председатель КГБ, собрал старших сотрудников своего ведомства на тайное совещание и сделал ошеломительное заявление: Америка собирается первой нанести ядерный удар и стереть Советский Союз с лица земли.
Больше двадцати лет ядерная война между Востоком и Западом сдерживалась угрозой взаимно гарантированного уничтожения: независимо от того, кто начнет первым, в любом подобном конфликте разрушению подверглись бы обе стороны. Но к концу 1970-х Запад начал заметно обгонять СССР в ядерной гонке, и разрядка напряженности стала понемногу сменяться уже новой психологической конфронтацией. Поэтому Кремль боялся, что Советский Союз может проиграть и погибнуть от упреждающего ядерного удара. В начале 1981 года КГБ при помощи недавно разработанной компьютерной программы произвел анализ геополитической ситуации и пришел к выводу, что «соотношение мировых сил» сдвигается и перевес уже на стороне Запада. Афганская война оказалась очень дорогостоящим предприятием, Куба продолжала выкачивать деньги из советской казны, а в США между тем неуклонно происходило наращивание военной мощи. Похоже, Советский Союз проигрывал холодную войну, и Кремль, подобно боксеру, истощенному многолетними тренировочными боями, боялся, что затянувшееся состязание вот-вот закончится одним подлым ударом исподтишка.
Возможно, уверенность руководителя КГБ в том, что СССР может стать жертвой внезапного ядерного удара, была не столько вызвана рациональным анализом геополитического положения, сколько порождена личным опытом Андропова. В 1956 году, находясь в качестве советского посла в Венгрии, он собственными глазами увидел, как быстро может рухнуть режим, еще недавно казавшийся незыблемым. Сам Андропов и сыграл тогда важную роль в подавлении Венгерского восстания. А спустя двенадцать лет он призвал принять «экстренные меры», чтобы удушить уже Пражскую весну. «Палач Будапешта» был убежденным сторонником армейских операций и репрессий со стороны КГБ. Глава тайной полиции Румынии называл его «человеком, который забрал власть над СССР у компартии и отдал ее КГБ»[38]. А угроза надвигающегося ядерного нападения, по-видимому, стала казаться более правдоподобной из-за самоуверенной и агрессивной позиции недавно избранного президента Рейгана и его администрации.
И вот, как всякий истинный параноик, Андропов вознамерился раздобыть доказательства, которые подтвердили бы его опасения.
Операция «РЯН»[39] (за этой аббревиатурой скрывалось словосочетание «ракетно-ядерное нападение») стала самой масштабной операцией советской разведки, когда-либо затевавшейся в мирное время. Андропов, сидя рядом с генсеком Леонидом Брежневым, объявил изумленным кагэбэшникам о том, что США и НАТО «активно готовятся к ядерной войне». Перед КГБ ставилась задача: обнаружить признаки того, что это нападение приближается, и заранее предупредить об этом, чтобы противник не смог застать Советский Союз врасплох. Подразумевалось, что, если доказательство готовящегося нападения будет найдено, СССР сам может нанести упреждающий удар. Опыт, обретенный Андроповым при подавлении свободы в странах соцлагеря, убедил его в том, что лучший метод обороны — нападение. Страх первого удара грозил спровоцировать первый удар.
Операция «РЯН» родилась в воспаленном воображении Андропова. Она постепенно разрасталась, давая метастазы в виде маниакальных шпионских планов внутри КГБ и ГРУ, поглощая тысячи человеко-часов и накаляя напряжение между сверхдержавами до ужасающих отметок. У «РЯН» был даже свой повелительный девиз: «Не прозевать!» В ноябре 1981 года первые ориентировки «РЯН» были разосланы в заграничные резидентуры КГБ — в США, Западной Европе, Японии и странах третьего мира. В начале 1982 года все резидентуры получили инструкцию: сделать «РЯН» первостепенной задачей. К тому времени, когда Гордиевский приехал в Лондон, операция успела приобрести такое ускорение, что неслась вперед как будто сама собой. Однако в ее основе лежало недоразумение: Америка вовсе не готовилась напасть первой. КГБ повсюду выискивал улики, которые свидетельствовали бы о планируемом нападении, но в официальной истории МИ-5 недвусмысленно говорится: «Никаких таких планов не существовало»[40].
Запустив операцию «РЯН», Андропов нарушил первое правило разведки: никогда не запрашивать подтверждения какой-либо гипотезы, в которую уже веришь сам. Так, Гитлер был убежден, что десант союзников непременно высадится в Кале, — и потому его шпионы (не без помощи двойных агентов, работавших на союзников) уверяли его ровно в этом же, благодаря чему союзники в итоге благополучно высадились в Нормандии. Тони Блэр и Джордж Буш-младший не сомневались в том, что Саддам Хусейн располагает оружием массового поражения, и потому британская и американская разведки послушно докладывали им, что все обстоит именно так. Юрий Андропов, человек педантичный и властный, свято верил в то, что его клевреты непременно найдут доказательства близящегося ядерного нападения. И его люди, конечно, не подвели.
Перед отъездом Гордиевского из Москвы его посвятили в подробности операции «РЯН». Когда в МИ-6 узнали об этой масштабной политической инициативе, эксперты-советологи из Сенчури-хаус поначалу отнеслись к услышанному скептически. Неужели геронтократам из Кремля западная мораль видится в настолько кривом зеркале, что они поверили, будто Америка и НАТО способны напасть первыми? Наверное, все это просто паникерские бредни какого-то выжившего из ума старика-кагэбэшника? Или, того хуже, намеренная «утка», распускаемая в целях дезинформации, — чтобы заставить Запад дать задний ход и свернуть наращивание военной мощи? Разведсообщество погрузилось в сомнения. Джеймс Спунер терялся в догадках: неужели Центр действительно «настолько оторван от реальности»?
Но в ноябре 1982 года Леонид Брежнев умер, и его место занял Андропов. Впервые должность генерального секретаря КПСС досталась бывшему руководителю КГБ. Вскоре все резидентуры были извещены о том, что «РЯН» теперь «приобрела особенно большое значение» и что ей «присвоена степень особенной срочности». В Лондон пришла телеграмма на имя Аркадия Гука (точнее, на его вымышленную фамилию Ермаков) с пометкой «только лично» и «совершенно секретно». Гордиевский тайно вынес эту телеграмму из посольства, сунув к себе в карман, и передал Спунеру.
Документ под названием «Постоянно действующее задание по выявлению подготовки НАТО к ракетно-ядерному нападению на СССР» был детальным планом «РЯН», где подробно расписывались различные признаки, способные предупредить КГБ о подготовке Западом нападения. Эта ориентировка служила доказательством того, что советские страхи перед упреждающим ударом противника не были выдумкой, а, напротив, пустили глубокие корни и продолжали разрастаться. Там говорилось: «Цель ПДЗ — обеспечить систематическую работу резидентуры по вскрытию планов подготовки главного противника к „РЯН“ и организацию постоянного слежения за признаками принятия им решения о применении ядерного оружия против СССР и осуществления непосредственной подготовки к ракетно-ядерному удару». В документе приводилось двадцать индикаторов вероятного нападения — от логически обоснованных до самых нелепых. Сотрудникам КГБ предписывалось внимательно наблюдать за «кругом лиц, принимающих решение по ядерному вопросу», к которым почему-то причислялись церковные иерархи и главные банкиры. Пристально наблюдать следовало и за зданиями, в которых могло приниматься такое решение, а также за хранилищами ядерного оружия, военными базами и объектами, маршрутами эвакуации и бомбоубежищами. В срочном порядке предписывалось вербовать агентов в правительственных, военных, разведывательных кругах и в организациях гражданской обороны. Сотрудникам даже предлагалось подсчитывать количество окон, освещенных по ночам в главных правительственных зданиях: ведь чиновники, готовясь к нанесению удара, наверняка засиживались бы за работой допоздна. Подсчету подлежало и количество автомобилей на правительственных стоянках: например, внезапный спрос на парковочные места при Министерстве обороны явно указывал бы на то, что там ведется усиленная подготовка к нападению. Еще следовало наблюдать за больницами, поскольку враг, ожидая возмездия за свой упреждающий удар, принялся бы заранее готовиться к приему большого количества раненых. Не меньшего внимания заслуживали бойни: если бы количество забиваемого скота вдруг резко увеличилось, это могло бы означать, что Запад принялся активно запасать тушенку в преддверии Армагеддона.
Самым странным пунктом было требование следить за «количеством крови, хранящимся в банках крови», и сразу же докладывать, если правительство начинает скупать запасы крови и делать запасы плазмы. «Важным признаком начала подготовки к РЯН могут быть усиленные закупки крови у доноров и рост цен на нее… Установить местонахождение нескольких тысяч пунктов приема донорской крови, выяснить цену на кровь и фиксировать любые изменения. В случае неожиданного резкого роста числа донорских пунктов и роста цен на кровь немедленно докладывайте в Центр».
На Западе, конечно же, кровь сдают обычные добровольцы. Единственная «плата» за кровь — это печенье, иногда еще чашка чая. Однако в Кремле были уверены, что капитализм насквозь пропитал западную жизнь своей отравой, и нисколько не сомневались, что так называемый банк крови — это и впрямь настоящий банк, где человеческая кровь покупается и продается. И никто в многочисленных резидентурах КГБ даже не осмелился обратить внимание руководства на эту элементарную ошибку. В построенной на страхе иерархической организации привлечь внимание к глупости начальника было еще опаснее, чем обнаружить собственное невежество.
У Гордиевского и его коллег этот странный перечень требований с самого начала вызвал усмешки: операция «РЯН» показалась им всего лишь очередным примером бессмысленного и надуманного бумаготворчества, каким славился плохо информированный Центр. Более опытные и искушенные кагэбэшники знали, что на Западе никто не хочет ядерной войны и, конечно же, НАТО и США не готовят никакого внезапного нападения на СССР. Даже Гук «лишь на словах внимал распоряжениям из Центра», а сам считал их «нелепыми». Но в мире советской разведки тяга к повиновению брала верх над здравым смыслом, и в резидентурах КГБ, разбросанных по разным концам света, принялись усердно искать улики, указывающие на наличие враждебных планов. И — кто бы сомневался! — находить их. Поведение почти всех людей, если присмотреться особенно внимательно, способно вызвать подозрение: тут может сгодиться и свет, оставленный в каком-либо из кабинетов Министерства иностранных дел, и недостаток парковочных мест возле Министерства обороны, и агрессивные высказывания какого-нибудь епископа. Постепенно накапливаясь, «данные» о несуществующем плане нападения на СССР как будто подтверждали опасения, уже имевшиеся у Кремля, обостряли паранойю, царившую в Центре, и создавали спрос на всё новые доказательства. Так мифы поддерживают сами себя. Гордиевский писал позднее, что из-за запуска операции «РЯН» была создана «система весьма порочная для сбора секретной информации и анализа происходящих событий, вследствие чего и зарубежные отделения КГБ, сознавая, чего от них ждет Центр, стали забрасывать Москву тревожными сообщениями, которым сами не верили».
За следующие месяцы операция «РЯН» сделалась главной и единственной заботой КГБ. Между тем риторика администрации Рейгана только подкрепляла уверенность Кремля в том, что Америка встала на путь агрессии, ведущий к односторонней ядерной войне. В начале 1983 года Рейган заклеймил Советский Союз, назвав его «империей зла». Советские страхи возрастали и из-за предстоявшего вскоре развертывания баллистических ракет средней дальности «Першинг-2» в Западной Германии. Это оружие обладало «сверхвнезапным потенциалом первого удара» и могло без предупреждения, всего за четыре минуты, обрушиться на советские мишени — в том числе на пусковые шахты ракет. Подлетное время «Першинг-2» до Москвы оценивалось в шесть минут. Если бы КГБ удалось подать предупредительный сигнал о нападении, у Москвы появилось бы «достаточно времени, чтобы… предпринять ответные меры» — иными словами, нанести упреждающий удар. Однако в марте Рональд Рейган публично объявил о разработке программы, которая грозила свести на нет любые надежды на возможность упреждающих действий: американская Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), которую немедленно окрестили «Звездными войнами», предусматривала применение спутников и элементов космического базирования для создания щита, способного перехватывать и уничтожать любые советские ядерные ракеты. СОИ могла бы сделать Запад неуязвимым и позволить США наносить удары, не боясь возмездия. Андропов гневно обвинил Вашингтон в «вынашивании новых планов по развязыванию ядерной войны лучшими средствами в надежде выйти из нее победителем». И вынес вердикт: «Действия Вашингтона ставят под угрозу весь мир». В итоге операцию «РЯН» расширили: ведь, по мнению Андропова и послушных ему исполнителей из КГБ, речь шла ни много ни мало о выживании Советского Союза.
Вначале в МИ-6 истолковали операцию «РЯН» как очередное вселяющее надежды свидетельство некомпетентности КГБ: у организации, с азартом ринувшейся на поиски иллюзорного замысла, останется меньше времени на рутинный шпионаж. Но время шло, гневные выступления с обеих сторон обретали все больший накал, и становилось ясно, что страхи Кремля не удастся рассеять как бесплотные и бесплодные фантазии. Со стороны государства, всерьез опасавшегося неминуемого военного конфликта, все больше приходилось ожидать первого удара. Программа РЯН самым наглядным образом продемонстрировала, в какой опасный тупик завела всех холодная война.
Вашингтонские «ястребы» с их воинственной риторикой лишь подливали масла в огонь советских страхов, и все это грозило закончиться ядерным Армагеддоном. Впрочем, американские аналитики обычно не воспринимали всерьез заявления советских лидеров, выражавших тревогу, так как видели в них намеренное сгущение красок в целях пропаганды, часть давней политической игры, основанной на обмане и запугивании. Тем не менее Андропов был совершенно серьезен, когда утверждал, что США намереваются развязать ядерную войну. И теперь благодаря русскому шпиону британцы об этом узнали.
Америке следовало сообщить о том, что страхи Кремля, хоть и порождены невежеством и паранойей, абсолютно неподдельны.
Отношения между британской и американской разведслужбами немного напоминают отношения между старшим и младшим братом (или между сестрами): это близость — и конкуренция, дружба — и ревность, взаимопомощь — и склонность к перебранкам. В прошлом и Британия, и Америка сильно пострадали от проникновения агентов коммунизма, и ни одна из этих двух стран не могла избавиться от подозрения, что другая страна может оказаться ненадежной. Между ними были подписаны соглашения об обмене перехваченными радиоэлектронной разведкой сигналами, однако информацией, поступавшей от агентурных источников, они делились куда более скупо. У Америки имелись шпионы, о которых Британия ничего не знала, и наоборот. «Продукт», производимый этими источниками, предлагался лишь по «служебной необходимости», а само понятие этой необходимости оставалось весьма расплывчатым.
Данные об операции «РЯН», поступившие от Гордиевского, были переданы ЦРУ в том объеме, который мог сослужить некоторую службу, однако британцы отмерили американцам правду в крайне «щадящих дозах». До того момента материалы операции «Ноктон» распределялись исключительно среди осведомленных читателей из числа сотрудников МИ-у и МИ-6, в особых случаях передавались датчанам в ПЕТ, а также поступали в кабинет премьер-министра, секретариат кабинета министров и МИД. Решение расширить круг этих получателей, включив в него разведсообщество США, ознаменовало важную веху в этой истории. МИ-6 не стала сообщать, ни из какой части света поступил этот материал, ни от кого. Источник был тщательно замаскирован, его роль преуменьшена, а сами данные преподнесены в такой форме, что их происхождение было трудно установить. «Было решено передать полученный материал в разделанном, отредактированном виде, как обычную разведсводку. Нам нужно было замаскировать происхождение информации. Мы сказали, что она получена от сотрудника среднего звена и не из Лондона. Мы добивались максимальной безликости». Однако американцы нисколько не усомнились в подлинности и надежности переданного им известия: было очевидно, что это первосортная, заслуживающая доверия и очень ценная информация. МИ-6 не стала говорить ЦРУ, что секретные данные получены из самых недр КГБ. Но, пожалуй, пояснять это было излишне.
Так началась одна из самых важных операций по обмену разведданными в ХХ веке.
Медленно и осторожно, с тихой гордостью и старательно скрываемым торжеством, МИ-6 начала по капле передавать Америке секреты Гордиевского. Британская разведка давно уже гордилась своим умением пестовать агентуру. Пускай Америка сильна деньгами и технической мощью, зато британцы хорошо понимают людей — во всяком случае, им нравилось думать, что это так. Дело Гордиевского в какой-то мере тешило уязвленное самолюбие англичан, тяжело переживавших позор, каким они на много лет покрыли себя, прозевав Филби, и потому свою новую победу они преподносили с легким налетом британской спеси. Руководство американской разведки было очень впечатлено, заинтриговано, преисполнено благодарности — и слегка раздражено тем, что младший брат явно задается. В ЦРУ не привыкли к тому, чтобы другие ведомства решали за него, какую информацию ему стоит предоставить, а какую лучше придержать.
Постепенно, по мере того как шпионский улов Гордиевского увеличивался в объеме и обрастал новыми подробностями, предоставляемые им данные попадали на верхние этажи американских правительственных кругов и в конечном счете влияли на политические решения, принимавшиеся в Овальном кабинете. Но о том, что у британцев есть советский крот, занимающий очень высокий пост, знала лишь крошечная горстка американских разведчиков. Одним из них был Олдрич Эймс.
После возвращения из Мексики карьера Эймса в ЦРУ пошла в гору. Они с Росарио поселились в Виргинии, в городке Фоллс-Чёрч под Вашингтоном, и в 1983 году, несмотря на довольно пестрый трудовой стаж Эймса, его назначили начальником советского отдела Управления внешней контрразведки ЦРУ. Он продолжал подниматься по служебной лестнице, но недостаточно быстро, и его неудовлетворенность профессиональным ростом не проходила. Росарио согласилась выйти за него, но развод с первой женой сулил разорительные расходы. Эймс завел себе новую кредитную карту — и немедленно влез в долги, накупив новой мебели на 5 тысяч долларов. Росарио была вечно недовольна и ныла, а еще она постоянно звонила родным в Колумбию. Каждый месяц она наговаривала по телефону долларов на четыреста. Квартирка, где они жили, была маленькой и тесной. Ездил Эймс на старенькой и облезлой «вольво».
Годовое жалованье — всего-то 45 тысяч долларов — казалось Эймсу ничтожным (учитывая ценность секретов, с которыми ему приходилось иметь дело каждый день). При новом директоре Билле Кейси, возглавившем ЦРУ в пору президентства Рейгана, работа в советском отделе заметно оживилась: там курировали около двадцати шпионов по ту сторону «железного занавеса». Эймс знал имена всех. Он знал, что ЦРУ перехватывает телеграммы под Москвой и выкачивает обширные объемы разведданных. Он знал, что ребята из технического отдела приспособили товарный вагон для слежки за проходящими составами, которые перевозили ядерные боеголовки по Транссибирской магистрали. Наконец, ему в числе немногих стало известно, что у МИ-6 появился высокопоставленный агент, вероятно, работающий в КГБ, чью личность британцы тщательно скрывают. Эймс знал все эти — и многие другие — секреты. Но, сидя по разным вашингтонским барам за стаканчиком бурбона, он знал и другое, самое главное: он на грани разорения. А еще он мечтал о новой машине.
Прошло полгода, и двойная жизнь Гордиевского в Британии понемногу превратилась в приятную рутину. Лейла с радостью осваивала новую страну, не подозревая о тайной деятельности мужа. Дочери будто в одночасье обританились и уже разговаривали с куклами по-английски. Сам Олег полюбил лондонские парки и пабы, ближневосточные ресторанчики в Кенсингтоне с их запахами экзотических пряностей. В отличие от Елены, Лейла любила готовить и не уставала с восторгом и удивлением рассказывать о том, сколько диковинных ингредиентов можно купить в британских магазинах. Домашнее хозяйство и уход за детьми целиком лежали на Лейле, и она даже не думала жаловаться, а напротив, часто говорила о том, как ей повезло оказаться ненадолго за границей. Конечно, ей недоставало родных и друзей, оставшихся в Москве, но она понимала, что домой они вернутся довольно скоро, потому что командировки у советских дипломатов редко длились больше трех лет. Всякий раз, как Лейла заговаривала о том, как она скучает по дому, Олег старался переменить тему. Он понимал, что когда-нибудь придется открыть жене, что он шпионит на Британию и что они никогда не вернутся в СССР. Но зачем огорчать и пугать ее прямо сейчас? Он говорил себе, что Лейла — хорошая русская жена, и, когда придет время, она поначалу наверняка придет в оторопь и ужасно расстроится, но потом примирится с судьбой. Конечно, рано или поздно придется все ей рассказать. Но лучше уж поздно, чем рано.
Чета Гордиевских с головой окунулась в культурную жизнь британской столицы: они ходили на концерты классической музыки, вернисажи в галереях и театральные представления. Свой шпионаж в пользу Запада Олег считал не предательством отступника, а подвигом культурного диссидента: «Если композитор Шостакович протестовал при помощи музыки, а писатель Солженицын — при помощи слов, то я, кагэбэшник, мог пускать в ход лишь доступные мне средства, то есть данные разведки». Раскрывая государственные секреты, он протестовал против системы.
Каждое утро он бегал в Холланд-парке. И почти каждую неделю, в заранее условленные дни, когда «дозорные» из МИ-у следили за кем-нибудь другим, Гордиевский говорил коллегам, что отправляется обедать с агентом, садился в машину и ехал на явочную квартиру в Бейсуотере. В подземном гараже он натягивал на автомобиль пластиковый чехол, чтобы скрыть дипломатические номера.
Из Центра больше не присылали инструкции на микропленках, поэтому Гордиевскому приходилось перед каждой встречей с кураторами выносить бумажные документы — иногда частями. Он дожидался, когда все кабинеты опустеют, а потом тихонько рассовывал бумаги по карманам. Ему было из чего выбирать. Разные управления Центра наперебой засыпали требованиями многочисленных сотрудников лондонской резидентуры: это были и двадцать три кагэбэшника, работавших под прикрытием в самом посольстве, и еще восемь человек, действовавших под видом журналистов, а также нелегалы и отдельный отряд из пятнадцати офицеров военной разведки из ГРУ. «Из Центра поступал обширный поток информации, и я черпал оттуда полными горстями».
Как только Олег являлся на квартиру, Спунер выслушивал его доклад, Вероника Прайс готовила легкий обед, а Сара Пейдж, очень милая и чрезвычайно дельная секретарша МИ-6, фотографировала в спальне принесенные документы. Опустошив закрома памяти, Гордиевский перешел к описанию текущих операций. «Довольно быстро мы погрузились в текучку, — вспоминал Спунер. — Он ставил нас в известность обо всем, что успело произойти со времени последней встречи: туда входили события, инструкции, визиты, местные мероприятия, беседы с коллегами по резидентуре». Олег с его натренированной наблюдательностью примечал и запоминал абсолютно все, что могло представлять хоть какой-то интерес: инструкции из Центра, последние требования и доклады, имевшие отношение к РЯН, деятельность нелегалов и детали, указывающие на их личность, объекты оперативной разработки, вербовка агентов и кадровые перестановки. А еще он приносил обрывки сплетен и слухов, из которых можно было понять, о чем думают его коллеги, что замышляют и чем занимаются в нерабочее время, сколько они пьют, с кем спят или мечтают переспать. «Вы — внештатный член резидентуры», — в шутку говорил Гордиевский Спунеру.
Время от времени Вероника Прайс повторяла с Гордиевским подробности операции «Пимлико» — на случай, если его внезапно вызовут в Москву и ему понадобится совершить побег. Со времени предварительной разработки план эксфильтрации претерпел некоторые важные изменения: ведь теперь Гордиевский был семейным человеком, у него было двое маленьких детей. Поэтому в МИ-6 должны были предоставить ему для побега не одну, а две машины; в каждом багажнике будет спрятано по взрослому и ребенку, а девочкам нужно будет впрыснуть сильное снотворное, чтобы они крепко спали и ничего не чувствовали. Чтобы Гордиевский хорошо подготовился к тому моменту, когда ему потребуется усыплять собственных дочерей перед операцией эксфильтрации, Вероника Прайс давала ему поупражняться со шприцем на апельсине. Он должен был каждые несколько месяцев взвешивать дочерей, новые данные передавались сотрудникам МИ-6 в Москву, и соответственно заново рассчитывалась доза снотворного в шприцах.
Дело обретало собственный ритм, но напряжение порой доходило до предела. Однажды после встречи на явочной квартире Олег пошел забирать машину с соседней Коннот-стрит (почему-то в тот раз он решил не парковаться в подземном гараже). Уже собравшись шагнуть с тротуара на мостовую, он вдруг с ужасом заметил, что прямо навстречу ему едет цвета слоновой кости «мерседес» Гука и за рулем сидит сам толстяк резидент. Гордиевский подумал, что все, его засекли. Его моментально прошиб пот, он принялся лихорадочно выдумывать оправдания — почему его занесло в обеденный перерыв в жилой район вдали от посольства. Но Гук, похоже, не заметил его.
В круг доверия вошли всего три политика. Маргарет Тэтчер ознакомили с делом Ноктона 23 декабря 1982 года — только через полгода после приезда Гордиевского в Британию. Необработанные разведданные поместили в специальную красную папку — так называемый красный конверт — и положили в запирающийся синий ящичек, ключ от которого имелся только у премьер-министра, ее советника по иностранным делам и ее личного секретаря. Тэтчер проинформировали о том, что у МИ-6 есть свой агент в лондонской резидентуре КГБ. Имя ей не сообщили. Министра внутренних дел Уильяма Уайтлоу ввели в курс дела месяцем позже. Из других членов кабинета в круг посвященных решили допустить только министра иностранных дел. Когда эту должность занял Джеффри Хау, на него произвели «огромное впечатление» материалы Ноктона, особенно связанные с операцией «РЯН»: «Оказывается, советское руководство само верило в собственную пропаганду! Они действительно боялись, что Запад замышляет свергнуть их — и не остановится ни перед чем, чтобы достигнуть этой цели»[41].
Но если со шпионажем на МИ-6 у Гордиевского все шло как по маслу, то повседневная работа на КГБ, напротив, вязла в песке. Гук и Никитенко, резидент и его заместитель, относились к нему с откровенной враждебностью. Игорь Титов, его непосредственный начальник, тоже смотрел на него недружелюбно. Однако не все его коллеги были сплошь ханжами и параноиками. Некоторые оказались людьми тонкими и чуткими. Культурные пристрастия Гордиевского разделял его более молодой (лет тридцати с небольшим) коллега по линии «ПР» Максим Паршиков, сын ленинградского художника. Они вместе слушали классическую музыку по «Радио-3», когда сидели за смежными столами в кабинете политического отдела. Паршиков находил своего коллегу «человеком приятным и интеллигентным, чья образованность и культурный уровень выгодно отличали его от остальных». Однажды, когда Паршиков простудился, Гордиевский познакомил его с «Отривином», средством от заложенности носа, которое сам недавно обнаружил в британской аптеке. «Нас объединила любовь к классической музыке и к „Отривину“», — писал позднее Паршиков. Однако он уловил внутреннюю тревогу Гордиевского: «И мне, и другим, кто близко общался с Олегом в его первые месяцы в Лондоне, было очевидно, что с ним творится что-то очень серьезное и неприятное. Нервы у него все время были на пределе, на него как будто что-то давило». Новичок довольно заметно отличался от всех остальных, в нем ощущалась какая-то настороженная сдержанность. Вот как свидетельствовал об этом Паршиков:
Руководство резидентуры невзлюбило его с самого начала.
Он не пил, как все, был слишком уж интеллектуалом, он не был «своим». Представьте себе обычный праздник, день рождения по-советски, в главном зале резидентуры. Все как положено: на столе бутерброды и фрукты, водка и виски для мужчин, бутылка вина для немногочисленных дам. Резидент произносит первый тост, потом тосты звучат один за другим. Гордиевский добровольно берет на себя роль дворецкого — любезно наливает во все пустые бокалы, кроме своего, а там у него только красное вино. Он никогда ни с кем не был запанибрата. Некоторым это казалось странным. А мне — нет: какого черта, думал я, ведь среди нас разные люди попадаются. Жена одного сотрудника терпеть не могла Гордиевского. Она сама не могла объяснить почему, просто ей казалось, что Олег какой-то «не такой, как все», «неестественный», «двуличный».[42]
Паршиков не слушал, что говорят злые языки. «Мне было лень вступать в пререкания с теми, кто поливал грязью моего милого коллегу по резидентуре». Главная беда Гордиевского, по словам Паршикова, заключалась в том, что он плохо справлялся с обязанностями. По-английски он говорил все еще плохо. Обедать с агентами ходил, похоже, регулярно, но приносил мало новой информации. Через несколько месяцев после его приезда в резидентуре, где все вечно перемывали друг другу кости, начали шептаться, что Олег не соответствует занимаемой должности.
Гордиевский и сам понимал, что попал в затруднительное положение. Он «унаследовал» ряд контактов от своего предшественника по линии «ПР», но от них не поступало никаких ценных разведданных. Так, он связался с одним европейским дипломатом, которого Центр числил в агентах, и обнаружил, что, «хотя тот и готов был поглощать дармовую еду в больших количествах, никогда не рассказывал ничего хоть сколько-нибудь интересного». Еще одним человеком, которого в СССР считали возможной мишенью вербовки, был Рон Браун, депутат парламента от лейбористов, представлявший район Эдинбурга Лейт. Этот бывший профсоюзный деятель когда-то привлек внимание КГБ тем, что громогласно выступал в поддержку коммунистических режимов в Афганистане, Албании и Северной Корее. В парламенте он часто попадал в беду из-за своего скандального поведения, и впоследствии его выгнали из Лейбористской партии после того, как он украл нижнее белье у своей любовницы и разгромил ее квартиру. Браун, уроженец Лейта, говорил с шотландским акцентом такого же градуса, как у шотландского виски. Он говорил сочно, живо и совершенно непонятно для русского уха. Гордиевский, с трудом воспринимавший даже правильный британский выговор дикторов BBC, несколько раз водил Брауна в рестораны и там молча кивал, разбирая разве что каждое десятое слово, пока шотландец бормотал себе что-то на своем родном наречии. «С таким же точно успехом он мог перейти с английского на арабский или японский, чего я, скорее всего, не заметил бы», — с сожалением констатировал Гордиевский. По возвращении в резидентуру он просто сочинял содержание их беседы, исходя исключительно из собственных догадок о том, что мог бы рассказать ему шотландец. Браун мог раскрывать ему государственные секреты чрезвычайной важности, а мог просто болтать о футболе. Вина — или невиновность — Брауна так и осталась загадкой истории, навеки погребенной под тяжкой глыбой его непробиваемого шотландского акцента.
Возобновление и укрепление старых контактов было делом таким же хлопотным, как и попытки завязать новые связи. Бобу Эдвардсу было почти восемьдесят лет, он был старейшим из действующих членов парламента и нераскаявшимся другом КГБ. Он был рад поводу поболтать о старых временах, но рассказать о новых ему было решительно нечего. Гордиевский заново установил связь и с Джеком Джонсом, бывшим профсоюзным лидером, и побывал у него в «типичной муниципальной квартире». Джонс, давно вышедший в отставку, с удовольствием стал принимать ресторанные угощения и периодические выплаты, но как от осведомителя от него «было мало проку». Центр часто намечал различных «прогрессивных» деятелей из числа видных людей — например, секретаря движения за ядерное разоружение Джоан Раддок и телеведущего Мелвина Брэгга, — полагая, что, если только найти к ним верный подход, они начнут шпионить на Советский Союз. В этом — как и во многом другом — КГБ сильно ошибался. Гордиевский неделями увивался вокруг разных деятелей Лейбористской партии, движения за мир, британской компартии и профсоюзов и тщетно пытался обзавестись новыми контактами. В этих попытках прошло полгода — а проку не было почти никакого.
Главный аналитик резидентуры, еще один из любимчиков Гука, очень хлестко высказывался о способностях Гордиевского и уже начал жаловаться, что новичок — просто бездельник и неумеха. Гордиевский по секрету признавался Паршикову, что боится ехать в Москву в ежегодный отпуск, потому что там «его могут раскритиковать за плохую работу». От Центра никакой отзывчивости ждать не приходилось: «Прекратите паниковать и продолжайте работать».
Гордиевскому было несладко: его терпеть не мог резидент и не любили в посольстве, он изо всех сил пытался преуспеть на новой должности, в новом городе и на новом языке. А еще он был так занят сбором информации для британцев, что на основную работу в КГБ времени оставалось мало.
Сложности, с которыми столкнулся Гордиевский на своей основной работе, поставили МИ-6 перед неожиданной и тревожной дилеммой. Если его отошлют домой, то связь Запада с самым важным советским шпионом прервется самым досадным образом: ведь от него уже начали поступать разведданные огромного значения, способные изменить мир. Дальнейший ход дела зависел от профессионального роста Гордиевского: ведь чем больше будут его заслуги в глазах КГБ, тем выше вероятность его повышения по службе и тем больший доступ он получит со временем к ценным материалам. Значит, его карьере в КГБ нужно было сообщить ускорение. Именно этим и решили заняться в МИ-6, причем выбрали два беспримерных пути: во-первых, начали выполнять за Гордиевского «домашнее задание», а во-вторых, убрали с дороги тех, кто ему мешал.
Мартин Шоуфорд, молодой сотрудник МИ-6, работавший в советском отделе в ячейке Ноктона, получил задание: сделать так, чтобы Гордиевский вырос в глазах сослуживцев и начальников. Шоуфорд, прекрасно говоривший по-русски и недавно вернувшийся из командировки в Москву, занялся добыванием политических материалов. Он начал собирать всевозможную информацию, которую Гордиевский затем мог бы передавать в КГБ, как если бы собрал ее сам. Она должна была убедить Центр в том, что он ловко раздобывает политические разведданные, и в то же время не должна была приносить пользу СССР. На шпионском жаргоне такие материалы называют «цыплячьим кормом»: они содержат правду, но не могут нанести никому большого вреда, так что, отдавая их в руки противника, можно раздобыть своему агенту репутацию человека надежного. с виду это жирная, сытная пища, но никакой настоящей питательной ценности она не имеет. В годы Второй мировой войны британская разведка достигла высочайшего мастерства в приготовлении «цыплячьего корма» и поставляла огромное количество тщательно отфильтрованной информации через двойных агентов их немецким кураторам: сведения, содержавшие правду, шли вперемешку с правдивыми наполовину и с заведомо ложными сведениями, при этом выявить ложь было невозможно. Шоуфорд перерывал тонны информации из открытых источников (вроде газет и журналов) в поисках особенно ценных сгустков, какие Гордиевский вполне мог бы действительно получить от осведомителей или из других источников: сводный обзор ситуации в Южной Африке с ее системой расовой сегрегации, оценка состояния англо-американских отношений или сплетни о жизни Консервативной партии, подслушанные в кулуарах во время партийных конференций. Проявив некоторую изобретательность, можно было придать всем этим сведениям сходство с разведданными, полученными от агентуры. «Нам нужны были материалы, которые Олег мог бы скармливать резидентуре, оправдывая свои отлучки, свои встречи с агентами и так далее. Важно было заработать ему очки, оправдать его действия. Мы понимали, какого рода разговоры у него могли бы произойти с теми людьми, которых мы знали». Требования МИ-6 к разрешенным для передачи материалам были таковы, что Кб — отделение МИ-5, отвечавшее за эту задачу, — насилу справлялось с ней. «Это вызвало почти единственные разногласия между двумя разведслужбами за всю историю дела Гордиевского». Шоуфорд каждую неделю отпечатывал на машинке резюме длиной в три четверти страницы, Гордиевский приносил его в резидентуру, переводил на кагэбэшный жаргон, добавлял кое-что от себя и передавал начальству. Оригинал шпаргалки из МИ-6 он рвал на мелкие кусочки и спускал в унитаз.
Но чтобы обеспечить Олегу карьерный рост, одной только поставки «цыплячьего корма» было мало. Чтобы начальство убедилось в том, что Гордиевский отлично справляется с работой, ему нужно было встречаться с реальными людьми, которые снабжали бы его подлинной — хотя и бесполезной — информацией. Если бы он и дальше продолжал приносить массивы информации, не привязанные к конкретному агентурному источнику, это бы только навлекло подозрения. Гордиевскому необходимы были собственные негласные осведомители. И МИ-6 предоставила ему нескольких.
Управление К4 внутри МИ-5 занималось контрразведкой против советских объектов: установлением личностей шпионов, действовавших в Британии, — сотрудников КГБ и ГРУ, их агентов и нелегалов, — слежкой за ними и по возможности их нейтрализацией. Часто для этого требовались особые агенты для связи с завербованными лицами. Это были обычные граждане, которые вступали в контакт с потенциальным шпионом, завладевали его доверием, вызывали его на откровенность, извлекали из него информацию и разыгрывали сочувствие или готовность к вербовке. Если шпион изобличал себя, его можно было арестовать (если он был нелегалом) или выдворить из страны (если он находился в Британии под дипломатическим прикрытием). Однако конечная цель любой такой операции заключалась в том, чтобы привлечь шпиона к соучастию в каком-то заговоре, а затем склонить его — убеждениями или угрозами — к шпионажу против Советского Союза. Эти агенты (их называли еще «управляемыми контактами») были самыми обычными людьми, которых К4 тайно завербовал в помощники на невидимом шпионском фронте. По сути, они были провокаторами, а еще они по определению принадлежали к той категории людей, которых советский разведчик мог бы действительно захотеть завербовать. В начале 1980-х К4 вел одновременно десятки дел против советских мишеней, используя при этом множество тайных агентов-провокаторов.
Розмари Спенсер — высокую запоминающуюся брюнетку — часто видели в штаб-квартире консерваторов — руководящем центре британской партии тори, расположенном по адресу Смит-сквер, 13, в самом сердце Вестминстера. Сорокадвухлетняя мисс Спенсер работала в международной секции исследовательского отдела и когда-то помогала составлять доклад Фрэнкса о Фолклендской войне. Про нее говорили (не без злорадства), что партия — ее семья. Она была общительной, умной, возможно, довольно одинокой и принадлежала как раз к тем хорошо информированным политическим кругам, среди которых, следуя предписаниям начальства, сотрудники КГБ должны были вести вербовку. Коллеги мисс Спенсер по Консервативной партии наверняка были бы поражены, узнав, что эта добродушная незамужняя женщина из исследовательского отдела в действительности — тайный агент МИ-5.
Впервые Гордиевский увидел Розмари Спенсер на приеме в Вестминстере. Встреча их не была случайностью. Ему подсказали, что там нужно разыскать энергичную исследовательницу из партии тори. А ее предупредили, что к ней, возможно, подойдет один сотрудник КГБ, разыгрывающий русского дипломата, и если это произойдет, то желательно завязать знакомство. Потом они встретились в ресторане. Гордиевский был сама любезность. Он знал, что Розмари работает на МИ-5. Она знала, что он из КГБ, но не знала, что он тайно работает на МИ-6. Потом они пообедали вместе еще раз. И еще раз. Куратор Розмари в МИ-5 подсказывал ей, какую информацию следует передать: ничего секретного, просто что-нибудь интересное из ее работы, обрывки сплетен из внутренней «кухни» тори, крупицы «цыплячьего корма». Все это Гордиевский включал в свои отчеты, куда входило не только то, что ему действительно рассказывала Розмари, но и другая информация, которая поступала от МИ-6, но вполне могла бы поступить и от представителя Консервативной партии с хорошими связями. Кагэбэшное начальство было очень довольно: еще бы, Гордиевскому удалось обзавестись важным новым источником в штаб-квартире консерваторов, и со временем, как знать, этот источник мог бы стать негласным осведомителем или даже полноценным агентом.
Отношения между Гордиевским и Спенсер переросли в крепкую дружбу, однако эта дружба была основана на обмане. Она думала, что обманывает его, а он обманывал ее, позволяя ей так думать и дальше. Он использовал ее, чтобы упрочить свое положение в КГБ. Она думала, что роет яму Советскому Союзу. Вот еще один пример того, как в шпионаже переплетаются жульничество и нежность: странная дружба, завязавшаяся между двумя тайными шпионами — британской исследовательницей-тори и русским советским дипломатом. Оба лгали друг другу, испытывая при этом искреннюю взаимную симпатию.
Авторитет Гордиевского в резидентуре КГБ начал быстро расти. Похоже, даже Гук стал относиться к нему теплее. Донесения, отправлявшиеся в Центр, подписывал резидент, и благодаря достижениям Гордиевского сам Гук представал в глазах начальства в более выгодном свете. Паршиков отметил, что существенно изменилось и поведение Гордиевского. «Он начал привыкать к нашей команде, выстраивать отношения с людьми». Он казался теперь более уверенным в себе, прежнее напряжение ушло. Единственным человеком, не оценившим по достоинству успехи Гордиевского, был его непосредственный начальник — Игорь Титов. Руководитель линии «ПР» с самого начала усмотрел в новом сотруднике угрозу для себя лично, а теперь, когда Гордиевский стал приносить дельные доклады и обзавелся целым рядом новых агентурных источников, Титов твердо вознамерился помешать продвижению своего подчиненного по служебной лестнице. Гордиевский стремился вверх, но на пути стоял Титов. Тогда в МИ-6 решили убрать его.
В марте 1983 года Игоря Титова объявили персоной нон грата в Великобритании и предписали ему немедленно покинуть страну. Гордиевского заранее оповестили о плане выдворения его начальника. Чтобы высылка Титова не вызвала лишних вопросов и подозрений, одновременно с ним выгнали двух сотрудников ГРУ — «за деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом» (таков был принятый эвфемизм для обозначения шпионажа). Титов пришел в бешенство. «Я не шпион»[43], — врал он репортерам. В резидентуре почти все радовались его высылке, и в посольстве она вряд ли кого-то удивила. В предыдущие месяцы по западным странам прокатилась целая волна шпионских скандалов и выдворений, а на то, что Титов был действующим оперативником КГБ, указывало слишком многое.
Когда Титова убрали с дороги, наиболее очевидным кандидатом на освобожденное им место начальника политической разведки стал сам Гордиевский. Его повысили до звания подполковника.
Хитрость МИ-6, призванная протолкнуть «своего» шпиона вверх по карьерной лестнице КГБ, сработала безупречно. В середине 1983 года Гордиевский преобразился из никем не ценимого неудачника, которого вот-вот вышибут с работы, в восходящую звезду резидентуры, настоящего мастера вербовки и сбора разведданных. А его искусно подстроенное повышение не вызвало ни у кого даже тени подозрения. Паршиков заметил: «Все это выглядело совершенно естественным».
Теперь, возглавив линию политической разведки в резидентуре, Гордиевский получил доступ к новым материалам и подтвердил догадки, уже имевшиеся у МИ-6: советское проникновение в ряды британского истеблишмента было ничтожным — завербованных агентов (в основном очень старых) насчитывалось всего полдюжины, а негласных осведомителей (в основном очень малозначительных) еще около десятка. Многие были просто «бумажными агентами», которых «сохраняли в списках, чтобы в Москве думали, будто здесь сотрудники заняты делом». Стало ясно, что никакой новый Филби не затаился за стенной обшивкой. Что еще важнее, новое положение Гордиевского позволило ему лучше ознакомиться с работой других отделов или линий: линии «Х» (занимавшейся наукой и техникой), линии «Н» (отвечавшей за нелегалов) и линии «КР» (контрразведки). Гордиевский постепенно, один за другим, разузнавал секреты и передавал их МИ-6.
У Олега появился новый источник информации, когда в резидентуру поступила на полставки его жена Лейла. Аркадию Гуку понадобилась еще одна секретарша. А Лейла как раз умела быстро и хорошо печатать на машинке. Ей велели отдать детей в утренние ясли и явиться на работу в резидентуру. с того момента она перепечатывала доклады Гука. Лейла трепетала перед резидентом. «Он был такой фанфарон. Еще бы — генерал КГБ! Я никогда не задавала ему вопросов, просто молча печатала то, что он велел». Она не замечала, как внимательно слушал ее муж, когда за ужином она рассказывала о том, как прошел день, и пересказывала содержание докладов, которые перепечатывала для начальника, и пересуды других секретарш.
Паршиков отметил, как доволен был его новый начальник — и как он был щедр. «Ребята, тратьте деньги, которые выдаются на развлечения и угощения, — сказал Гордиевский подчиненным. — В этом году мы очень мало истратили на угощения и подарки для агентуры. Если вы их не потратите, в следующем году эту статью расходов урежут». Такой призыв пришелся сотрудникам по душе — долго упрашивать их не понадобилось.
У Гордиевского имелись все основания чувствовать удовлетворение и уверенность в себе. Он продвигался по служебной лестнице. Его положение сделалось прочным. Разведданные, которые он добывал, регулярно попадали на стол премьер-министра Британии, и он подрывал изнутри ненавистную ему коммунистическую систему. Казалось, все идет по плану.
3 апреля 1983 года, в Пасхальное воскресенье, Аркадий Гук, вернувшись к себе в квартиру по адресу Холланд-парк, 42, обнаружил в почтовом ящике конверт. Внутри оказался совершенно секретный документ: составленное в МИ-5 юридическое обоснование выдворения Титова и двух сотрудников ГРУ в предыдущем месяце — вплоть до уточнения, что все трое были уличены в работе на советские спецслужбы. В сопроводительной записке отправитель конверта сообщал, что готов поделиться и другими секретами, и давал подробные указания, как с ним можно связаться. Внизу стояла подпись: Коба (это был один из ранних псевдонимов Сталина).
Кто-то в рядах британской разведки вызывался шпионить на СССР.
Глава 9
Коба
Аркадий Гук видел угрозы, шпионские умыслы и ухищрения повсюду: лондонскому резиденту они мерещились и в головах его советских коллег, и за рекламными щитами в лондонской подземке, и в невидимых махинациях британской разведки.
Письмо от Кобы вызвало у него острейший приступ подозрительности. Инструкции, которые в нем содержались, были очень подробными и четкими: о своем желании сотрудничать Гук должен был сигнализировать, положив канцелярскую кнопку на самом верху правой стойки перил между третьей и четвертой платформами на станции метро «Пикадилли» на линии Пикадилли. О получении этого сигнала сам Коба даст знать, обмотав куском синей изоленты телефонный провод в средней из пяти телефонных будок в пабе «Адам и Ева» неподалеку от Оксфорд-стрит. Далее он сообщал о месте тайника: он спрячет кассету с пленкой, на которой будет записана секретная информация, примотав ее скотчем к крышке мусорного бачка в мужской уборной в кинотеатре «Академия» на Оксфорд-стрит.
Времени на раздумья — принимать это предложение или нет — Гуку давалось двадцать два дня — до 25 апреля.
Резидент только поглядел на странное письмо — и сразу же решил, что это подстава со стороны МИ-5, намеренная провокация с целью заманить его в ловушку, впутать в историю весь КГБ, а затем с позором его, Гука, выдворить из страны. Поэтому он не стал ничего предпринимать.
Гук предполагал (совершенно справедливо), что за его домом наблюдает МИ-у. Настоящий шпион, работающий в британской разведке, наверняка знал бы об этом и потому не стал бы появляться с конвертом у двери Гука — с риском быть замеченным своими же. Однако ему не пришло в голову, что Коба мог быть знаком с графиком работы соглядатаев из МИ-у, а потому принес свой конверт после полуночи в Пасхальное воскресенье, когда «дозорных» поблизости не было.
Гук убрал конверт подальше и мысленно поздравил себя с тем, что раскусил столь простодушную хитрость.
Но Коба не собирался отступать. После двух месяцев молчания, глубокой ночью 12 июня, в почтовый ящик Гука шлепнулся второй конверт. На этот раз его содержание оказалось еще более завлекательным: в конверте лежал составленный в МИ-у двухстраничный документ, где приводился полный перечень всех сотрудников советской разведки, находившихся в Лондоне. Каждому разведчику была присвоена степень: «полностью идентифицированный», «более или менее идентифицированный» или «подозреваемый в том, что является сотрудником лондонского отделения КГБ». И снова автор сопроводительного письма предлагал прислать новую секретную информацию, а также сообщал о системе новых условных сигналов и о местонахождении нового тайника. Если Гук захочет выйти на связь, то пусть припаркует свой «мерседес» цвета слоновой кости в обеденное время 2 или 4 июля возле счетчика на платной автомобильной стоянке на северной стороне Ганновер-сквер. Если сигнал будет получен, то 23 июля автор письма оставит зеленую банку из-под пива Carlsberg (с секретной пленкой внутри) под сломанным (покосившимся и без отражателя) уличным фонарем у пешеходной дорожки, идущей параллельно Хорсенден-лейн в Гринфорде, в Западном Лондоне. Подать сигнал о получении пивной банки и ее содержимого Гук должен будет, положив апельсиновую кожуру у правой створки ворот первого входа в Сент-Джеймс-Гарден на Мелтон-стрит, возле станции «Юстон». Подпись под сообщением стояла все та же: Коба.
Гук вызвал Леонида Никитенко, главу контрразведки, и, запершись на чердачном этаже посольства, за водкой и сигаретами, они принялись вместе ломать голову над этой загадкой. Гук по-прежнему настаивал на версии, что все это неуклюжая попытка заманить его в ловушку. Шпиона, который сам предлагает свои услуги, называют «случайным перебежчиком», и поначалу он вызывает гораздо больше подозрений, чем тот, кого спецслужбы наметили для вербовки. В присланном им документе содержалось только то, что КГБ и так уже знал: верную, но бесполезную информацию — проще говоря, «цыплячий корм». И опять-таки, Гуку не пришло в голову, что таким образом Коба пытался продемонстрировать свою благонадежность, намеренно прислав информацию, которую Гук легко мог проверить. Никитенко не был так уж уверен, что тут они имеют дело с провокацией со стороны МИ-у. Документ производил впечатление подлинного: это был полный список «боевого состава» резидентуры, подготовленный британской службой безопасности. В любом случае он был точным. А шпионские подробности, касавшиеся подачи условных сигналов и тайников, свидетельствовали о знании дела и о нежелании быть пойманным с поличным. В глазах Никитенко поступившее предложение совсем не выглядело провокацией, но он был и слишком хитер, и слишком честолюбив, чтобы вступать в споры с начальником. Гук проконсультировался с Центром, и оттуда пришло распоряжение: ничего не предпринимать, понаблюдать, что будет дальше.
Гордиевский вскоре ощутил, что у них «в отделении что-то происходит». Гук и Никитенко с утра до вечера что-то обсуждали и слали срочные телеграммы в Москву. Резидент напускал на себя заговорщический вид. Для человека, погрязшего в параноидальной секретности, Гук бывал порой на удивление неосторожным. А еще он любил прихвастнуть. Утром 17 июня он вызвал Гордиевского к себе в кабинет, закрыл дверь и, надувшись от важности, спросил:
— Не желали бы вы увидеть кое-что весьма любопытное?
С этими словами он придвинул поближе к Гордиевскому две фотокопии, лежавшие перед ним на столе.
— О боже! — изумился Олег. — Откуда это у вас?
Он проглядел список выявленных кагэбэшников и дошел до собственного имени. Его отнесли к «более или менее идентифицированным». Он сразу же понял, что составитель списка не знал наверняка о том, что Гордиевский работает на КГБ. Кроме того, кто бы ни был этот незнакомец, он точно не знал о том, что Гордиевский тайно шпионит на Британию, иначе бы он обязательно сообщил об этом Гуку, чтобы тем самым защитить самого себя от разоблачения. Коба явно имел доступ к секретам, но не знал, что Гордиевский — двойной агент. Пока.
— Неплохо сделано, — заметил Гордиевский, возвращая резиденту документ.
— Да, так оно и есть, — согласился с ним Гук.
Гордиевскому представился случай подробнее ознакомиться с этим документом, когда Слава Мишустин, занимавшийся сбором и систематизированием поступавших в отделение сведений, попросил у него помощи с переводом. Мишустин удивлялся, как это британцам удалось собрать «такую точную информацию» о сотрудниках КГБ. Гордиевский же прекрасно понимал, откуда у них взялась вся эта информация.
Но он был больше озадачен, чем встревожен. Он даже готов был согласиться с Гуком в том, что эта полуночная доставка подметных писем по адресу Холланд-парк, 42, больше напоминает провокацию, чем настоящее предложение шпионских услуг. Наверное, британская разведка что-то задумала. Но если британцы планируют подставу, почему Спунер его не предупредил? И неужели в МИ-5 действительно хотят, чтобы в КГБ знали о том, что англичанам удалось установить личности всех кагэбэшников, работающих в Британии?
В обеденный перерыв Гордиевский выскользнул из посольства и набрал номер экстренного вызова. Трубку сразу же взяла Вероника Прайс. «Что происходит?» — выпалил Гордиевский и рассказал о загадочных письмах, подброшенных в личный почтовый ящик Гука, и о документах, которые он увидел собственными глазами. Некоторое время Вероника молчала. А потом сказала: «Олег, нам нужно увидеться».
Через час, когда Гордиевский прибыл на явочную квартиру, Джеймс Спунер и Вероника Прайс уже ждали его.
— Я понимаю: вы бы не стали этим заниматься, но кто-то водит нас за нос, — заявил он.
А потом он увидел выражение лица Спунера.
— О боже! Неужели это настоящий сигнал?
Вероника сказала:
— Насколько нам известно, сейчас не проводится никаких провокационных операций.
Позднее Гордиевский охарактеризовал реакцию МИ-6 на его рассказ как «классическое спокойствие». На самом же деле известие о том, что кто-то в недрах британской разведки добровольно вызывается шпионить на СССР, вызвало среди немногих, кто оказался посвящен в эту историю, испуг и оцепенение — и чудовищное ощущение, что все это уже происходило раньше. Как и в случае с Филби, с Холлисом и в других шпионских скандалах, британской разведке необходимо было теперь начать внутреннюю охоту на крота и попытаться выследить предателя. Если же крот учует, что на него охотятся, он может догадаться, что кто-то, сидящий в резидентуре КГБ, доложил обо всем британцам, — и тогда уже самому Гордиевскому будет грозить опасность. «Случайный перебежчик» явно занимал высокую должность, имел доступ к качественным секретам и хорошо разбирался в шпионском ремесле. Его нужно было поймать до того, как он успеет передать советской разведке новые дискредитирующие тайны. В штате МИ-5 и МИ-6 работало несколько тысяч человек. Среди них был и Коба.
Однако в лихорадочной охоте, которая началась с этого момента, у британской разведки имелось одно существенное преимущество.
Шпион — кто бы это ни был — не знал, что Гордиевский — британский агент. Если бы Коба входил в команду Ноктона, он бы никогда не стал забрасывать своих удочек, потому что понимал бы, что Гордиевский обязательно доложит обо всем в МИ-6, — как и произошло теперь. Первый его шаг оказался бы совсем другим: он выдал бы Гордиевского Гуку — и тем самым обеспечил бы себе безопасность. Этого не случилось. Поэтому поисками предателя должны были заниматься исключительно те сотрудники, кто знал тайну Гордиевского и кому можно было доверять целиком и полностью. Операцию по охоте на крота назвали «Эльмен» (по названию коммуны в австрийском Тироле).
Немногочисленные сотрудники МИ-5, ознакомленные с делом Гордиевского, должны были отвечать за выявление внутреннего лазутчика, а руководство всей операцией возложили на Джона Деверелла, директора отдела «К» — контрразведки МИ-5. Они работали в кабинете Деверелла и, пока вели свои поиски, были отрезаны от остальных: тайная ячейка внутри тайного отдела тайной организации. «Никто вне команды не замечал ничего необычного». Команда, работавшая над операцией «Эльмен», сама окрестила себя «нэджерами». Происхождение этого сленгового словечка остается неясным, но, похоже, его изобрел в 1950-е годы Спайк Миллиган в своей юмористической программе The Goon Show («Шоу мордоворотов») для обозначения какого-то непонятного недомогания, недуга или хвори. (Как, например, в фразе типа: «У-у, опять на меня напала эта гадкая хренотень (nadgers)».) А еще на сленге nadgers обозначало яички.
Элиза Маннингэм-Буллер поступила в службу безопасности в 1974 году — ее завербовали на одной вечеринке. Работа на разведку, можно сказать, была у нее в крови: ее отец, бывший генеральный прокурор, вел процессы против шпионов прежних лет, в том числе против Джорджа Блейка, двойного агента из МИ-6, а ее мать в годы Второй мировой войны обучала почтовых голубей, которых затем забрасывали в оккупированную Францию и использовали для доставки корреспонденции от участников Сопротивления в Британию. На Элизу пал выбор ввиду ее железобетонной надежности и здравомыслия: ее посвятили в дело Гордиевского на самом раннем этапе и ввели в крошечную команду операции «Лампада», которая анализировала данные, полученные им еще в Дании, и осуществляла взаимодействие с МИ-6. В 1983 году Элиза работала в управлении кадров МИ-5 и потому идеально подходила для охоты на внутреннего шпиона.
Позднее, в 2002 году, Маннингэм-Буллер возглавила МИ-5, поднявшись на одну из вершин в полном конкуренции мире, где доминировали мужчины. Ее восторженно-зажигательная манера общения вводила в заблуждение: ей были свойственны прямота, самоуверенность и необыкновенный ум. Несмотря на сексизм и предрассудки, царившие внутри МИ-5, Элиза была всем сердцем предана этой организации, которую называла «своей судьбой», и ее до глубины души потрясло известие о том, что в недрах британской разведки завелся еще один предатель. «Это был один из самых неприятных периодов в моей карьере, особенно в первые дни, когда мы еще не знали, кто он, потому что, бывало, я заходила в лифт, всматривалась в лица вокруг и думала: не этот ли?» Чтобы не возбуждать лишних подозрений среди коллег, «нэджеры» часто встречались уже в нерабочее время в квартире, принадлежавшей матери Элизы, в Иннер-Темпл. Одна из участниц команды была на сносях, и ее еще не родившегося ребенка прозвали «маленьким нэджером».
Для разведслужбы нет процесса более мучительного и изнурительного, чем прочесывание собственных рядов в поисках затаившегося предателя. Удар по уверенности МИ-6 в собственных силах, который нанес Филби, оказался куда более серьезным и долгосрочным, чем любой другой ущерб, причиненный им во время шпионажа на КГБ. Крот не просто разжигает недоверие. Он, как еретик, нарушает цельность самой веры.
Маннингэм-Буллер и ее коллеги-«нэджеры» запросили папки с делами всех сотрудников и принялись просеивать список потенциальных изменников. Документ МИ-у, в котором излагались основания для выдворения трех советских шпионов, рассылался в министерства иностранных и внутренних дел и на Даунинг-стрит, io. Таблица с именами всех советских разведчиков была составлена в К4 — отделе МИ-у, занимавшемся противодействием советской разведке, — и пятьдесят экземпляров этого документа были разосланы в различные управления секретного мира. Охотники на крота принялись устанавливать личности всех, кто мог иметь доступ сразу к обоим документам.
Расследование шло полным ходом, июнь близился к концу, и Олегу Гордиевскому и его семье пора было лететь в отпуск в Москву. Настроение у него было совсем не предотпускное, но если бы он вдруг отказался от поездки, это немедленно вызвало бы подозрения. Риск был слишком велик. Коба был все еще на свободе, а значит, в любой момент мог узнать о деятельности Гордиевского и выдать его Гуку. Если это произойдет, пока Гордиевский будет в Москве, то назад ему уже не вернуться. Сотрудников МИ-6 в Москве предупредили о его предстоящем приезде: возможно, ему понадобится выйти на связь или подать сигнал о необходимости побега.
Между тем «нэджеры» уже подбирались к человеку, чье присутствие в рядах британской разведки казалось — задним числом — какой-то несмешной шуткой.
Майкл Джон Беттани[44] был одиноким, несчастным и неуравновешенным человеком. В Оксфордском университете он развлекался тем, что печатал прусский строевой шаг во дворе колледжа и на полную громкость проигрывал на граммофоне речи Гитлера. Он носил твидовые костюмы с грубыми башмаками и курил трубку. «Он одевался как банковский служащий, а воображал себя штурмовиком»[45] — так высказывался о нем один бывший сокурсник. Однажды он поджег себя после вечеринки, как-то раз отрастил усы щеточкой а-ля фюрер, но девушкам это совсем не понравилось. Он избавился от северного выговора и научился тянуть слова, как это делают в высшем обществе. Как показало более позднее расследование, Беттани был человеком «со значительным чувством собственной неполноценности и неуверенности». Неконтролируемая неуверенность в себе — явно не идеальное качество для сотрудника службы безопасности, однако Майкла Беттани взяли на заметку еще в пору учебы в Оксфорде, а в МИ-5 он поступил в 1975-м.
После формального введения в курс дела его бросили, можно сказать, в самый омут: на борьбу с терроризмом в Северной Ирландии. Сам Беттани задавал руководству вопрос: годится ли он, по вероисповеданию католик, для такой работы? Но его сомнения были отметены. Его ждала мрачная, сложная и крайне опасная работа: ведение агентов внутри ИРА, прослушивание телефонов, разговоры с неприятными людьми в очень неприветливых пабах, причем ни на минуту нельзя было забывать о том, что один неверный шаг — и ему обеспечена пуля в голову в каком-нибудь белфастском переулке. Беттани был травмирован этой работой и не очень-то хорошо с ней справлялся. В 1977 году у него умер отец, а годом позже — мать. Несмотря на эту двойную потерю, служебную командировку Беттани в Белфасте продлили. Просматривая впоследствии папку с его делом, Элиза Маннингэм-Буллер пришла в ужас: «Это мы сделали из Беттани того, кем он стал. Он так и не оправился от Северной Ирландии». Это был человек, перенявший чужие выговор, гардероб и образ, человек без семьи, без друзей, без любви и без твердых убеждений, находившийся в поисках какого-то осмысленного дела и выполнявший работу, для которой он совершенно не годился. «Он жил не своей жизнью», — говорила Маннингэм-Буллер. Возможно, особая напряженность и секретность, присущие работе в разведке, еще больше оторвали его от действительности. Вероятно, если бы Беттани избрал какой-то другой род деятельности, он был бы вполне доволен своей жизнью, не отягченной лишними сложностями.
Вернувшись в Лондон, он провел два года в учебно-тренировочном подразделении, а потом, в декабре 1982 года, его перевели в К4 — отдел МИ-5, занимавшийся анализом советской шпионской деятельности в Британии и противодействием ей, в том числе и курированием особых агентов, использовавшихся для провокаций. Он жил один — с большой пластмассовой статуей Мадонны, несколькими русскими иконами, полным ящиком нацистских военных медалей и обширной коллекцией порнографии. Замкнутый и одинокий, он много раз уговаривал разных сотрудниц МИ-5 переспать с ним — безуспешно. На вечеринках изредка слышали, как он, напившись, кричит: «Я работаю не на ту сторону» и «Приходите ко мне на дачу, когда я выйду в отставку». За полгода до того, как в почтовом ящике Гука оказался первый конверт, полиция обнаружила Беттани сидящим на тротуаре в лондонском Уэст-Энде — он так нализался, что не мог встать. Когда его повели в участок за нахождение в пьяном виде в общественном месте, он орал полицейским: «Меня нельзя арестовывать, я — шпион!» Его оштрафовали тогда на 10 фунтов. В МИ-5 не приняли его заявление об увольнении. Это была ошибка.
Майкла Беттани нельзя было на пушечный выстрел подпускать к государственным секретам, а он к тридцати двум годам уже успел проработать в службе безопасности восемь лет и дослужился до сотрудника среднего чина в отделе противодействия советскому шпионажу МИ-5.
Очевидные знаки того, что Беттани слетает с катушек, были замечены, но их проигнорировали. Его католическая вера внезапно куда-то испарилась. В 1983 году он уже выпивал по бутылке чего-нибудь крепкого в день, и кто-то из начальства дал ему «дружеский совет» уменьшить потребление алкоголя. Больше никаких мер в его отношении не предпринималось.
Между тем сам Беттани не сидел сложа руки. Он начал запоминать содержание секретных документов и делать подробные конспекты, а потом перепечатывать их у себя дома, в южном пригороде Лондона, и снимать их на пленку. Всякий раз, приходя на ночное дежурство, он приносил в МИ-у фотоаппарат и снимал все материалы, до каких мог добраться. Никто его не обыскивал. Коллеги называли его Смайли — в честь вымышленного шефа разведки, персонажа Джона Ле Карре, — но при этом отмечали его «заносчивость и зазнайство». Как это случается со многими шпионами, Беттани хотелось знать — и скрывать — более важные тайны, чем те, что известны его товарищам.
В К4 работало четверо сотрудников. Двое из них были ознакомлены с делом Гордиевского. Беттани к ним не относился, но — и в переносном, и в самом буквальном смысле — он сидел совсем рядом с самым большим секретом во всей британской разведке: секретом о том, что у МИ-6 есть шпион прямо в лондонской резидентуре КГБ.
Позднее Беттани уверял, что в 1982 году сделался марксистом, и утверждал, будто его желание работать на КГБ родилось у него из чисто идейных убеждений. В длинном, полном самооправданий тексте он расцветил свои действия яркими красками политического мученичества, создав странную мешанину из обиды, конспирологии и праведного гнева. Он обвинял правительство Тэтчер в «рабской приверженности агрессивной авантюрной политике администрации Рейгана» и в намеренном увеличении числа безработных — с целью «еще больше обогатить тех, кто и так слишком богат». Беттани утверждал, что действовал во имя мира во всем мире, и осуждал МИ-у за использование «нечестных и аморальных методов… не просто для устранения советского правительства и компартии, но и для тотального уничтожения всего общества в СССР». Он прибегал к высокопарной революционной риторике: «Я призываю товарищей во всем мире снова преисполниться решимости и с удвоенными силами устремиться навстречу победе, которая исторически неизбежна».
Марксизм Беттани был такой же искусственной выдумкой, как и его сочный выговор. Он никогда не был убежденным коммунистом вроде Филби. Мало что указывает на то, что он вообще питал особую симпатию к Советскому Союзу, к неотвратимому приходу коммунизма или к угнетенному пролетариату. Однажды, на миг утратив бдительность, он выдал себя: «Я чувствовал, что мне необходимо влиять на события». Итак, Беттани было плевать на деньги, на революцию, на мир во всем мире: он жаждал внимания к собственной персоне.
Потому-то он был так больно уязвлен, когда КГБ не удостоил его ни малейшего внимания.
Беттани чрезвычайно удивился, когда его первое письмо с пакетом, опущенное в почтовый ящик Гука, осталось без ответа. Он несколько раз приходил на станцию «Пикадилли», но канцелярская кнопка на перилах так и не появилась, и он заключил, что просто неудачно выбрал место для тайника, да и место подачи условного сигнала должно находиться подальше от советского посольства. Во втором письме с инструкциями Беттани указал уже места не в центре Лондона, время подачи сигнала отодвинул вперед на несколько недель, а еще приложил один из самых секретных документов из К4. Затем он принялся ждать, теряться в догадках и крепко пить.
Конечно, проявляя задним числом предусмотрительность, можно было заметить тревожные признаки в поведении Беттани еще несколькими годами раньше. Но все три самые сильные разведывательные организации в мире — ЦРУ, МИ-6 и КГБ — в разное время становились жертвами внутреннего предательства со стороны людей, которые, если присмотреться, заметно отличались от остальных и вполне могли навлечь на себя подозрения. Разведслужбы славятся прозорливостью и хладнокровным профессионализмом, однако, несмотря на строгий отбор кандидатур при приеме на работу, они не реже других крупных организаций нанимают в штат и годами держат там совершенно неподходящих людей. Секретная работа была чревата сильным пьянством, причем по обе стороны фронта холодной войны: и штатные сотрудники, и агенты часто прибегали к выпивке как к верному средству снять напряжение, а алкоголь, как обычно, размывал их представления о реальности. Отношения между агентами и кураторами требовали больших энергозатрат, и здесь тоже часто приходил на выручку алкоголь, развязывающий языки и облегчающий процесс общения. В отличие от других ветвей правительства, секретные службы часто брали на работу людей творческих, обладавших, по выражению Уинстона Черчилля, «умом, похожим на штопор». Если приметами возможного предателя считались бы ум, эксцентричность и склонность к выпивке, то под подозрение попала бы добрая половина всех шпионов военной и послевоенной поры в Британии и США. Впрочем, в КГБ с этим как раз дело обстояло иначе: там официально не одобрялись ни пьянство, ни обладание яркой индивидуальностью. В Гордиевском не разглядели предателя, потому что он был трезвенником и конформистом; Беттани же проморгали именно потому, что он пил и чудил.
Между тем команда «нэджеров» сузила поиск, ограничив круг потенциальных кротов тремя подозреваемыми, причем возглавлял список Беттани. Однако возникал вопрос: как вести за ним наблюдение? Беттани хорошо знал в лицо всех из группы наружного наблюдения К4 и, конечно, сразу же заметил бы, что за ним следят. А если он узнает кого-то из «дозорных», то игра тут же и кончится. с другой стороны, и «дозорные» знали Беттани в лицо, и потому нельзя было исключить, что кто-нибудь случайно проболтается другим сотрудникам МИ-5, что за их коллегой следят. Потому вместо профессионалов из МИ-5 было решено задействовать людей из МИ-6, а именно — команду Ноктона: никого из них Беттани не знал. Глава МИ-5 недвусмысленно запрещал привлекать сотрудников МИ-6 к операциям МИ-5. Однако Деверелл проигнорировал этот запрет. К Беттани приставили сотрудников МИ-6, которые вели дело Гордиевского: они должны были ходить за ним следом и пытаться поймать его с поличным.
Беттани присвоили кодовое имя Пак (Puck), хотя у «нэджеров» оно восторгов не вызвало. «Все члены команды сочли, что шекспировские коннотации тут в высшей степени неуместны, да и само слово звучало уж слишком похоже на общеизвестное англо-саксонское ругательство».
Утром 4 июля в Коулсдоне, пригороде Южного Лондона, в конце Виктория-роуд без дела ошивалась неопрятная парочка в заношенной одежде. Это были Саймон Браун из Р5, глава отдела МИ-6, занимавшегося странами советского блока, и Вероника Прайс, разработчица плана побега для Гордиевского. Прайс, в которой все — от жемчугов до костюма — обличало жительницу Хоум-Каунтиз, не очень-то подходила на роль оборванки в этом маскараде. «Я взяла шляпку у нашей приходящей прислуги», — сообщила она напарнику, когда они принялись облачаться в тряпье.
В 8:05 из дома № 5 вышел Майкл Беттани. У ворот, прежде чем шагнуть на улицу, он задержался — и огляделся по сторонам. «В эту секунду я понял: это он, — говорил потом Браун. — Так ведут себя только те, кто чувствует себя виноватым и высматривает — нет ли за ним слежки». На парочку нищих или бродяжек Беттани не обратил внимания. Не заметил он и беременную женщину в вагоне поезда, отправлявшегося из Коулстона в центр Лондона в 8:36. Проглядел он и лысеющего мужчину, который минут десять шел за ним следом от вокзала «Виктория» до здания МИ-5 на Керзон-стрит. В тот день Беттани отлучался на два часа — и в какой-то момент бесследно затерялся в толпе горожан, тоже высыпавших на улицы в обеденный перерыв. В МИ-5 так и не узнали, ходил ли он тогда к Ганновер-сквер, чтобы проверить, не подал ли наконец советский резидент сигнал о согласии на сотрудничество, припарковав свой автомобиль на северной стороне площади. Гук, ясное дело, сигнала не подавал.
Раздосадованный и крайне встревоженный, Беттани решил попытаться еще раз склонить КГБ к сотрудничеству. 10 июля после полуночи он бросил в почтовый ящик Гука третье письмо: там он интересовался, получены ли два предыдущие и каков ответ советской стороны. Он сообщал, что намерен позвонить в советское посольство 11 июля, в 8:05 утра, и попросить к телефону Гука, назвав его по имени-отчеству. Резидент должен ответить и особой словесной формулой дать ему понять, интересуют ли его секреты, какие ему предлагает раскрыть Коба.
Почему МИ-5 не установила за домом Гука самое пристальное наблюдение, которое позволило бы застукать шпиона, когда он опускал в ящик свое третье письмо, остается загадкой. Гордиевский был теперь в Москве и никак не мог оповестить своих британских друзей о новом конверте. Но в любом случае Беттани разными способами выдавал себя, что говорило о сильном психическом перенапряжении и, возможно, даже о нервном срыве. Так, 7 июля он заговорил о Гуке с коллегами — как им показалось, с какой-то «навязчивостью» — и высказал мнение, что МИ-5 следует завербовать резидента КГБ. На следующий день он заметил, что, если бы КГБ предложили связаться даже с «первосортным» источником, тот все равно отверг бы предложение. Затем он начал задавать странные вопросы о разных сотрудниках КГБ и проявлять интерес к делам, выходившим за рамки его собственного круга обязанностей. Еще он пространно рассуждал о мотивах, двигавших шпионами прошлого, в том числе Кимом Филби.
Утром 11 июля Беттани позвонил в советское посольство из телефона-автомата, назвался мистером Кобой и попросил соединить его с Гуком. Но резидент КГБ не стал брать трубку. Беттани трижды подступался к главе лондонской резидентуры КГБ со своим дареным конем — и трижды Гук тупо смотрел этому коню в зубы. История разведслужб знает мало подобных случаев, когда кто-то вот так бездарно упускал удачу, которая сама шла в руки.
Прошло три дня, и Беттани вдруг спросил одного коллегу по МИ-5: «Как, по вашему мнению, поступил бы Гук, если бы кто-то из британской разведки подбросил ему в почтовый ящик письмо?» Теперь сомнений не оставалось: стало ясно, что Коба — именно Майкл Беттани.
И все же улики против Беттани оставались лишь косвенными. Его телефон прослушивали, но это не дало никаких результатов. У него дома произвели беглый обыск, но не нашли ничего обличающего. Беттани заметал следы как профессионал, придраться было не к чему. Чтобы предъявить ему обвинение по всем правилам, МИ-у нужно было застигнуть его за совершением предательских поступков — или вытянуть из него признание.
Гордиевский с семьей вернулись из отпуска io августа. На первой после возвращения в Англию встрече с кураторами на явочной квартире в Бейсуотере Гордиевский узнал, что, хотя теперь в деле уже имеется один явный подозреваемый, шпион внутри МИ-5 еще не арестован. У себя в резидентуре Олег невзначай наводил справки, интересуясь, имела ли какое-то продолжение история с таинственным Кобой за время его отсутствия, но не узнал ничего нового. Он попытался возобновить обычный ритм жизни и работы, снова принялся общаться с осведомителями КГБ и собирать данные для МИ-6, но ему было трудно сосредоточиться на чем-либо, его неотступно преследовала мысль о том, что тот шпион все еще на свободе, он где-то там, в недрах британской разведки. Очевидно, что этот человек не знал о том, что Гордиевский шпионит на Британию, когда писал первое письмо Гуку. Но ведь с тех пор прошло больше четырех месяцев. Вдруг за это время Коба успел докопаться до правды? А что, если Гук согласился воспользоваться его услугами? Тогда, быть может, его коллеги по КГБ уже сейчас тихонько наблюдают за ним, Гордиевским, и ждут, когда он совершит какую-нибудь оплошность? Пока тот шпион не изловлен, опасность с каждым днем возрастает. Олег забирал дочек из школы, водил Лейлу ужинать в рестораны, слушал Баха и читал книжки, пытаясь вести себя как ни в чем не бывало, но одна тревожная мысль не давала ему покоя: поймают ли его друзья из МИ-6 безымянного шпиона до того, как этот шпион уличит его самого?
Тем временем Беттани явно устал ждать ответа от Гука и решил сбыть свой незаконный товар в другом месте. На работе он обмолвился, что подумывает поехать в отпуск в Вену — известный в пору холодной войны центр шпионажа, где имелась обширная резидентура КГБ. При обыске шкафа Беттани на его рабочем месте обнаружились документы, где упоминался один сотрудник КГБ, выдворенный из Британии в рамках операции «Фут» и живший теперь в Австрии. Похоже, Беттани задумал выпорхнуть из клетки.
Тогда МИ-у решила схватить его — и попытаться вытянуть из него признание. Это был очень рискованный шаг: ведь если Беттани станет все отрицать, а потом уволится из спецслужб, по закону ему никак нельзя будет помешать уехать из страны. Новый план (получивший кодовое название «Коу») — вступить в открытое противоборство с Беттани и попытаться его разговорить — мог дать и обратный результат. «Мы не могли гарантировать успех», — предупреждали в МИ-6 и указывали, что если Беттани решит использовать все свои возможности, то «запросто сможет уйти от правосудия и будет дальше делать все, что захочет». А самое главное, нельзя было допускать, чтобы от поимки Беттани хоть какие-то следы вели к Гордиевскому.
15 сентября Беттани вызвали на заседание в штаб МИ-у на Гауэр-стрит — якобы для обсуждения одного срочного вопроса, связанного с контрразведкой. Но когда он пришел, его сразу же отвели в квартиру на верхнем этаже, и Джон Деверелл с Элизой Маннингэм-Буллер выложили перед ним на стол все имевшиеся против него улики — в числе прочего и фото входной двери Гука, которое должно было говорить о том, что, когда он бросал в ящик свои послания, за ним наблюдали (хотя это как раз было неправдой). Беттани был явно потрясен и «заметно нервничал», но держал себя в руках. Он заговорил в сослагательном наклонении о действиях этого предполагаемого шпиона, ничем не указав на то, что эти действия мог совершить он сам. Он отметил, что сознаваться вряд ли было бы в его интересах; это было скрытое допущение, но на признание оно никак не тянуло. Даже если бы Беттани и признал свою вину, его свидетельство не имело бы законной силы, так как пока он не был арестован и не давал показания в присутствии адвоката. МИ-5 хотела, чтобы он во всем сознался, затем его арестовали бы и во время допроса с предостережением добились бы повторного признания. Но он не стал ни в чем сознаваться.
Подслушивающие устройства передавали происходивший разговор вниз, в контрольное помещение, где целая команда сотрудников МИ-5 и МИ-6, затаив дыхание, ловила каждое слово подозреваемого. «Слушать, как он всеми силами увиливает от любых признаний, было поистине мучительно», — сказал потом один из тех сотрудников. Хотя нервы у Беттани явно были расшатаны, дураком он не был. «Мы всерьез опасались, что Беттани так и выйдет сухим из воды». К вечеру все страшно устали, а никакого прорыва так и не случилось. Беттани согласился провести ночь в квартире, куда его привели, хотя у МИ-5 не было законного права удерживать его там. От обеда он уже отказался, а теперь не желал и ужинать. Зато он потребовал бутылку виски и принялся пить — стакан за стаканом. Маннингэм-Буллер и два других куратора сочувственно выслушивали его, «изредка задавая коварные вопросы», а Беттани выражал свое восхищение «батареей улик», собранной против него МИ-5, однако не признавал их правдивыми. В какой-то момент он стал говорить о британцах «они», а о русских — «мы». Он признал, что хотел предупредить кагэбэшников о том, что за ними ведется слежка. Но настоящего признания он не сделал. А потом, в три часа ночи, он наконец рухнул в постель.
Утром Маннингэм-Буллер приготовила для Беттани завтрак, но он не стал его есть. Невыспавшийся, похмельный, голодный и крайне раздраженный, он объявил, что не собирается ни в чем признаваться. Но потом вдруг отказался от прежних околичностей и заговорил от первого лица. И еще он начал тепло отзываться о «Киме [Филби] и Джордже [Блейке]» — действовавших ранее шпионах времен холодной войны.
В 11:42, когда Деверелла не было в комнате, Беттани вдруг повернулся к допросчикам и объявил: «Кажется, я должен сделать чистосердечное признание. Скажите начальнику, что я готов во всем сознаться». Это было вполне в характере импульсивного Беттани: вот так железно держаться много часов кряду, а потом внезапно прогнуться. Через час он уже сидел в полицейском участке Рочестер-Роу и давал признательные показания.
При более основательном обыске дома № 5 на Виктория-роуд обнаружились доказательства шпионской деятельности Беттани: в футляре из-под электробритвы Philips оказались данные кагэбэшников, с которыми он планировал войти в контакт в Вене; под кучей хлама в угольном подвале нашлось фотооборудование; в шкафу для белья хранилась непроявленная пленка с отснятыми секретными материалами; в картонной коробке, под бокалами, лежали рукописные конспекты совершенно секретных материалов; в подушку были зашиты конспекты, отпечатанные на машинке. Самое странное, что Беттани раскаивался: «Я поставил спецслужбы в жуткое положение, это не входило в мои намерения».
Обнаружение очередного крота внутри британской разведки было преподнесено как триумф самой службы безопасности. Маргарет Тэтчер поздравила главу МИ-5 с «отлично проведенной операцией». «Нэджеры» прислали личное письмо Гордиевскому с выражением «самых теплых чувств». А Гордиевский отправил им ответ (через Спунера), где выражал надежду когда-нибудь поблагодарить сотрудников МИ-5 лично: «Не знаю, настанет ли когда-нибудь этот день — может быть, и нет. И все же мне хотелось бы, чтобы где-нибудь было записано: они укрепили мою веру в то, что они — настоящие защитники демократии в самом прямом смысле слова».
Маргарет Тэтчер была единственным членом кабинета министров, кто знал о роли Гордиевского в обезвреживании британского шпиона. В самой британской разведке о том, что в действительности происходило, были осведомлены только «нэджеры». Поскольку в прессе успел подняться ажиотаж, уже распространялась продуманная дезинформация, наводившая на мысль, что сигнал о предательстве Беттани поступил от «радиоразведки» (т. е. от перехватов) или что сами русские донесли службе безопасности о том, что в ее недрах затаился шпион. Одна газета ошибочно сообщила: «Русским в Лондоне просто надоел Беттани с его приставаниями, и, посчитав его классическим агентом-провокатором, они сообщили МИ-у, что Беттани попусту теряет время. Тогда-то в МИ-у и начали наблюдать за ним». На тот случай, если там засел еще один шпион, и для отвлечения внимания от истинного источника в МИ-у подготовили фальшивый отчет, указывавший на то, что сигнал о предложениях Беттани поступил от одного дипломата из советского посольства. Советская сторона все отрицала и утверждала, что любые разговоры о шпионаже КГБ — просто цинично сфабрикованная пропаганда, «направленная на нанесение ущерба нормальному развитию советско-британских отношений». В резидентуре же Гук продолжал стоять на своем: все эти махинации были заранее подстроены в МИ-у, чтобы заманить его в западню. (Отказаться от этой гипотезы значило бы расписаться в допущении чудовищной оплошности.) Гордиевский не заметил признаков того, что кто-то догадался об истинной причине провала Беттани: «Я не думаю, что Гук или Никитенко когда-либо считали меня причастным к аресту Кобы».
Среди множества догадок и домыслов, а также газетных публикаций, посвященных сенсационному разоблачению Беттани, на поверхность ни разу не прорвалась истина: что человека, сидевшего в Брикстонской тюрьме в ожидании суда по десяти пунктам обвинения в нарушении Закона о государственной тайне, посадил туда Олег Гордиевский.
Глава 10
Мистер Коллинз и миссис Тэтчер
Железная леди прониклась к своему русскому шпиону самыми нежными чувствами[46].
Маргарет Тэтчер никогда лично не встречалась с Олегом Гордиевским. Она не знала его настоящего имени и с необъяснимым упорством называла его мистером Коллинзом. Она знала, что он занимается шпионской деятельностью прямо в советском посольстве, тревожилась из-за психологического напряжения, которое он испытывает, и размышляла о том, что он мог бы «в любое время соскочить» и дезертировать. Когда этот момент наступит, неоднократно говорила премьер-министр, о нем и о его семье необходимо как следует позаботиться. Этот русский агент — не простой «икрометатель от разведки», повторяла миссис Тэтчер, а настоящий герой, полулегендарный борец за свободу, действующий в условиях чрезвычайной опасности. Его донесения доставлял ей личный секретарь, они были пронумерованы и имели гриф «Совершенно секретно и лично» и «Только для Великобритании», то есть для других стран эта информация не предназначалась. Премьер-министр жадно поглощала отчеты Гордиевского: «Она читала все от первой строчки до последней, делала комментарии, ставила вопросы, и бумаги возвращались от нее испещренные пометками, подчеркиваниями, восклицательными знаками и замечаниями». По словам биографа Тэтчер Чарльза Мура, «ее явно увлекала сама атмосфера секретности и романтика шпионажа», но при этом она сознавала, что загадочный русский делится с британцами политическими соображениями, имеющими уникальную ценность: «Донесения Гордиевского… давали ей представление о том, как советское руководство реагирует на западные явления и на ее собственную деятельность, и такую информацию она не могла бы почерпнуть больше ниоткуда». Шпион как бы приоткрывал для нее окошко, через которое можно было взглянуть на то, что творится в Кремле, о чем там думают, и она заглядывала в это окошко с замиранием сердца и с благодарностью. «Пожалуй, ни один другой британский премьер-министр никогда не следил за делом какого-либо тайного британского агента с таким заинтересованным вниманием, какое миссис Тэтчер уделяла Гордиевскому».
Пока британская разведка охотилась на Кобу, КГБ делал все возможное для того, чтобы Тэтчер проиграла на всеобщих выборах 1983 года. В глазах Кремля Тэтчер была Железной леди — впервые такое прозвище, считая его обидным, ей дали в газете Министерства обороны СССР, но оно ей очень польстило. с того самого момента, когда она пришла к власти в 1979 году, КГБ принимал «активные меры», нацеленные на подрыв ее авторитета, в том числе всячески проталкивал в печать статьи левых журналистов, критиковавшие Тэтчер. КГБ все еще поддерживал контакты с британскими леваками, и Москва не расставалась с иллюзией, будто ей каким-то образом удастся повлиять на выборы, склонив чашу весов в сторону Лейбористской партии, чей лидер, как-никак, продолжал числиться в архивах КГБ в качестве «негласного осведомителя». Словно предвещая более близкие нам времена, Москва приготовилась при помощи грязных фокусов и скрытого вмешательства воздействовать на ход демократических выборов, чтобы повысить шансы выгодного для нее кандидата.
Если бы лейбористы победили, Гордиевский очутился бы в довольно странном положении: ему довелось бы передавать секреты КГБ правительству, глава которого некогда охотно принимал денежные подачки от КГБ. В итоге информация о том, что Майкл Фут являлся в прежние годы агентом Бутом, так и осталась строго засекреченной, а попытки КГБ повлиять на исход выборов в Британии не возымели никакого успеха, и 9 июня Маргарет Тэтчер одержала решительную победу, чему в немалой степени поспособствовала победа в Фолклендской войне годом раньше. Вооруженная новым мандатом и тайно обеспеченная подсказками Гордиевского, которые помогали лучше разобраться в психологии Кремля, Тэтчер обратила взоры к ситуации с холодной войной. И то, что она там увидела, ее не на шутку встревожило.
Во второй половине 1983 года под воздействием «потенциально смертоносного сочетания рейгановской риторики и советской паранойи» Восток и Запад стремительно скатывались к вооруженному и, возможно, последнему конфликту. Выступая перед обеими палатами британского парламента, американский президент пообещал «выбросить марксизм-ленинизм на свалку истории»[47]. Полным ходом продолжалось наращивание военной мощи США, и параллельно велась интенсивная психологическая обработка — включая вторжения в советское воздушное пространство и тайные военно-морские операции, демонстрировавшие способность натовских кораблей подходить совсем близко к советским военным базам. Все это делалось для того, чтобы внушить русским тревогу, и своей цели американцы достигли. Операции «РЯН» было присвоено первостепенное значение, и КГБ принялся бомбардировать свои резидентуры по всему миру распоряжениями выискивать свидетельства того, что США и НАТО готовятся нанести по СССР внезапный ядерный удар. В августе по резидентурам была разослана личная телеграмма от начальника Первого главного управления (и впоследствии — руководителя КГБ) Владимира Крючкова, приказывавшая отслеживать любые признаки подготовки к войне, в частности, «тайного проникновения саботажных групп с ядерным, бактериологическим и химическим оружием» на территорию СССР. Те отделения КГБ, что послушно рапортовали о замеченной подозрительной деятельности, удостаивались похвалы; те, что молчали, подвергались суровой критике и получали наказ работать усерднее. Гука заставили признать «недоработки» в его стараниях выявить «особые планы США и НАТО по подготовке внезапного ракетно-ядерного нападения на СССР». Гордиевский называл всю операцию «РЯН» «смехотворной», однако донесения, которые он поставлял в МИ-6, не оставляли места для сомнений: советское руководство действительно боялось нападения, готовилось к отпору и настолько поддавалось панике, что полагало, будто выживание страны зависит от упреждающих действий. После трагического происшествия над Японским морем обстановка накалилась еще больше.
В ночь на 1 сентября 1983 года советский истребитель сбил корейский самолет Boeing 747 авиакомпании Korean Air Lines (KAL), по ошибке вошедший в советское воздушное пространство. Все пассажиры и члены экипажа — 269 человек — погибли. После атаки гражданского рейса KAL 007 отношения между Востоком и Западом резко испортились. Поначалу Москва вообще отрицала свою причастность к инциденту, а потом вдруг заявила, что это был шпионский самолет, намеренно нарушивший воздушную границу СССР, и что это была провокация со стороны США. Рональд Рейган осудил «кровавую расправу с корейским самолетом» как «проявление варварства… [и] нечеловеческой жестокости», и это заявление, подогревшее негодование в США и в мире, спровоцировало среди противников СССР «настоящую вакханалию фарисейства»[48] (как выразился позднее один американский чиновник). Конгресс США согласился снова увеличить расходы на оборону. Москва, в свой черед, истолковала негодование Запада из-за сбитого KAL 007 как искусственно раздутую моральную истерику, за которой должно последовать военное нападение. Вместо того чтобы принести извинения за трагическую ошибку, Кремль обвинил ЦРУ в «преступной провокации». На лондонскую резидентуру КГБ посыпался град телеграмм-молний с инструкциями: защищать советское имущество и советских граждан от возможного нападения, валить всю вину на Америку и собирать информацию, которая подкрепила бы теории заговора, в которые верили в Москве. Позже Центр похвалил лондонскую резидентуру за «усилия, направленные на противодействие антисоветской кампании, устроенной из-за южнокорейского самолета». Андропов, прикованный к постели тяжелой (и, как вскоре выяснится, смертельной) болезнью, с гневом обрушился на «возмутительный милитаристский психоз» Америки. Гордиевский тайно выносил все телеграммы из посольства и передавал их МИ-6.
Самолет, выполнявший рейс KAL 007, был сбит из-за элементарной профессиональной некомпетентности двух летчиков — корейского и советского. Но материалы, с которыми Гордиевский знакомил МИ-6, ясно показывали, что в условиях растущей напряженности и взаимного непонимания обычная человеческая трагедия до предела обострила и без того уже опасную политическую ситуацию.
На фоне этого взаимного злобного недоверия, непонимания и агрессии произошло событие, которое подвело холодную войну к самому краю пропасти и едва не вызвало настоящую войну.
Able Archer 83[49] — «Меткий лучник ‘83» — так назывались военные учения НАТО, проходившие со 2 по 11 ноября 1983 года и призванные инсценировать нарастающий конфликт, который завершается ядерным нападением. В прошлом подобные «генеральные репетиции» военных действий проводились уже множество раз, причем обеими сторонами. В Able Archer участвовало 40 тысяч солдат США и других стран НАТО из Западной Европы; развертывание войск и координация действий осуществлялись при помощи шифрованных сообщений. На командных учениях отрабатывалась воображаемая ситуация, при которой «синие войска» (НАТО) защищают своих союзников после того, как «оранжевые войска» (страны Варшавского договора) вторглись в Югославию, намереваясь далее напасть на Финляндию, Норвегию и затем на Грецию. По мере разворачивания учебного конфликта обычная война постепенно переходила в войну с применением химического и ядерного оружия, что позволяло НАТО поупражняться в алгоритмах, связанных с разрешением на использование ядерного оружия. Настоящее оружие при этом не использовалось. Это был просто учебный прогон, но в лихорадочной атмосфере, какая создалась после инцидента с KAL 007, кремлевские алармисты усмотрели в учениях противника нечто гораздо более зловещее. Им примерещилась военная уловка, задуманная как прикрытие для настоящих действий — для первого ядерного нападения, которое как раз предсказывал Андропов и признаки которого выискивались уже больше трех лет в рамках операции «РЯН». Военным из НАТО пришло в голову инсценировать реалистичную ядерную угрозу именно тогда, когда КГБ усиленно искал признаки ее приближения. Подозрения советской стороны в том, что сейчас ведется не просто игра, подкрепили различные особенности Able Archer, каких не было у прежних учений: и бурный обмен шифрованными сообщениями между США и Великобританией месяцем ранее (в действительности вызванный вторжением США в Гренаду), и участие в начальном этапе игр западных лидеров, и характер переброски офицеров на американские базы, размещенные в Европе. Позже секретарь кабинета министров сэр Роберт Армстронг объяснил миссис Тэтчер, что в СССР отреагировали на происходившее так нервно потому, что учения «состоялись накануне и во время важного советского праздника и проводились в форме настоящих военных действий и сигналов тревоги, а не обычных военных игр».
5 ноября в лондонскую резидентуру пришла телеграмма из Центра, предупреждавшая о том, что после того как США и НАТО примут решение о нанесении первого удара, их ракеты окажутся на борту ракетоносцев через семь-десять дней. Гук получил приказ: вести усиленный надзор и высматривать признаки любой «необычной активности» в ключевых позициях — вблизи хранилищ ядерного оружия, центров связи, правительственных бункеров и, главное, на Даунинг-стрит, io, где чиновники могли лихорадочно готовиться к войне, «не информируя прессу». В одной директиве (говорившей довольно много о приоритетах самой советской верхушки) КГБ предписывал своим сотрудникам выискивать свидетельства того, что представители «политической, экономической и военной элиты» эвакуируют из Лондона собственные семьи.
Телеграмма, переданная Гордиевским в МИ-6, стала для Запада первым оповещением о том, что в СССР реагируют на штабные учения весьма необычным образом, и это должно было внушать большую тревогу. Два (или, быть может, три) дня спустя по резидентурам КГБ была разослана новая «молния», в которой сообщалось (ошибочно), будто американские военные базы приведены в боевую готовность. Центр предлагал этому различные объяснения, «одно из которых сводилось к тому, что под прикрытием учений Able Archer началась подготовка к нанесению первого ядерного удара». (В действительности на военных базах просто усилили меры безопасности после случившейся незадолго до этого террористической атаки на казармы американских солдат-миротворцев в Бейруте.) Разведданные от Гордиевского поступили слишком поздно: Запад уже не мог остановить начавшиеся учения. К тому моменту Советский Союз начал готовить к использованию собственный ядерный арсенал: размещенный в Восточной Германии и Польше воздушный флот принялись оснащать ядерными боеприпасами, около семидесяти ракет SS-20, нацеленных на Западную Европу, привели в состояние повышенной боеготовности, а советские подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами развернули под арктическим льдом, чтобы противник не мог их заметить. В ЦРУ доложили о замеченной военной активности в Прибалтике и в Чехословакии. Некоторые аналитики считают, что Советский Союз действительно приготовил к запуску свои межконтинентальные баллистические ракеты, но удержался от действий в последний момент.
ii ноября учения Able Archer были свернуты по заданному графику, обе стороны начали постепенно зачехлять оружие, и устрашающая «мексиканская дуэль», совершенно никому не нужная и оставшаяся не замеченной широкой публикой, подошла к концу.
Историки расходятся во мнениях о том, насколько близко подошел тогда мир к новой войне. В официальной истории МИ-5 учения Able Archer названы «самым опасным моментом со времени Карибского кризиса 1962 года»[50]. Другие считают, что Москва с самого начала знала, что это всего лишь учения, и что советская подготовка к ядерной войне была лишь мнимой борьбой — фикцией в ответ на фикцию. Сам Гордиевский высказывался об этом флегматично: «Я понимал, что это — лишь новое и тревожное отражение нараставшей паранойи в Москве, а вовсе не повод для серьезного беспокойства ввиду отсутствия других знаков».
Но в британском правительстве те, кто читал донесения Гордиевского и знакомился с потоком телеграмм из Москвы, считали, что настоящей ядерной катастрофы едва удалось избежать. Вот что говорил об этом Джеффри Хау, министр иностранных дел Британии: «Гордиевский поставил нас в известность о поразительном, но искреннем страхе русских перед настоящим ядерным ударом. НАТО пришлось нарочно изменить кое-что в своих учениях, чтобы у СССР не осталось сомнений в том, что это всего-навсего учения»[51]. На самом же деле из-за отклонения от обычной практики намерения НАТО, возможно, стали выглядеть еще более зловещими. Позже Объединенный разведывательный комитет заключил: «Нельзя сбрасывать со счетов возможность, что по меньшей мере кто-то из советских чиновников/военачальников мог превратно усмотреть в учениях Able Archer… реальную угрозу».
Маргарет Тэтчер была сильно встревожена. Советские страхи в сочетании с агрессивной рейгановской риторикой вполне могли привести к ядерной войне, но в Америке не вполне сознавали опасность ситуации, которую отчасти сами же создали. Тэтчер решила, что необходимо что-то предпринять, «чтобы устранить вероятность того, что Советский Союз, неверно истолковав намерения Запада, неадекватно отреагирует на его действия». Она постановила, что Министерство иностранных дел «должно срочно придумать, как сообщить американцам о возможном неправильном представлении СССР о том, что НАТО готовит внезапное нападение». В МИ-6 согласились «поделиться с американцами откровениями Гордиевского». Использование секретных материалов из дела Ноктона ознаменовало новый поворот в сотрудничестве США и Британии: в порядке исключения МИ-6 проинформировала ЦРУ о том, что в КГБ считают, что развернутые военные учения — на самом деле продуманная прелюдия к настоящей войне.
«Не представляю, как им такое могло прийти в голову, — сказал Рональд Рейган, когда ему сообщили, что в Кремле на полном серьезе испугались ядерного нападения во время проведения Able Archer, — однако тут есть о чем подумать»[52].
В действительности президент США уже задумывался о возможности ядерного конца света. Месяцем раньше он посмотрел фильм «На следующий день», где изображалось разрушение ядерным ударом города на Среднем Западе США, и был «сильно потрясен». Вскоре после завершения учений Able Archer он посетил брифинг в Пентагоне, где рассказывалось о «невообразимо чудовищных» последствиях ядерной войны. Даже если бы Америка победила в такой войне, в ней погибло бы, возможно, около 150 миллионов американцев. Рейган отмечал, что присутствие на том брифинге «подействовало на него чрезвычайно отрезвляюще». В тот вечер он записал у себя в дневнике: «Мне кажется, Советский Союз… так боится нападения, что… мы должны сказать русским, что у нас никто не собирается на них нападать».
И Рейган, и Тэтчер видели в холодной войне прежде всего коммунистическую угрозу для мирной западной демократии. Теперь же, благодаря донесениям Гордиевского, они осознали, что советская тревога может представлять даже большую угрозу для всего мира, чем советская агрессия. В своих мемуарах Рейган писал: «За три года я узнал о русских нечто удивительное: многие люди в советском руководстве испытывали настоящий страх перед Америкой и американцами… Я начал понимать, что многие советские чиновники боятся нас не только как противников, но и как потенциальных агрессоров, которые способны первыми нанести по их стране ядерный удар»[53].
Учения Able Archer ознаменовали важную веху в ходе холодной войны, обозначив момент пугающего противостояния, которого не заметили ни западные средства массовой информации, ни западная широкая публика, а между тем он спровоцировал в итоге медленную, но весьма ощутимую оттепель. Администрация Рейгана начала смягчать свою антисоветскую риторику. Тэтчер решила, что нужно налаживать нормальный диалог с Москвой. «Она почувствовала, что пришла пора отказаться от прежней риторики и рассуждений об „империи зла“ и задуматься о том, как сам Запад мог бы покончить с холодной войной». Кремлевская истерика тоже начала затихать, особенно после смерти Андропова, скончавшегося в феврале 1984 года, — и, хотя сотрудникам КГБ по-прежнему вменялось в обязанности высматривать признаки подготовки к ядерной войне, операция «РЯН» постепенно начала терять динамику.
Отчасти благодарить за это потепление следует Олега Гордиевского. До той поры выведанные им секреты передавались американцам лишь в очень скупо отмерявшихся дозах и фрагментах. Отныне же британцы стали делиться с ЦРУ собранными им материалами все более щедро, хотя их происхождение по-прежнему старательно маскировалось. Американцам сообщили, что сведения о повышенной тревоге, какую вызвали в СССР учения Able Archer, поступили от «одного чехословацкого разведчика. которому было поручено наблюдать за масштабными учениями НАТО». Гордиевский был очень рад, что МИ-6 решила поделиться его разведданными с ЦРУ. «Олегу хотелось этого, — говорил потом один из его британских кураторов. — Ему хотелось как-то повлиять на ход событий». И ему это удалось.
У ЦРУ имелось в СССР несколько шпионов, но среди них не было ни одного источника, который мог бы подбросить им подобного рода «полезные представления о советской психологии» и раздобыть «подлинные документы, свидетельствовавшие об истинных страхах перед упреждающим ударом, который может быть нанесен в любое время». Роберт Гейтс, заместитель директора разведки в ЦРУ, прочитал отчеты, составленные на основе донесений Гордиевского, и понял, что его ведомство попало впросак: «Ознакомившись с этими донесениями, я понял, во-первых, что мы как разведка, похоже, допустили большой промах, но это еще не все. Самым ужасным было то, что из-за Able Archer мы, сами того не зная, оказались у самого порога ядерной войны»[54]. Как было отмечено в секретном сводном отчете ЦРУ для внутреннего пользования, посвященном вызванному учениями страху и написанном уже несколько лет спустя, «поступившая от Гордиевского информация открыла глаза президенту Рейгану… Лишь предупреждение Гордиевского, своевременно дошедшее до Вашингтона через МИ-6, позволило не зайти чересчур далеко»[55].
Начиная с Able Archer Рональду Рейгану передавали основное содержание политических донесений Гордиевского в виде регулярных сводок, поступивших от одного источника. Высказывая суждение уже задним числом, Гейтс писал: «Наши источники в Советском Союзе, как правило, снабжали нас информацией о тамошних вооруженных силах и военных исследованиях и разработках. Гордиевский же предоставлял нам сведения о том, как мыслит их руководство, — а как раз такой информации у нас было кот наплакал». Рейгана «глубоко трогало» то, что он читал, потому что он понимал, что эти сведения исходят от человека, который находится где-то внутри советской системы и рискует жизнью. Информация, поступавшая через МИ-6, «очень высоко ценилась в ЦРУ, и к ней допускали лишь узкий круг лиц, да и те знакомились с ней только на бумажных носителях и в условиях строжайшей секретности»[56], а потом ее перекомпоновывали и отправляли в Овальный кабинет. Разведданные Гордиевского подводили прочную основу под «убеждение Рейгана в том, что необходимо предпринимать более заметные усилия не только для ослабления напряжения, но и для прекращения холодной войны». В ЦРУ относились к этому с пониманием, но чувствовали раздражение и сгорали от любопытства, желая узнать: откуда же все-таки поступает этот бесперебойный поток секретов?
Шпионы обычно видят в собственной деятельности что-то исключительное и ценное, но правда о шпионаже заключается в том, что он редко меняет расклад сил всерьез и надолго. Политики высоко ценят секретную информацию именно потому, что она секретная, однако секретность сама по себе не делает ее надежнее другой — совершенно доступной — информации, а часто случается даже наоборот. Если у противника имеются шпионы в вашем лагере, а у вас — в его лагере, то мир, быть может, становится чуть-чуть безопаснее, но, по существу, в гонках по этому загадочному и неизмеримому кругу под названием «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…» вы снова и снова попадаете на точку старта.
Однако изредка шпионы все-таки оказывают большое влияние на историю. Дешифровка немецкого кода «Энигма» помогла укоротить Вторую мировую войну по меньшей мере на год. Успешный шпионаж и стратегический обман послужили подспорьем для Сицилийской операции и для высадки союзников в Нормандии. Внедрение советских агентов в сети западной разведки в 1930–1940-е годы предоставило Сталину значительное преимущество в его отношениях с Западом.
Круг таких шпионов, которые действительно что-то изменили в ходе мировых событий, узок и тесен, и Олег Гордиевский, безусловно, входит туда: он приоткрыл завесу над работой внутренних механизмов КГБ в переломный момент истории, не только рассказав о том, чем занята (и чем не занята) советская разведка, но еще и раскрыв мысли и планы Кремля, — и тем самым он в корне изменил представления Запада о Советском Союзе. Он рисковал жизнью, предавая свою страну и одновременно делая весь мир чуточку более безопасным. Как отмечалось во внутреннем секретном отчете ЦРУ, паника, вызванная учениями Able Archer, стала «последним пароксизмом холодной войны».
14 февраля 1984 года тысячи людей пришли на Красную площадь на похороны Юрия Андропова. Среди официальных лиц, представлявших разные страны мира, была и Маргарет Тэтчер в элегантном траурном платье. Ее фигура смотрелась несколько грузнее, чем обычно, из-за грелки, подоткнутой под пальто, — для защиты от московских морозов. Как она сказала потом вице-президенту США Джорджу Бушу, эти похороны стали «подарком небес» для отношений между Востоком и Западом. Тэтчер прекрасно сыграла свою роль. В то время как другие западные лидеры «рассеянно болтали между собой» во время похорон, а некоторые даже хихикали, когда гроб Андропова чуть не уронили, она с начала до конца церемонии сохраняла «надлежащую чинность». На прием в Кремль за Тэтчер последовал дородный британский телохранитель, у которого выпирали набитые чем-то карманы (оружием — решили кагэбэшники), а там неожиданно извлек из них пару туфель на высоких каблуках — сменную обувь для премьер-министра. Она сорок минут проговорила с преемником Андропова, старым и больным Константином Черненко, и сказала ему, что у них «есть шанс — возможно, последний шанс — добиться важнейших соглашений о разоружении». Черненко поразил ее своей старческой немощью — это был живой реликт коммунистического прошлого. «Ради бога, найдите мне какого-нибудь русского помоложе»[57] — с такой просьбой она обратилась к своим помощникам в самолете, летевшем назад в Лондон. На самом деле британские чиновники уже поняли, кто мог бы стать собеседником Тэтчер с советской стороны: они заметили восходящую звезду Политбюро — Михаила Горбачева.
Тэтчер исполнила свою роль безупречно, следуя сценарию, написанному отчасти и Гордиевским. Перед поездкой премьер-министра на похороны генсека Джеймс Спунер попросил Гордиевского подсказать, как Тэтчер лучше держаться в Москве. Тот сказал, что главное — это чинность и дружелюбие, но предупредил, что русские склонны к обидам и всегда остаются настороже. «Олег провел полный инструктаж, подсказал, как ей лучше вести себя, — говорил сотрудник МИ-6, отвечавший за анализ и распределение материалов из дела Гордиевского. — На трибуне она стояла в черном платье и меховой шляпке. Вышел обольстительный образ. Она подобрала ключ к психологии русских. Не будь Олега, она держалась бы гораздо жестче. Благодаря Олегу она узнала, как сыграть лучше. И русские это отметили».
Между тем в советском посольстве в Лондоне на встрече посольских работников, среди которых были и сотрудники КГБ, посол Попов сказал, что к появлению госпожи Тэтчер на похоронах Андропова в Москве отнеслись очень хорошо. «Подобающая случаю тактичность премьер-министра и ее блестящий политический ум произвели на всех глубокое впечатление, — доложил Попов. — Госпожа Тэтчер приложила все усилия к тому, чтобы очаровать своих хозяев».
Здесь круг разведки идеально замыкался: Гордиевский подсказал премьер-министру Британии, как лучше всего вести себя с советскими коллегами, а затем он сообщил ей о том, какая реакция последовала на ее поведение. Шпионы обычно поставляют факты, а анализом занимаются те, кто эти факты получает; Гордиевский же, пользуясь своим уникальным положением, мог истолковывать для Запада мысли, надежды и страхи КГБ. «В этом и заключалась суть пользы, которую приносил Олег, — говорил аналитик из МИ-6. — Он как бы залезал в чужие головы, постигал чужую логику, чужие рассуждения».
Шпионская деятельность Гордиевского носила одновременно позитивный и негативный характер: с одной стороны, он поставлял важные секреты, заблаговременные оповещения и соображения, с другой (и пользы от этого было не меньше) — заверял британцев в том, что резидентура КГБ в Лондоне в целом бездарна, что ее работа отличается такой же неуклюжестью, бесполезностью и лживостью, как и человек, который ею руководит. Аркадий Гук с презрением относился к своему начальству в Центре, однако бросался выполнять любые его распоряжения, даже самые нелепые. Услышав на BBC об учениях с крылатыми ракетами на авиабазе Гринэм-Коммон, резидент поспешил сфабриковать лживый отчет, из которого следовало, будто он заранее что-то знал об этих испытаниях. Когда в Британии начались массовые демонстрации против ядерного вооружения, Гук стал примазываться к ним и напрашиваться на поощрение, сочиняя, будто к этим протестам привели «активные меры» со стороны КГБ. А когда в Лондоне покончили с собой два советских гражданина — один работал в торговой палате, а вторая была женой сотрудника международной организации, — Гук проявил маниакальную подозрительность. Он распорядился отправить тела самоубийц в Москву и там провести экспертизу — с целью установить, не были ли они отравлены. Врачи КГБ догадались, чего от них ждут, и послушно подтвердили безумную версию резидента, хотя в действительности мужчина повесился, а женщина выбросилась с балкона. По замечанию Гордиевского, заключение врачей «являлось лишь еще одним свидетельством того, как паранойя, ставшая в нашем обществе вполне обыденным явлением, стимулировала у советских людей неврозы». Свою же собственную оплошность, допущенную в деле Беттани, резидент старательно прикрыл, заверив Москву, будто все это намеренное вранье, выдумки британской разведки.
Гук ревниво охранял собственные секреты, однако Гордиевскому удалось собрать поразительно большое количество полезных сведений — начиная с посольских сплетен и заканчивая информацией, имевшей политическую и государственную важность. КГБ курировал ряд нелегалов в Британии, и хотя линия «Н» внутри резидентуры действовала наполовину самостоятельно, Гордиевский всякий раз давал наводку МИ-5, когда ему становилось что-то известно о деятельности подпольной шпионской сети. В самый разгар шахтерских забастовок в 1984–1985 годах Гордиевский узнал о том, что Национальный союз горняков связывался с Москвой и просил о финансовой поддержке. КГБ высказывался против финансирования шахтеров. Сам Гордиевский говорил коллегам по КГБ, что для Москвы было бы «нежелательно и непродуктивно» субсидировать иностранное забастовочное движение. Но в ЦК КПСС рассудили иначе — и одобрили перевод более чем миллиона долларов из Совзагранбанка (в итоге швейцарский банк-получатель заподозрил неладное, и перевод так и не был осуществлен). Тэтчер обзывала шахтеров «внутренним врагом» — и эти ее предубеждения наверняка усилились, когда она узнала, что враг внешний готовился профинансировать забастовки горняков.
Шпионский радар Гордиевского обнаруживал и других врагов, находившихся далеко от Москвы. 17 апреля 1984 года сотрудницу британской полиции Ивонн Флетчер расстреляли из пулемета из здания ливийской дипломатической миссии на Сент-Джеймс-сквер в центре Лондона. На следующий день резидентура КГБ получила телеграмму из Центра, содержавшую «достоверную информацию о том, что стрельба произошла по личному приказу Каддафи», и сообщавшую, что «в Лондон для командования расстрелом был специально отправлен из Берлина опытный профессиональный убийца». Гордиевский немедленно передал телеграмму в МИ-6 — и она стала основанием для сурового ответа. Правительство Тэтчер разорвало дипломатические отношения с Ливией, выслало из страны наемных бандитов Каддафи и успешно искоренило ливийский терроризм в Британии.
Иногда разведданные «вызревают» долго. О шпионской деятельности Арне Трехолта Гордиевский впервые предупредил МИ-6 еще в 1974 году, но норвежская служба медлила десять лет, прежде чем решилась принять меры, — отчасти из желания защитить источник «слива». За это время Арне Трехолт, яркая звезда норвежского левого движения, стал начальником отдела прессы в Министерстве иностранных дел Норвегии. В начале 1984 года Гордиевскому сообщили, что норвежцы готовы взять Трехолта, и поинтересовались, не возражает ли он: поскольку наводка поступила изначально от него, в случае задержания Трехолта Гордиевский сам мог попасть под удар. Гордиевский не колебался: «Разумеется, не возражаю. Он предал НАТО и Норвегию, так что чем скорее его арестуют, тем лучше».
2о января 1984 года глава норвежской контрразведки задержал Трехолта в аэропорту Осло. Он собирался вылететь в Вену — предположительно для встречи с Геннадием «Крокодилом» Титовым, своим куратором из КГБ, с которым обедал вот уже тринадцать лет. В портфеле Трехолта обнаружили 65 секретных документов. Еще 8оо документов были найдены у него дома при обыске. Вначале он отвергал обвинения в шпионаже, но, когда ему показали фотографию, на которой он был заснят вместе с Титовым, его вдруг сильно стошнило, а потом он сдался: «Ну что тут сказать?»[58]
Титова тоже перехватила норвежская разведслужба и предложила ему сделку: если он соглашается перейти на другую сторону или дезертировать на Запад, то получит полмиллиона американских долларов. Он отказался — и его вышвырнули из страны.
В суде Трехолта обвинили в причинении «невозместимого ущерба» Норвегии путем передачи государственных секретов советским и иракским агентам в Осло, Вене, Хельсинки, Нью-Йорке и Афинах. Его обвинили в получении 81 тысячи долларов от КГБ. В газетах его называли «величайшим предателем Норвегии со времен Квислинга» (Квислинг сотрудничал с нацистами в военные годы, и в английском языке его имя даже сделалось нарицательным для обозначения изменника и коллаборациониста). Судья заметил, что Трехолт имел «необоснованное и преувеличенное мнение о собственной важности». Его признали виновным в государственной измене и приговорили к двадцати годам тюрьмы.
В конце лета 1984 года Джеймса Спунера перевели на другую работу, и новым куратором Гордиевского сделался Саймон Браун, владевший русским языком бывший глава бюро советских операций P5 — тот самый, что выслеживал Беттани, вырядившись бродягой. Брауна ознакомили с делом Ноктона еще в 1979 году, и тогда, возглавляя отделение МИ-6 в Москве, он отвечал за контроль над местами подачи условных сигналов для операции побега «Пимлико». Если со Спунером у Гордиевского с первого взгляда вспыхнула взаимная личная симпатия, то с новым куратором взаимопонимание установилось не сразу. Во время их первой встречи Вероника подала на обед сельдерей и поставила чайник на огонь. Браун нервничал. «Я думал: если я буду с трудом говорить по-русски, он примет меня за идиота. А потом, когда я прокрутил запись, то, к моему ужасу, услышал только нарастающий шум закипающего чайника и чье-то чавканье сельдереем». На этих встречах всегда присутствовала секретарь МИ-6 Сара Пейдж, неизменно невозмутимая и обнадеживающая: «Ее успокаивающее присутствие во многом помогало очеловечить и незаметно смягчить несколько накаленную атмосферу».
Между тем Гордиевский продолжал заниматься своей основной работой — поддерживал контакты с местными политическими осведомителями, одни из которых искренне симпатизировали советскому строю, а другие, вроде Розмари Спенсер, просто поставляли годный «цыплячий корм». Исследовательницу из штаб-квартиры Консервативной партии, не знавшую о том, что Гордиевский в действительности — двойной агент, работающий на британскую разведку, МИ-5 использовала специально для этой цели — снабжать его хоть какой-то информацией. Другим подобным агентом был Невилл Бил — представлявший партию тори член совета Большого Лондона от Финчли и бывший председатель объединения консерваторов Челси. Он передавал Гордиевскому документы, принимавшиеся в совете, — они не имели никакой секретности и были довольно скучными, зато подтверждали (в глазах кагэбэшного начальства) умение Гордиевского раздобывать разнообразную официальную информацию.
Из Центра часто приходили предложения о вербовке новых агентов — чаще всего совершенно нецелесообразные и неосуществимые. В 1984 году Гордиевский получил адресованную лично ему телеграмму из Центра: ему предписывалось возобновить контакты с Майклом Футом, бывшим агентом Бутом. После сокрушительного поражения на выборах Фут ушел в отставку с поста лидера Лейбористской партии, но оставался членом парламента и ведущим деятелем левого крыла. В телеграмме отмечалось, что хотя Фут и не взаимодействовал с КГБ с конца 1960-х годов, «было бы полезно восстановить контакт» с ним. Если бы стало известно, что шпион, курируемый МИ-6, активно пытается завербовать одного из самых высокопоставленных политических деятелей Британии, разразился бы немыслимый скандал. «Тяните резину, — посоветовали Гордиевскому в МИ-6. — Отвертитесь как только можете от этого поручения». Гордиевский отправил в Центр ответное сообщение: мол, он попробует заговорить с Футом на каком-нибудь приеме, «ненавязчиво» даст ему понять, что знает о его прошлых контактах с Москвой, и прозондирует почву. Потом он, естественно, не стал ничего делать, понадеявшись, что в Центре скоро забудут про эту идею. И в самом деле, от него на некоторое время отстали.
За первые два года дело Ноктона дало тысячи разрозненных данных разведки и контрразведки; одни состояли всего из нескольких предложений, другие — из множества страниц. Далее они дробились и распределялись по кусочкам — что-то уходило в МИ-5 и Маргарет Тэтчер, что-то доставалось разным ведомствам Уайтхолла и Министерству иностранных дел, и все больше материалов перепадало ЦРУ. Другие избранные союзники изредка получали директивы контрразведки, но только тогда, когда речь шла о важных вещах. В отношении ЦРУ действовал режим «наибольшего благоприятствования».
В МИ-6 были очень довольны Гордиевским — как и в КГБ. Руководство в Москве не переставало радоваться неиссякаемому потоку информации, поступавшему от него как от начальника линии «ПР». МИ-6 подмешивала к «цыплячьему корму» достаточно интересной информации, чтобы КГБ оставался сыт и доволен. И даже Гук оставался доволен работой Гордиевского, не подозревая о том, что вскоре его подчиненный положит бесславный конец его собственной шпионской карьере.
11 апреля 1984 года в Олд-Бейли начался суд над Майклом Беттани. Соблюдались строжайшие меры безопасности: окна в здании были затемнены, в зале присутствовало большое количество полицейских, использовалась особая телефонная линия с шифратором для связи со штабом МИ-5 на случай, если в процессе судебных слушаний возникнет необходимость в консультации. Свидетельства носили настолько секретный характер, что значительная часть процесса проходила в камере, вдали от публики и от репортеров. На Беттани был костюм в тонкую полоску и пятнистый галстук. Он утверждал, что им двигали «чисто идейные мотивы: он не был гомосексуален, не подвергался шантажу, не действовал из корыстных побуждений».
После пяти дней выслушивания свидетельских показаний суд приговорил Беттани к двадцати трем годам тюремного заключения.
«Вы избрали своим образом действий измену родине, — сказал верховный судья лорд Лейн, оглашая приговор. — Для меня вполне очевидно, что вы во многом человек инфантильный. Мне также ясно, что вы человек своевольный и опасный. Вы бы без колебаний стали раскрывать русским имена агентов, и это, без всяких сомнений, привело бы к гибели не одного человека».
Пресса охотно подхватила озвученное самоопределение Беттани как «коммунистического шпиона», потому что человека, который претерпел «постепенное, но в итоге решающее изменение политической ориентации», понять легче. Газеты увидели в Беттани то, что каждая из них желала увидеть. «Замухрышка и недотепа оказался коварным предателем», — выкликала Sun. «В разведке холодная война не утихает», — утверждали в Times. Журналисты Daily Telegraph из кожи вон лезли, роняя гомофобские намеки на то, что шпион в действительности был геем и потому изначально не заслуживал доверия: «По-видимому, Беттани очень нравилось эстетствующее и гомосексуальное университетское сообщество». Больше всего сочувствия проявила левацки настроенная Guardian: «Ему представлялось, что он, пользуясь своим положением в МИ-j, пытается удержать Британию и ее западных союзников от сползания к новой мировой войне». В Вашингтоне американский истеблишмент раздражался (и слегка злорадствовал) из-за того, что британская разведка в очередной раз стала жертвой внутреннего шпионажа. «Президент не на шутку обеспокоен», — сообщал пресс-секретарь Белого дома. Один источник из ЦРУ сказал репортеру Daily Express: «Нам снова приходится задумываться о том, хорошо ли британское разведывательное сообщество заботится о собственной безопасности». Расследование, проведенное позднее комиссией по безопасности, вынесло порицание МИ-; за неспособность разглядеть опасность, какую представлял Беттани с его неустойчивой психикой. В Times даже высказывали предположения, что, быть может, пришла пора объединить МИ-5 и МИ-6 в единое разведывательное агентство: «В конце концов, КГБ как-то справляется с делами и дома, и за границей».
Но ни одна из этих газет ни сном ни духом не догадывалась о том, что первого осужденного предателя из МИ-; разоблачил шпион МИ-6, служивший в КГБ. Гордиевский спас Британию от катастрофы в ее разведслужбе — и попутно снова вымостил самому себе путь к продвижению по карьерной лестнице.
В свидетельских показаниях, представленных на суде, Аркадий Гук назывался главой лондонской резидентуры КГБ. Репортеры подстерегли и сфотографировали грузного советского генерала, когда тот выходил из своего кенсингтонского дома вместе с женой в очках-бабочках. Его фотографиями запестрели первые полосы британских газет — под заголовками «Гук — агент разведки». Главу советской разведслужбы называли ротозеем, «прошляпившим первый со времен Второй мировой войны шанс завербовать агента внутри британской службы безопасности». Похоже, что Гук искренне наслаждался всеобщим вниманием к своей особе и «красовался, будто кинозвезда».
Вот тут-то и представилась великолепная возможность избавиться от него и очистить место для Гордиевского, чтобы тот поднялся еще выше по служебной лестнице в КГБ и получил еще больший доступ к секретным материалам. В МИ-6 потребовали немедленно выдворить Гука из страны. Уайтхоллу же не хотелось нарываться на очередной дипломатический скандал. Другой случай избавиться от резидента может и не подвернуться, указал Кристофер Кервен, новый директор контрразведки и безопасности в МИ-6: «Гук всегда вел себя крайне осторожно, стараясь не вмешиваться напрямую в операции, связанные с курированием агентов КГБ, и впредь, скорее всего, будет вести себя еще осторожнее»[59]. В МИ-5 кое-кто тоже высказывался против выдворения, указывая на то, что совсем недавно в Москву отправили нового сотрудника службы безопасности, и если сейчас Гуку велят убираться восвояси, то того британского сотрудника непременно выгонят в отместку. На это из МИ-6 возражали, что как раз такую цену и можно было бы заплатить. У Никитенко срок командировки подходил к концу, и если сейчас вышвырнуть Гука, то пост резидента КГБ в Лондоне в скором времени вполне может занять Гордиевский. «Ставки очень высоки, — убеждал один высокопоставленный чиновник. — Речь идет о том, что можно будет получить доступ ко всем или почти всем операциям КГБ против нашей страны». Для миссис Тэтчер подготовили черновик письма, адресованного Министерству иностранных дел, где говорилось, что, поскольку Гука изобличили публично, его следует выслать. В этом письме имелась одна тщательно продуманная деталь: фамилия Гука была написана по-английски как «Gouk» [а не «Guk»]. Именно так его фамилию передавала одна-единственная британская газета — Daily Telegraph. И именно эту газету читала сама Тэтчер. Намек, адресованный Министерству иностранных дел, был ясен: премьер-министр читала о шефе русской разведки в своей утренней газете и желала, чтобы его выслали из страны, а потому, если Министерство иностранных дел продолжит противиться его выдворению, она может и обидеться. Уловка сработала.
14 мая 1984 года Гука объявили персоной нон грата за «деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом», велели ему покинуть Британию и дали неделю на сборы. Как и ожидалось, советская сторона ответила тем, что указала на дверь сотруднику МИ-5, недавно присланному в Москву.
Накануне отъезда Гука в советском посольстве устроили прощальную вечеринку — с обильными закусками и выпивкой, а также с речами в честь отбывающего на родину резидента. Когда очередь дошла до Гордиевского, он не поскупился на похвалы и комплименты. «Однако речь моя, должно быть, звучала чересчур уж льстиво и не вполне искренне». Не успел он кончить, как Гук заметил: «Вижу, вы много чему научились у посла». (Посол Попов славился своей велеречивостью и превосходил всех прочих лицемерием.) Гук, хотя уже успел порядочно набраться, верно угадал, что его подчиненный очень рад его отъезду. На следующий день генерал Гук улетел в Москву, и больше о нем не слышали. Он подложил свинью КГБ тем, что привлек к себе внимание. И если на его исключительный непрофессионализм долго смотрели сквозь пальцы, то этот последний грех оказался непростителен.
Леонида Никитенко назначили временно исполняющим обязанности резидента, и он незамедлительно начал маневры, добиваясь того, чтобы эта должность сделалась для него постоянной. Гордиевский же стал его заместителем, и у него появился более широкий доступ к телеграммам, приходившим в резидентуру, и к другим материалам. В МИ-6 внезапно хлынул поток свежих разведданных. Теперь до главного приза рукой было подать: если бы Гордиевский как-то ухитрился очутиться в кабинете резидента, то завладел бы всеми сокровищами секретов. На пути у него стоял только Никитенко.
Леонид Никитенко был одним из умнейших людей в КГБ и одним из тех немногих, кто видел в этой работе свое жизненное призвание. В дальнейшем он возглавит Управление «К», отвечавшее за контрразведку в КГБ. Один сотрудник ЦРУ, знакомый с Никитенко, описывал его так: «Человек-медведь с грудью колесом, полный жизни… Он любил драматизм шпионской игры и, бесспорно, преуспел в ней. В этой тайной вселенной он чувствовал себя как дома и упивался каждым мгновеньем: актер на сцене, которую сам же обустроил, он играл роль, которую сам для себя и придумал»[60]. Хотя желтоглазый контрразведчик провел в Британии уже больше четырех лет, то есть явно засиделся, и наверняка в скором времени его ждал перевод обратно в Москву, Никитенко, конечно же, хотел заполучить лакомую должность резидента и остаться в Лондоне. Обычно кагэбэшные командировки длились по три года, но иногда Центр продлевал их, поэтому Никитенко, не теряя надежды, принялся энергично демонстрировать начальству, что он — самый подходящий кандидат на освободившуюся должность или, точнее говоря, что Гордиевский для нее совсем не годится. Эти двое всегда недолюбливали друг друга, теперь же между ними началась настоящая война за гуковское наследство — война необъявленная и потому особенно ожесточенная.
В МИ-6 раздумывали: не вмешаться ли снова и не объявить ли персоной нон грата Никитенко? В таком случае перед Гордиевским открылся бы беспрепятственный путь наверх. Здесь срабатывала цепная реакция, или эффект домино. Эта стратегия казалась соблазнительной — ведь если бы Гордиевского удалось вознести на самый верх, тогда время его пребывания в Лондоне дало бы максимальные результаты, а в самом конце служебной командировки он просто дезертировал бы. Но после некоторых обсуждений и споров было решено, что выдворение Никитенко перегнуло бы палку и, возможно, оказалось бы «контрпродуктивным». Высылка двух сотрудников КГБ, практически одного за другим, была еще в порядке вещей, учитывая тогдашнюю накаленную обстановку; а вот устранение всех трех непосредственных начальников Гордиевского, пожалуй, уже смахивало бы на подозрительную закономерность.
Максим Паршиков, ближайший коллега Гордиевского, заметил, что его друг «как будто вошел в колею. с того момента, как Олега назначили заместителем резидента, он заметно смягчился, расслабился и стал вести себя спокойнее и естественнее». Кое-кому даже казалось, что Гордиевский задается. Михаил Любимов, его друг и бывший коллега, после увольнения из разведки пытался вести в Москве новую жизнь и заниматься писательством. «С ним мы переписывались, хотя мне не нравилось, что он отвечал с большим опозданием, иногда даже одним письмом на мои два, — власть портит людей, заместитель резидента в Лондоне — это шишка». Любимов даже не представлял, как занят теперь его старый приятель, разрываясь между двумя секретными работами и одновременно плетя интриги, которые обеспечили бы ему новое повышение.
Его семья совершенно обвыклась с жизнью в Лондоне. Девочки быстро росли, уже неплохо говорили по-английски и ходили в англиканскую школу. Столетием ранее Карл Маркс удивлялся, до чего быстро его дети привыкли к жизни в Англии. «Одна мысль о том, что можно покинуть родину их бесценного Шекспира, наводит на них ужас; они сделались англичанами до мозга костей»[61], — говорила госпожа Маркс. Гордиевский тоже удивлялся и радовался тому, что оказался в роли отца двух маленьких англичанок. Лейле тоже все больше и больше нравилась ее британская жизнь. Она уже лучше говорила по-английски, но заводить друзей среди англичан было трудно, так как женам сотрудников КГБ не разрешалось встречаться без сопровождения с британскими гражданами. В отличие от Олега, вечно ожидавшего подвоха от коллег, Лейла легко сходилась с людьми из кагэбэшного братства, с удовольствием чаевничала и сплетничала с женами других посольских сотрудников. «Я выросла в семье кагэбэшников, — сказала она однажды. — Мой папа служил в КГБ, моя мама служила в КГБ. Почти все в нашем районе, где я провела детство и юность, работали в КГБ. У всех моих друзей и одноклассников отцы работали в КГБ. Поэтому я никогда не считала КГБ чем-то чудовищным, он не внушал мне никакого ужаса. Это был просто фон всей моей жизни, что-то совсем будничное»[62]. Лейла гордилась быстрым карьерным ростом мужа, поощряла его в стремлении занять пост резидента. Олег часто выглядел озабоченным, иногда подолгу смотрел куда-то в пустоту, как будто улетая мыслями в другой мир. Он постоянно грыз ногти. Бывали дни, когда он казался особенно взволнованным, взвинченным, места себе не находил от нервного напряжения. Лейла объясняла все эти странности чрезмерной нагрузкой на работе.
Гордиевскому очень нравилась раскрепощенность Лейлы, ее жизнелюбие и увлеченность семейной жизнью. Ее милая наивность, полное отсутствие всякой подозрительности служили противоядием от вечных козней, интриг и махинаций, в которых проходила его собственная жизнь. Он еще никогда не был так близок с ней — хотя ложь, о которой знал только он, все равно разделяла их. «У меня был совершенно счастливый брак», — размышлял он. Время от времени он задумывался, не пора ли открыть жене главную тайну и сделать ее своей сообщницей? Тогда их супружеский союз стал бы до конца настоящим и правдивым. Ведь рано или поздно она все узнает — когда (и если) он решится наконец переметнуться на сторону Британии. Когда в МИ-6 его осторожно выспрашивали, как отреагирует на новость жена, когда пробьет час, Олег без тени колебаний отвечал: «Она меня поймет. Она хорошая жена».
Время от времени он открыто критиковал Москву при Лейле. Однажды, слегка увлекшись, он назвал коммунистический строй «плохим, неверным и преступным».
— Да хватит болтать! — осадила его Лейла. — Это просто треп, все равно ты ничего не изменишь, какой смысл вообще об этом говорить?
Гордиевского задели ее слова, и он не выдержал:
— Откуда тебе знать? Вдруг как раз я что-то изменю. Может быть, когда-нибудь ты узнаешь, что я мог что-то изменить — и у меня получилось?
И все же он вовремя осадил себя. «Я замолчал. Я понимал, что если продолжу, то скажу ей больше, чем следует, или подам намек».
Позднее Гордиевский размышлял: «Она не поняла бы меня. Никто бы меня не понял. Никто. Я никогда никому ничего не говорил. Это было немыслимо. Просто немыслимо. Я оставался в одиночестве. В полном одиночестве». В сердцевине его брака пряталась пустота — тайное одиночество.
Гордиевский обожал жену, но не мог рассказать ей правду, не мог довериться ей. Лейла все еще принадлежала к КГБ. А он — уже нет.
В то лето, когда Гордиевский ездил в отпуск в Москву, его вызвали в штаб Первого главного управления, где в «верхах» решался вопрос о его будущем. Николай Грибин — разносторонне одаренный, игравший на гитаре молодой специалист, с которым Гордиевский познакомился еще в Дании, — возглавлял теперь британо-скандинавский отдел. Он проявил «истинное дружелюбие» и сообщил Олегу, что речь идет о двух вариантах его повышения: на пост его заместителя тут, в Москве, и на должность резидента в Лондоне. Гордиевский вежливо, но твердо дал понять, что для него предпочтительнее второй вариант. Грибин посоветовал ему проявить терпение: «По мере возрастания чьих-либо шансов стать главой лондонского отделения, — заметил он, — обстановка накаляется все сильнее, интриги плетутся еще искуснее», — но обещал оказать Гордиевскому всяческое содействие.
Потом разговор перешел на политику, и Грибин очень тепло отозвался о Михаиле Горбачеве — новой яркой звезде на коммунистическом небосклоне. Сын комбайнера, Горбачев быстро поднялся по лестнице партийной иерархии и еще до пятидесяти лет умудрился стать членом Политбюро. Широко ходили слухи, что именно он сменит на посту генсека Черненко, уже явно стоявшего одной ногой в могиле. Как сказал Гордиевскому Грибин, «КГБ пришел к заключению, что это самая лучшая фигура для вывода страны из того положения, в котором она оказалась».
Ровно к такому же заключению пришла и Маргарет Тэтчер.
Она увидела в Горбачеве того самого энергичного русского лидера, какого и желала найти: реформатора, человека широких взглядов, бывавшего не только в странах социалистического лагеря — в отличие от остальных узколобых кремлевских геронтократов. Британский МИД осторожно забросил удочку — и летом 1984 года Горбачев принял приглашение посетить Британию в декабре того же года. Чарльз Пауэлл, личный секретарь миссис Тэтчер, сказал ей, что этот визит предоставит «уникальную возможность — попытаться проникнуть в умы следующего поколения советских руководителей»[63].