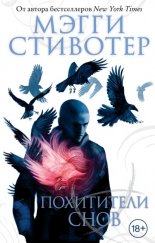Дочь часовых дел мастера Мортон Кейт

Пес коротко, предупредительно тявкнул, и Леонард проследил за его взглядом. Он ожидал увидеть стайку уток или даже гусей, но к ним приближались, держась за руки, мужчина и женщина. Явно влюбленные.
Леонард стал смотреть на них. Мужчина рассмеялся в ответ на какие-то слова спутницы; громкий, сердечный смех на миг перекрыл все другие утренние звуки, и женщина ткнула мужчину острым локотком в бок.
Она улыбалась, и Леонард обнаружил, что тоже улыбается, глядя на них. Они были такими сияющими и цельными, эти двое, так выделялись на фоне окружающего пейзажа. Они шли так, словно имели полное право быть в этом мире; словно ни на секунду не сомневались в том, что их место – именно здесь и сейчас.
Рядом с ними Леонард мгновенно ощутил себя бесплотным, почти прозрачным, и ему стало стыдно. Он не знал, сумеет ли он ответить на их, без сомнения, радостное «Здравствуйте»; не знал, найдет ли слова или ограничится простым кивком. Он и раньше чувствовал себя неуверенно с людьми, а после войны, которая выпотрошила его, оставив лишь пустую оболочку, всякое взаимодействие с ними стало для него мукой.
На земле лежала палка, гладкий кусок светлого дерева, к которому так и тянулась рука. Леонард поднял ее, взял поудобнее.
– Эй, Пес, давай, мальчик, неси.
Леонард запустил палку через луг, и Пес с восторгом бросился за ней, забыв про мужчину и женщину.
Повернувшись к реке спиной, Леонард пошел следом за собакой. Острые фронтоны Берчвуд-Мэнор вздымались над кронами ив, которые росли вдоль ручья Хафостед, и Леонард обратил внимание, что одно из чердачных окон так ярко сверкает на солнце, словно за ним горит еще какой-то свет.
Когда в восемнадцать лет Леонард поступил в Оксфорд, он и представить себе не мог, что будет когда-нибудь изучать Рэдклиффа и жить в его четырехсотлетнем доме, в сонном английском захолустье. Впрочем, многое из того, что случилось с ним в следующие пятнадцать лет, было неподвластно его юношескому воображению. Честно говоря, в 1913-м он и думать не думал о научной карьере. Он и в Оксфорд поступил просто потому, что был умным мальчиком из семьи, принадлежавшей к определенному классу; в их среде молодой человек, окончив школу, поступал в Оксфорд, вот и все. В университете он выбрал курс истории в Крайстчерч-колледже, прежде всего потому, что ему очень понравился ухоженный зеленый луг и величественное старое здание за ним. В первый, подготовительный год он познакомился с профессором Харрисом и открыл для себя современное искусство.
Случайный выбор стремительно перешел в страсть. Леонарда воспламенила эффектная смелость «Обнаженной, спускающейся по лестнице, № 2» Марселя Дюшана, раскалывавшая публику противоречивость «Авиньонских девиц» Пикассо; ночами он штудировал Маринетти и даже съездил в Лондон на выставку Умберто Боччони в галерее Доре. Ирония редимейда, дюшановское велосипедное колесо на табурете стали для него откровением, и Леонард исполнился оптимизма. Он жаждал новизны, поклонялся скорости и прогрессу, впитывал новые представления о времени, пространстве и их отражении в искусстве; он ощущал себя смелым мореходом, который оседлал огромную волну и на ней въезжает в будущее.
Но 1914 год катился вперед, и как-то вечером к нему в колледж приехал брат. Они собирались вместе поужинать, но Том предложил сначала прогуляться по лугу. Стояло лето, было тепло, солнце уже село, но света еще было достаточно, и Том размяк, пустился в воспоминания, торопливо заговорил об их детстве, о прошлом, и Леонард понял: что-то приближается. Они уже сидели за столиком в ресторане, когда Том сказал:
– Я записался добровольцем.
С этими словами в их мир ворвалась война, которая до сих пор бушевала лишь в броских заголовках газет.
Леонард не хотел идти воевать. Этим он отличался от Тома – поиски приключений были не по его части. Он долго боролся с собой, прежде чем ему удалось наконец разжечь в своей душе искру долга. Какое ему дело до того, что некий псих в Сараево, дорвавшись до оружия, невзлюбил австрийского эрцгерцога в шляпе с большим плюмажем и всадил в него пулю? Леонард скрывал свои мысли от всех, в первую очередь от отца с матерью, которые до слез гордились Томом в его новенькой форме, и все же постоянно думал: как неудачно, что война началась именно сейчас, когда он только что открыл для себя страсть всей жизни.
Но.
Думал он.
Ну сколько это может продлиться?
Наверняка недолго, к тому же война даст ему новый опыт, который поможет увидеть мир с иной стороны; на фронте он будет ближе к современной технике, сможет изучить ее вживую…
Что толку рассуждать о разных «как» и «почему»? Том едет во Францию, значит и Леонард тоже.
Пять лет спустя он вернется в другую страну и в другой мир, о которых не будет знать ничего.
Глава 14
Послевоенный Лондон вызвал у него шок. История, как всегда, посмеялась последней, и дома Леонарда ждали такие перемены и такой прогресс, какие прежде ему и не снились. Но изменился не только мир, изменились и люди. Толстомордые типы, которых он раньше в глаза не видел, теперь были повсюду и хотели плясать, праздновать и веселиться; тряся длинными волосами, они стряхивали с себя старомодные манеры, решительно освобождаясь от всего, что привязывало их к прошлому, скончавшемуся за время долгой войны.
Леонард снял комнату на втором этаже дома у Холлоуэй-роуд. В садике за домом рылась свинья, а под ним по кишке тоннеля ходили поезда. Свинью он заметил сразу, как только пришел посмотреть квартиру, а вот о поездах узнал, лишь когда, заплатив за месяц вперед, присел с кружкой эля и сигаретой к деревянному столику у кровати. Были уже сумерки – Леонард никогда не доверял этому времени суток, когда свет и тот предавал, – и он подумал, что началась бомбардировка, что произошла ужасная ошибка и война не кончилась; но это оказался всего лишь поезд. В панике он сбил со стола кружку с пивом, и, когда та с грохотом покатилась по полу, женщина, жившая под ним, резко стукнула в потолок ручкой швабры.
Леонард пытался идти в ногу со временем, но вместо раскованности и свободы ощущал только неприкаянность. Все кругом много пили, но если другие веселели от спиртного, то Леонарда от него прошибала слеза. По вечерам его часто приглашали в какой-нибудь клуб, и он всегда приходил, исполненный лучших побуждений: в костюме, при галстуке, с намерением помалкивать, слушать, вовремя кивать и улыбаться впопад. Но все заканчивалось одинаково: позволив втянуть себя в беседу, Леонард начинал вспоминать о друзьях, которых потерял; точно со стороны, он слышал свой голос, говоривший о том, как те навещают его в тишине его съемной комнаты, как иногда, бреясь, он видит кого-нибудь из них в зеркале или, идя по слабоосвещенной улице, слышит за спиной эхо их шагов в армейских ботинках.
И тогда в грохоте и сумбуре клуба он обнаруживал, что соседи по столику сначала смотрят на него искоса, а потом и вовсе отворачиваются, уязвленные его неделикатностью, недоумевая, почему он решил испортить им веселье. Но Леонард и без разговоров о погибших друзьях не обладал волшебным даром ведения легкой, непринужденной беседы. Слишком он был серьезен для этого. И прямолинеен. Мир стал вдруг огромным мыльным пузырем, тонкостенным и радужным, и всем знакомым Леонарда нашлось место внутри него. И только сам Леонард оказался чересчур тяжел и угловат для этого пузыря. Он словно выпал из времени: для бойкой молодежи – слишком старый, для безнадежных пьянчуг, слоняющихся у реки, – слишком молодой. Всем чужой, он ни с кем не чувствовал связи.
Как-то днем, стоя на мосту Чаринг-кросс – мимо сновали люди, под мостом проплывали лодки, – он вдруг увидел своего бывшего преподавателя, который спешил в Национальную галерею. Профессор Харрис пригласил Леонарда с собой и по пути, как со старым другом, говорил с ним о жизни и об искусстве, о людях, с которыми оба были когда-то знакомы, а Леонард слушал и кивал, мысленно вертя в мозгу его слова, словно это были милые, забавные, неведомо как уцелевшие реликвии прошлого. У входа в залы Ренессанса, когда профессор предложил ему возобновить занятия в области искусствоведения, Леонард посмотрел на него так, словно Харрис заговорил на незнакомом ему языке. Даже если бы Леонард захотел вернуться в обескураживающе-прекрасный Оксфорд, модернизм все равно умер: Боччони погиб в 1916-м, французские критики ратовали теперь за «возвращение порядка». Война выпила юность и молодой задор из искусства и из самого Леонарда, они остались гнить на полях сражений, среди грязи и костей.
Но нужно было что-то делать. Лондон оказался слишком стремительным и шумным, и в Леонарде давно назрело желание бежать. Оно росло, как столбик барометра перед бурей: барабанные перепонки покалывало от нетерпения, ноги просились в путь. Он просыпался ночью в поту, когда очередной поезд сотрясал изголовье кровати, а худая крашеная женщина из комнаты снизу захлопывала дверь за буйным клиентом. Черные крылья паники стискивали горло, мешая дышать, и тогда он молился, чтобы они надавили еще сильнее и довели дело до конца. Он обнаружил, что в такие мгновения вспоминает тропинки, по которым ходил в детстве, – особенно одну, которую любили они с Томом: перелезали через кирпичную стену в дальнем конце сада, пробирались через заросли кустарника и шли, пока тропа не истаивала под их ногами на лугу, на полпути к лесу. «Ленни, бежим». Он все чаще и чаще слышал эти слова, но, оборачиваясь, видел лишь стариков в барах, да молодых мальчиков на улицах, да тощих бездомных котов, которые отвечали ему стеклянным взглядом.
Не дожидаясь конца оплаченного срока, он сунул под стекло на письменном столе деньги за следующие два месяца, вышел из дома и покинул Лондон на поезде, грохотавшем мимо окон, за которыми шла чья-то чужая жизнь. Родительский дом показался ему меньше, да и скромнее, чем он помнил, – как старый щеголь на стоптанных каблуках, – но пахло в нем по-прежнему, и это было даже неплохо. Мать открыла детскую, но не подумала убрать вторую кровать от противоположной стены. В углах комнаты скопились бесчисленные разговоры; неслышные днем, ночью они звучали так отчетливо, что Леонард иногда садился и включал лампу, уверенный, что с кровати напротив ему улыбнется брат. В темноте он слышал, как скрипят ее пружины, когда воспоминание о брате поворачивалось во сне.
Их старые игрушки и книжки тоже были там, на полках: набор деревянных солдатиков, волчок, потертая коробка с игрой «Змейки и лесенки»; а еще Леонард перечитал «Машину времени» Герберта Уэллса. В тринадцать лет это была его любимая книга; и Тома тоже. Тогда они только и делали, что мечтали о будущем, фантазировали, какие чудеса открылись бы им, сумей они как-нибудь проскользнуть вперед во времени. Зато теперь Леонард осознал, что его взгляд прикован к прошлому. Иногда он сидел, держа в руках нераскрытую книгу, и дивился ее плотности, совершенству формы. До чего же все-таки достойный предмет – книга, прямо-таки благородный, учитывая ее предназначение.
В иные ночи он брал с полки «Змейки и лесенки». Фишки у них всегда были одни и те же. Леонард играл идеально круглым камешком, найденным у моря в Саликоуме, куда их возили родители. Том – серебряной монеткой, двухпенсовиком, который подарил ему один старичок: тот упал на улице, а Том помог ему подняться. Оба относились к своим счастливым фишкам с почти религиозным трепетом, и каждый настаивал, что его фишка лучше, но Леонард втайне завидовал Тому, ведь тот выигрывал девять раз из десяти. Том всегда был самым везучим из них двоих. Кроме того единственного раза, когда это оказалось по-настоящему важно.
Как-то раз, в начале 1924 года, ногам Леонарда особенно сильно захотелось пуститься в путь. Он положил в вещмешок бутылку с водой и вышел на прогулку, как поступал часто, но, когда стало темнеть, не повернул к дому; шел и шел куда глаза глядят. Он не знал, куда идет, да и не хотел знать. Он заснул там, где его настигла усталость: в открытом поле, под ясным небом, откуда на него глядел месяц. А когда на заре его разбудил жаворонок, он встал, взял мешок и продолжил путь. Так он пересек весь Дорсет, от края до края, и углубился в Девон, находя пути через Дартмур, беседуя с духами. Он увидел, сколько оттенков зеленого существует на свете: листва в кронах деревьев над головой, трава, стебли которой были тем белее, чем ближе к земле.
Он оброс бородой и загорел. Натер мозоли на пятках и на пальцах ног, которые скоро загрубели так, что его ступни теперь будто принадлежали другому человеку, который нравился ему больше, чем он сам. Он узнал, как выбрать надежную палку для ходьбы. Научился разжигать огонь, а кожа на ладонях у него заскорузла. Он не чурался работы: брался за все, во что не надо было вкладывать душу, что не требовало прочных связей с другими людьми, делал дело, брал нищенскую плату и шел дальше. Иногда в пути он встречался с людьми: такие же странники, как он, попадались ему навстречу, кивали, а то и махали рукой издалека. И уж совсем редко, в каком-нибудь деревенском пабе, он заговаривал с одним из них, с непривычки пугаясь звуков собственного голоса.
Именно в пабе Леонард впервые увидел фотографию Англии, сделанную с воздуха. Была суббота, время обеденное, в пабе полно народу; снаружи за деревянным столом сидел какой-то человек, один, рядом стоял прислоненный к стене пыльный черный велосипед, а на голове у незнакомца была кожаная кепка велосипедиста. Он сидел, наклонившись над большим печатным снимком, всматривался в него, делал пометки и не сразу заметил, что Леонард на него смотрит. Тогда он нахмурился и инстинктивно прикрыл изображение руками, и Леонарду даже показалось, что незнакомец сейчас бросится на него, но тут выражение лица человека в кепке изменилось, и Леонард понял: его узнали. Не то чтобы они знали друг друга раньше; нет, это была их первая встреча. Просто на них было общее клеймо, оттиск тех мест, где оба побывали, событий, свидетелями которых были, и дел, которые им доводилось совершать. По этому клейму все они узнавали друг друга.
Человека звали Крофорд, он воевал в Королевских ВВС. После войны его взяли на работу в государственную картографическую службу, и он разъезжал теперь по Уилтширу и Дорсету, отмечая на картах расположение археологических памятников; ему уже удалось найти несколько мест, неизвестных прежде. Леонард всегда предпочитал не говорить, а слушать, вот и теперь он черпал успокоение из рассказа Крофорда. Сказанное подтверждало смутные, едва оформившиеся догадки самого Леонарда об уступчивости времени. На снимках Крофорда пространство и время сливались в единый образ, показывали прошлое, существующее бок о бок с настоящим; и Леонард вдруг понял, что связь с людьми, в древности ходившими теми же тропами, которыми теперь ходит он, для него куда существеннее связи с молодыми умниками, которые ночи напролет отплясывают в далеких лондонских клубах. Шагая, он обретал чувство принадлежности, понимал, что прежде всего он – часть этой земли, и каждый шаг по ней придавал ему уверенности. Принадлежность. Слово пустило ростки в его мозгу, и, когда в тот день он возобновил свой путь, ноги двигались в ритме этих четырех слогов.
Вечером того же дня, когда Леонард решал, где устроиться на ночь, у него вдруг забрезжила мысль, вернее, смутное воспоминание из тех времен, когда он был первокурсником в Оксфорде, – статья о группе викторианских художников, куда входил человек по имени Эдвард Рэдклифф. И хотя в самопровозглашенном Пурпурном братстве было немало других персонажей, именно Рэдклифф запомнился ему своей трагической историей: гибель невесты привела к преждевременному закату таланта, а затем и к физической смерти художника. Но в то время объединение не смогло заинтересовать Леонарда даже этим: они были викторианцами, а значит, скучными. Кроме того, он возмущался их уверенностью в том, что им известно все на свете, и презирал их старомодные черные кружева и загроможденные мебелью комнаты. Как все модернисты, как все дети, он хотел выразить себя через бунт против гранитной глыбы истеблишмента.
Однако профессор Харрис, читавший у них курс истории искусств, ни для кого не делал поблажек, и изучение той статьи входило в обязательную программу. Там же шла речь о «манифесте», написанном в 1861-м и озаглавленном «Искусство принадлежать»; в нем Эдвард Рэдклифф изливал свои восторги по поводу связи, которую он обнаружил между пространством и людьми, а также между пространством и искусством. «Земля ничего не забывает, – вдруг вспомнились Леонарду его слова. – Пространство – портал, который ведет человека сквозь время». Дальше художник пускался в рассуждения о некоем доме, который приворожил его и в котором он, как ему хотелось верить, обрел свою «принадлежность». Восемнадцатилетнему Леонарду размышления Рэдклиффа о пространстве, времени и принадлежности казались затянутыми и скучными. С тех пор прошло всего десять лет, и теперь он сам не мог выбросить из головы это слово.
В родительский дом Леонард вернулся более худым и обросшим, чем был, когда уходил; он загорел и обносился. Он ждал, что мать, увидев его, отпрянет и завизжит от ужаса, а потом отправит его наверх, мыться. Но ничего такого не случилось. Открыв дверь, мать долю секунды удивленно смотрела на него, а потом чайное полотенце выскользнуло из ее рук на пол, и она с такой силой стиснула его в объятиях, что он едва не задохнулся.
Молча проведя сына внутрь, она усадила его в отцовское кресло и принесла ведро теплой воды с мылом. Сняла с него ботинки, потом носки, затвердевшие за время странствий, и стала обмывать ему ноги. Он смотрел, как тихие слезы медленно стекают по ее щекам, и не мог вспомнить, чтобы она делала так раньше, ну разве что когда он был совсем маленьким. Она склонила голову совсем низко, и Леонард вдруг увидел – будто впервые, – как поседели и поредели ее волосы, став тонкими и легкими, как пух. За ее плечом, на столике с кружевной скатертью, стояли семейные фотографии: Том и Леонард – солдаты в новеньких мундирах; они же – мальчики в коротких штанишках и шапочках; и, наконец, младенцы в вязаных чепчиках. Каждому времени – своя форма. Вода была такой теплой, а материнская ласка – столь неожиданной и чистой, что Леонард, отвыкший и от того и от другого, почувствовал, что тоже плачет.
Позже они вместе попили чаю, и мать спросила его, чем он занимался эти месяцы.
– Ходил, – ответил Леонард.
– Ходил, – повторила она. – Тебе было хорошо?
Леонард ответил, что ему было хорошо.
Волнуясь, она добавила:
– На днях у меня был гость. Кто-то, кого ты знаешь.
Выяснилась, что университетский преподаватель Леонарда разыскал его по документам, которые хранились в колледже со времен его учебы. Профессор Харрис подал одну из его работ на университетский конкурс, и та выиграла приз – совсем небольшую сумму денег, которой хватило на покупку новых крепких ботинок и пары карт в Стэнфорде. На сдачу Леонард приобрел билет на поезд. За время своего бродяжничества он ощутил духовное родство с Рэдклиффом и теперь ехал в Йорк – читать дневники и письма Торстона Холмса. Ему казалось, что совсем еще молодой человек – всего-то двадцати лет от роду – не мог ни с того ни с сего пуститься в пылкие рассуждения о пространстве и принадлежности, не мог без причин влюбиться в старый дом. Что-то должно было случиться в его жизни. Да и вообще, разве человек, не чувствующий себя чужим в мире, станет задумываться о таких вещах?
В тот раз ему не особенно повезло. В архивах Холмса отыскалось немало писем Рэдклиффа, но все они относились не к тому периоду, который интересовал Леонарда в первую очередь. Он был разочарован, но в то же время заинтригован. В 1859-м, 1860-м и в начале 1861-го Рэдклифф и Холмс писали друг другу регулярно, из их развернутых писем-бесед следовало, что они часто виделись, и каждый дорожил мыслями и искусством другого, находя в них стимулы для собственного творчества. Но после краткого упоминания о доме Рэдклифф не стал развивать эту тему, а потом послал Холмсу короткую резкую записку с просьбой вернуть набор красок, взятых взаймы в январе 1862-го, и переписка между ними почти сошла на нет, сведясь к сухому обмену формулами вежливости.
Конечно, не исключено, что за всем этим не было никаких тайн: дружба могла остыть без всяких причин, а может, переписка продолжалась, просто листы с более содержательными записями пошли зимой на растопку камина или затерялись среди других бумаг, а позже пали жертвой истовой весенней уборки. Узнать это было никак нельзя, и Леонард не стал ломать голову. Как бы то ни было, в середине 1862-го отношения между ними оставались еще достаточно теплыми, и оба, вместе с двумя другими членами Пурпурного братства – Феликсом и Адель Бернард, – а также с сестрой Эдварда, Клэр, которая позировала для Торстона Холмса, на все лето отправились к Рэдклиффу в его берчвудский дом.
Итак, хотя Леонард не нашел ответа на вопрос, который особенно интересовал его, нельзя сказать, что он уходил из архива ни с чем. Он обнаружил дверь, а за этой дверью – компанию молодых людей, которые через полстолетия протянули ему руку и пригласили к себе, в свой мир.
Особенно поразил его Эдвард Рэдклифф – вот уж действительно человек с искрой Божьей, это было заметно даже по его письмам. Он был энергичен и открыт, радостно принимал жизнь во всех ее проявлениях и видах, не боялся идти в своем искусстве вперед, расти, учиться отражать все новые стороны реальности. Каждая строчка каждого письма буквально пульсировала молодостью, перспективами, чувственностью, и Леонард ясно представлял себе блаженное состояние почти домашней свободы, в котором пребывал Рэдклифф, беззаботно балансируя на грани богемной нищеты, – так, словно побывал с ним рядом. Ему была понятна и их непринужденная близость, и царивший в братстве дух товарищества, из-за которого другие, завидуя, часто обзывали их «кликой»; нет, они были братьями – братьями по духу. Такое же, почти собственническое чувство Леонард испытывал к Тому, их точно вылепили из одного куска теста, они были одним человеком. Они могли бороться, катаясь по траве, а потом, устав, раскинуться на ней бок о бок и смеяться, переводя дух; любой мог прихлопнуть комара на ноге другого так же легко, как на своей собственной. Леонард хорошо понимал, что дух соревнования может стимулировать мужчин, не вызывая при этом вражды между ними, и каждый будет лихорадочно трудиться, стремясь оставить неизгладимый след на глыбе академического искусства. И ждать похвалы Джона Рёскина, пылких статей Чарльза Диккенса и покровительства какого-нибудь джентльмена с глубокими карманами.
Леонард был опьянен этим чтением: переписка молодых людей, брызжущая радостью творчества, стремлением найти подходящие слова для мыслей и идей, пробудила в нем что-то глубинное, давно забытое. Вернувшись из Йорка, он продолжал читать и, гуляя по полям, думал о предназначении искусства, о важности пространства, о текучести времени; а когда Эдвард Рэдклифф стал для него почти вторым «я», он вдруг вернулся в университет и постучал в дверь профессора Харриса.
Показался длинный амбар позади дома, Пес припустил вперед и вброд перебрался через прозрачный холодный ручей Хафостед, предвкушая завтрак, который, по его понятиям, должен был ждать его по возвращении. Для приблудной собаки он как-то уж слишком полагался на доброту незнакомого человека. Хотя какой уж там незнакомый – они теперь свои.
Рубашка Леонарда почти просохла к тому времени, когда он, покинув залитое солнцем поле, переходил ручей по стволу поваленного дерева. Пройдя лугом, он оказался на подъездной дороге, которая шла вдоль стены сада перед домом. С трудом представлялось, что когда-то этой дорогой пользовались постоянно, по ней подъезжали экипажи, и гладкие, холеные лошади нетерпеливо переступали ногами, ожидая, когда их выпрягут и дадут воды после долгого путешествия из Лондона. В тот день там не было никого – только Леонард, Пес да деловито снующие утренние пчелы.
Железная створка ворот висела на одной петле, как он ее и оставил, темно-зеленая краска на ней выцвела. Жасмин, цепляясь спутанными усиками за шишковатую каменную стену, взобрался на арку ворот, крохотные розовато-белые лепестки сыпались с нее, как брызги пены, запах кружил голову.
Леонард ущипнул себя, как делал всегда, подходя к дому. Надо же, он – и Берчвуд-Мэнор, краса и гордость Эдварда Рэдклиффа. Ему неслыханно повезло. Став докторантом, Леонард вдруг – в кои-то веки – ощутил себя нужным человеком в нужном месте и в нужное время: женщина по имени Люси Рэдклифф обратилась в Ассоциацию историков искусства и заявила, что собирается оставить организации солидный дар. Дом перешел в собственность мисс Рэдклифф после смерти брата, и она прожила в нем много лет. И только сейчас, за два года до восьмидесятилетия, решила подыскать себе другое жилье, с меньшим количеством углов и лестниц, а дом подарить от имени брата. Ей представлялось, что Берчвуд-Мэнор станет хорошим местом для тех, кто вместе учится или работает для получения знаний; или для тех, кто творит, постигая красоту и истину, кому важен свет, чувство пространства и дома. Поверенный предложил ей сначала испытать эту идею на одном человеке.
Леонард прочитал о новой стипендии с проживанием в «Черуэлле» и тут же принялся готовить документы. Подав заявление и резюме, он через несколько месяцев получил ответ: в письме, написанном от руки, его извещали, что он получил стипендию и может занять дом в Берчвуде на три месяца, летом 1928 года. Наткнувшись на предупреждение о том, что в доме нет электричества, а потому необходимо иметь запас свечей и керосиновые лампы, он было напрягся, но тут же прогнал воспоминания о мрачных меловых туннелях Франции, говоря себе, что это же лето, дни будут долгими и темноты он почти не увидит. И вообще, станет ложиться с курами, а вставать – с петухами. «Ad occasum tendimus omnes», – прочитал он однажды на сером выщербленном надгробии в Дорсете. «Все мы идем к закату».
Леонард приехал с твердым намерением полюбить это место во что бы то ни стало, однако действительность, как это редко, но все-таки бывает, превзошла его самые смелые мечты. В первый раз он подходил к дому со стороны деревни; улица превратилась в петляющую тропу, которая провела его мимо коттеджей на окраине и вывела в поле, где не было ни души, не считая скучающих коров и любопытных телят, а после тихо скончалась, немного не доходя до Берчвуд-Мэнор.
Он сразу увидел восьмифутовую стену, а над ней – двойные фронтоны и серую сланцевую крышу. Леонард с удовольствием отметил, что плитки на крыше выложены с соблюдением законов природы: небольшие прямоугольники у конька сменялись более крупными по мере приближения к водостокам, в точности как перья на птичьем крыле: мелкие, покровные – наверху, большие, маховые – пониже. Вот, значит, откуда взял Рэдклифф это сравнение дома с птицей, которая сидит, нахохлившись, в излучине реки, как в гнезде.
Ключ он нашел в небольшом углублении в стене, за расшатавшимся камнем, как и было обещано в письме. В тот день Леонард не видел никого рядом с домом и подивился: кто же положил серебристый ключ в этот своеобразный тайник?
Повернув ручку калитки, он замер: картина, открывшаяся ему, была слишком хороша, чтобы оказаться правдой. Все пространство между калиткой и домом, поделенное на две части мощеной дорожкой, буйно цвело: легкий ветерок качал колокольчики наперстянок, фиалки и маргаритки шептались над каменными плитами. Жасмину на стене вторили цветущие плети на фасаде: обрамляя частые переплеты старинных окон, они сплетались в единый гобелен с огненно-красными цветами ползучей жимолости, карабкавшейся по столбикам навеса над входом. Весь сад гудел насекомыми, звенел голосами птиц, а дом напротив притих и молчал, как зачарованный замок Спящей красавицы. Ступивший на дорожку Леонард чувствовал себя так, будто шагнул сквозь время; он бы не удивился, если бы Рэдклифф и его друзья вышли сейчас из дома с красками и мольбертами и расположились на лужайке, вон там, у зарослей ежевики…
Но в то утро Леонарду некогда было воображать призраков из прошлого. Подойдя к воротам, он увидел вполне реальную персону, которая стояла у входной двери, небрежно привалившись спиной к столбику навеса. На ней была рубашка – «моя», невольно отметил про себя Леонард, – и почти ничего больше, в руке она держала зажженную сигарету, задумчивый взгляд был устремлен на японский клен у дальней стены.
Наверное, она его услышала, потому что тут же обернулась, а ее лицо приняло иное выражение. Легкая улыбка скользнула по капризно изогнутым губам, и она помахала ему маленькой ручкой.
Он ответил ей тем же.
– Я думал, тебе надо в Лондон к полудню?
– Хочешь от меня избавиться? – Прикрыв один глаз, она затянулась сигаретой. – Ах да. Ты ведь ждешь гостей. К тебе придет твоя старая дама. Хочешь, чтобы я очистила помещение до того, как она появится? Не удивлюсь, если таково одно из здешних правил: гости не должны оставаться на ночь.
– Она сюда не приходит. Мы встречаемся у нее.
– Вот как? Может быть, мне приревновать?
Она рассмеялась, но от ее смеха Леонарду стало грустно.
Китти не ревновала, она шутила; вообще, она была большая любительница пошутить. Китти не любила Леонарда, а он никогда не позволял себе думать иначе, даже в те ночи, когда она прижималась к нему крепко, до боли.
Подойдя к двери, он чмокнул Китти в щеку, и та с беспечной улыбкой вернула ему поцелуй. Они познакомились много лет назад; оба были еще детьми, ей – шестнадцать, ему – семнадцать. Пасхальная ярмарка 1913-го. Китти была в бледно-голубом платье – он помнил это, – с маленькой атласной сумочкой в руке. С какой-то части ее туалета отпоролась и упала на землю ленточка. Она не заметила, и никто больше не увидел; Леонард, подумав, наклонился, поднял ленточку и отдал ей. Тогда они были совсем детьми.
– Позавтракаешь с нами? – спросил он. – Пес хочет яиц.
Она пошла за ним на кухню, где после яркого утреннего света, казалось, было совсем темно.
– Не могу, нервничаю. Но чаю выпью, чтобы от голода не упасть.
Леонард взял спички из жестянки, стоявшей на полке за плитой.
– Понять не могу, как ты живешь здесь совсем один.
– Одному спокойно.
Леонард зажег капризную горелку и, пока кипятился чайник, разбил несколько яиц.
– Ленни, скажи мне еще раз, где это случилось?
Леонард вздохнул. Он уже пожалел, что вообще рассказал ей о Фрэнсис Браун. И что на него тогда нашло? Наверное, не привык выслушивать вопросы о своей работе, да еще пребывание в Берчвуд-Мэнор так подействовало на него, что все стало казаться более чем реальным. А у Китти прямо глаза загорелись, когда он поведал ей о похитителе драгоценностей, забравшемся однажды в дом и застрелившем невесту Рэдклиффа.
– Убийство? – выдохнула она тогда. – Какой ужас!
Теперь же сказала:
– Я заглядывала в гостиную, там никаких следов.
Леонарду совсем не хотелось обсуждать убийство и его следы; не сейчас и не с Китти.
– Передай мне, пожалуйста, масло.
Китти протянула ему масленку.
– А полицейские расследовали это дело? И как вору удалось скрыться совсем бесследно? Разве такой редкий камень не опознали бы, если бы кто-то попытался его продать?
– Я знаю об этом не больше твоего, Кит.
Но если честно, судьба «Синего Рэдклиффа» интересовала Леонарда. Китти сказала правильно: камень в украденной подвеске был настолько дорогим и редким, что его мгновенно опознал бы любой ювелир, и тому, кто решил бы держать в секрете его обнаружение и продажу, пришлось бы проявить недюжинную смекалку и хитрость. И потом, драгоценные камни – не сосульки, они не могут взять и растаять: даже распиленный на части, бриллиант все равно где-то существует. Больше того, по слухам, именно похитители «Синего» убили Фанни Браун, чья смерть, в свою очередь, сломила дух Эдварда Рэдклиффа и послала его в затяжное разрушительное пике – теория, которая особенно интересовала Леонарда, не в последнюю очередь потому, что с некоторых пор стала вызывать у него некоторые сомнения.
Пока Леонард готовил, Китти перебирала что-то на деревянном столе посреди кухни. Немного погодя она вышла и, когда Леонард уже нагружал едой поднос, чтобы вынести его наружу, вернулась с сумкой.
Вместе они сели на кованые стулья за кованым столом под кроной дикой яблони.
Теперь Китти была полностью одета. В строгом, скроенном по фигуре костюме она казалась старше своих лет. Она отправлялась на собеседование, рассчитывая занять должность машинистки в страховом агентстве в Холборне. Сначала пешком до Леклейда, а там – она уже договорилась – ее подхватит один из друзей отца и отвезет в Лондон на машине.
Если она получит эту работу, ей придется перебраться в Лондон. Леонард надеялся, что так и будет. Это было ее четвертое собеседование за четыре недели.
– …Не твоя старушка, конечно, кто-то другой.
Леонард посмотрел на нее; от волнения Китти всегда впадала в болтливость, и он давно перестал ее слушать.
– Я знаю, ты кого-то встретил. Такой рассеянный – больше, чем всегда. Скажи мне… кто она, Ленни?
– Ты о чем?
– О женщине. Я слышала, прошлой ночью ты говорил во сне.
Леонард почувствовал, как кровь прилила к его лицу.
– Ты покраснел.
– Нет.
– Ты увиливаешь.
– Просто я занят, вот и все.
– Ну, как скажешь. – Китти достала из сумки портсигар и вынула из него сигарету. Закурив, она выдохнула облачко дыма, потом, разгоняя его, рассеянно повела перед собой правой рукой. Леонард заметил, как на ее пальце вспыхнул тонкий золотой ободок. – Тебе никогда не хочется заглянуть в будущее?
– Нет.
– Никогда?
Пес ткнулся головой в колено Леонарду и уронил у его ног мячик. Странно, откуда он его взял? Похоже, кто-то из ребятишек в лагере у реки будет огорчен.
Леонард поднял игрушку и запустил ее подальше, а сам стал смотреть, как Пес мчится за ней, не разбирая дороги, через цветы и травы, прямо к Хафостедскому ручью.
У Леонарда никого не было – в том смысле, который Китти вкладывала в это слово, – и все же он не мог отрицать, что в его жизни что-то происходит. Весь месяц в Берчвуде ему снились невероятно яркие сны. Это началось с первого дня, вернее, ночи: закрывая глаза, он погружался в немыслимую смесь холстов и красок, природы и красоты, а когда выныривал на поверхность, почти не сомневался, что там, в том мире, он сейчас подглядел ответы на главные вопросы бытия. И вдруг его сны изменились, в один миг: теперь к нему приходила какая-то женщина. Точнее, не какая-то, а одна из натурщиц Рэдклиффа. Во сне она говорила с ним; обращалась к нему так, точно он был наполовину самим собой, а наполовину Рэдклиффом, но, просыпаясь, он не мог вспомнить ни слова.
Конечно, причиной всему был дом, впитавший и сохранивший столько страсти и творческой энергии прежнего владельца, дом, который тот обессмертил в своих письмах; неудивительно, что Леонард, и без того склонный к навязчивым идеям, подсознательно стал входить в роль Рэдклиффа, видеть мир его глазами, прежде всего во сне.
Но Китти он ничего такого не скажет: легко представить, как сложится такой разговор. «Знаешь, Китти, мне кажется, я влюблен в женщину по имени Лили Миллингтон. Я никогда не видел ее живьем, никогда не говорил с ней. Скорее всего, она давно умерла, а если нет, то сделалась древней старухой; не исключено, что при жизни она промышляла кражей драгоценностей. Но я никак не могу перестать думать о ней, а ночами она приходит ко мне во сне». Леонард точно знал, что ответит на это Китти. Скажет, что это не сны, а галлюцинации и что ему давно пора завязать.
Китти не скрывала своего отношения к трубке. Бесполезно было объяснять ей, что опиум избавлял его от ночных кошмаров: сырой, холодный окоп, кругом вонь, грохот рвет барабанные перепонки, раскалывает череп изнутри, а он беспомощно наблюдает, как его друзья, его брат бегут сквозь дым и грязь навстречу своему концу. И если теперь ночами вместо Тома он видит ту женщину с картины… какая в этом беда?
Китти встала, перебросила сумочку через плечо, и Леонард вдруг почувствовал себя виноватым: она приехала к нему сюда, в такую даль, и, хотя ничего подобного он от нее не ждал и ни о чем ее не просил, они все же связаны, он и она, и он несет за нее ответственность.
– Проводить тебя до Леклейда?
– Не надо. Я дам тебе знать, как все прошло.
– Уверена?
– Точно.
– Ну, тогда у…
– Не надо.
– Ладно, ни пуха.
Она улыбнулась ему одними губами. Глаза были полны другим, невысказанным.
Он смотрел ей вслед, пока она шла к амбару по дороге, где раньше ездили экипажи.
Минуты через две она дойдет до тропы, которая приведет ее сначала в деревню, а оттуда – на леклейдскую дорогу. И тогда исчезнет из виду и из его жизни, до следующего раза.
Он говорил себе, что пора сказать ей, ради нее и ради него самого, прекратить их связь раз и навсегда. Он твердил себе, что должен отпустить ее на свободу; нельзя с ней так поступать, нельзя больше удерживать ее возле себя.
– Китти?
Она обернулась, вопросительно подняв бровь.
Смелость покинула Леонарда.
– У тебя все получится, – сказал он. – Ни пуха ни пера.
Глава 15
Встреча со «старой леди, приятельницей» Леонарда была назначена на четыре часа, или «время чая», как она сама упорно величала эту часть суток. Ее манеры отдавали благополучным детством, в котором «время чая» означало сэндвичи с огурцом и пирог от Баттенберга и было таким же естественным и неизменным, как восход и заход солнца.
Весь день Леонард провел над своими заметками, читая и перечитывая их, выверяя список вопросов, а когда закончил, сразу вышел из дому, хотя назначенное время еще не подошло: ему хотелось пройти долгим путем: отчасти – чтобы снять возбуждение, отчасти – чтобы взглянуть на сельское кладбище в конце тропинки.
Впервые Леонард увидел надгробие случайно, двумя неделями раньше. Он и Пес возвращались домой после долгой прогулки по окрестным лугам и полям, и, когда уже подходили к деревенской улице, Пес забежал вперед, нырнул в дыру под оградой и стал что-то вынюхивать среди плюща, зеленой волной захлестнувшего могилы. Леонард тоже зашел за ограду, привлеченный скромной красотой каменного строения, которое приютилось среди буйной кладбищенской зелени.
В южной части кладбища оказалась еще одна постройка, тоже полускрытая вьюнками, а перед ней – широкая мраморная скамья, на которой Леонард посидел, любуясь славной церквушкой двенадцатого века и ожидая, когда Пес удовлетворит свой исследовательский интерес. Его взгляд скользнул по ближайшему надгробию и замер, натолкнувшись на знакомое имя – Эдвард Джулиус Рэдклифф, – вырезанное на камне простым, изящным шрифтом.
С тех пор он ходил туда каждый день. На его взгляд, место для погребения было выбрано удачно. Кладбище красивое, тихое и совсем близко к дому, который Рэдклифф некогда любил. Наверняка он сам нашел бы в этом большое утешение.
Теперь, приближаясь к кладбищу, Леонард посмотрел на часы. Всего три тридцать; можно зайти на пару минут внутрь, посидеть на скамье, а потом сделать круг и подойти к коттеджу в обход деревни. Хотя «деревня» – слишком громко сказано: весь Берчвуд – это три улочки, разбегающиеся от треугольного луга в центре.
Знакомой тропой он подошел к могиле Рэдклиффа и опустился на мраморную скамью. Пес, бежавший за ним, задержался возле надгробия, обнюхивая его края там, где землю, казалось, потревожили. Не вынюхав ничего интересного, он навострил уши, прислушался к шороху в кустах неподалеку и помчался туда – искать причину.
На могиле под именем Рэдклиффа была еще одна надпись, помельче: «Здесь лежит тот, кто искал правды и света и видел прекрасное во всем, 1840–1881». Леонард снова поймал себя на том, что не может отвести глаз от черты между цифрами. Надо же, один короткий штрих, полускрытый кружевами лишайника, и целая жизнь: детство человека, все, кого он любил, всё, что он потерял и чего боялся, все это – в одной черточке на камне посреди тихого кладбища на краю деревни. Леонард не мог понять, нравится это ему или, наоборот, огорчает: каждый день он думал об этом по-разному.
Тома похоронили во Франции, у деревни, о которой при жизни он знать ничего не знал. Леонард прочитал письмо, полученное родителями от командира, и подивился тому, как под его пером смерть и ужас превратились в отвагу, в благородную и необходимую жертвенность. Наверное, это тоже дело привычки. Видит бог, командирам на той войне пришлось написать немало таких писем, было время отточить стиль. Все они стали мастерами умолчания, ни словом не упоминая о кошмарном хаосе фронта и, уж конечно, не позволяя себе и намека на чудовищную бессмысленность понесенных жертв. Просто удивительно, до чего целесообразной и оправданной казалась эта война при взгляде с начальственных высот.
Леонард дважды прочел это письмо, которое показала ему мать. Она нашла в нем поддержку, Леонард же за гладкими словами безликого утешения слышал страшный хор: голоса друзей, которые кричали от боли и страха, звали матерей, плакали об ушедшем детстве, о доме. Но поле боя – самое далекое от дома место на земле, и никто не хочет домой так сильно, как идущий на смерть солдат.
На днях, сидя на скамье у церкви и думая о Томе, Китти и Эдварде Рэдклиффе, Леонард впервые увидел свою «приятельницу, старую леди». Когда она пришла, день клонился к вечеру – он не мог ее не заметить, ведь, кроме них двоих, на кладбище никого не было. Дама принесла букетик, который положила на могилу Рэдклиффа. Леонард с интересом наблюдал за ней, гадая, знала она художника лично или просто любила его картины.
Ее лицо было морщинистым от старости, а волосы, седые и тонкие, собраны на затылке в крохотный пучок. Платье на ней было такое, какие, наверное, надевают путешественницы, отправляясь на сафари в Африку. Она стояла очень тихо, опершись на тонкую трость с изящным серебряным набалдашником, опустив плечи и сосредоточенно глядя на могилу, словно вела с покойным беззвучный разговор. Вся ее поза выражала глубокую любовь, несвойственную, на взгляд Леонарда, обычным почитательницам талантов. Потом, когда она наклонилась выдернуть сорняк, проросший между камнями у края плиты, он понял: эта женщина наверняка знала Рэдклиффа лично и, может быть, приходилась ему родственницей.
Возможность поговорить с тем, кто знал Эдварда Рэдклиффа при жизни, выглядела заманчиво. Новые материалы – это же святой Грааль любого исследователя, особенно историка, ведь именно в исторической науке шансы натолкнуться на новую информацию практически равны нулю.
Он встал, осторожно, чтобы не напугать, приблизился к ней и сказал:
– Доброе утро.
Дама тут же вскинула голову, словно встревоженная птичка.
– Извините, что помешал, – заторопился он с объяснениями. – Но я недавно живу в этой деревне. В доме, что в излучине реки. Временно.
Она изо всех сил выпрямила спину и устремила на него оценивающий взгляд поверх очков в проволочной тонкой оправе.
– Ну и как, мистер Гилберт, нравится вам Берчвуд-Мэнор?
Леонард удивился: оказывается, она знает его имя. Правда, деревушка маленькая, а он по опыту знал, что в таких местах новости распространяются со скоростью ветра. И ответил, что дом очень нравится ему, что он много читал о нем еще до того, как приехал сюда, но реальность превзошла все его самые смелые ожидания.
Она слушала, изредка кивая, но в остальном не выказывая никакого одобрения или, напротив, неодобрения. Когда Леонард умолк, она сказала:
– А ведь в доме когда-то была школа. Для девочек. Вы знали?
– Я об этом слышал.
– Очень жаль, что все так вышло. Она обещала стать прорывом в женском образовании. Эдвард часто говорил, что образование – ключ к спасению.
– Эдвард Рэдклифф?
– А кто же еще?
– Вы его знали.
Она слегка прищурилась:
– Да.
Леонарду пришлось собрать все свое самообладание, чтобы его ответ прозвучал спокойно.
– Я исследователь, из Оксфорда. Работаю здесь над диссертацией о Рэдклиффе, этой деревне, его доме и его творчестве. Прошу вас, не откажите мне в любезности, расскажите о нем.
– Мне казалось, что именно это я и делаю, мистер Гилберт.
– Да, конечно…
– Или вы хотите сказать, что сами будете задавать мне вопросы? Брать у меня интервью?
– До сих пор мне приходилось полагаться лишь на хранящиеся в архивах письма его друзей, таких как Торстон Холмс…
– Пха!
Леонард даже моргнул от такой нежданной горячности.
– Этот самовлюбленный хорек! Вот уж на чьи слова я не стала бы полагаться, что бы он там ни нацарапал!
Тут ее внимание привлек другой сорняк, и она стала подковыривать его концом своей трости.
– Не люблю такие разговоры, – сказала она между двумя резкими тычками. – Просто терпеть не могу. – Она наклонилась, потянула сорняк за стебель, встряхнула так, что комочки земли с корней посыпались на могилу, и с яростью швырнула в кусты. – Однако, мистер Гилберт, я вижу, что с вами мне все же придется поговорить, хотя бы для того, чтобы вы не напечатали о нем еще какую-нибудь ложь. Хватит и той, что уже есть.
Леонард залепетал слова признательности, но она отмахнулась от него властным, нетерпеливым жестом:
– Да-да, конечно, приберегите все это на потом. Я поступаю так против своей воли, но буду ждать вас к чаю в четверг.
Она продиктовала ему свой адрес, и Леонард хотел было попрощаться, когда вдруг понял, что даже не спросил ее имени.
– Да что с вами такое, мистер Гилберт? – хмуря брови, ответила она на его вопрос. – Конечно, я Люси; Люси Рэдклифф.
И как он не догадался? Люси Рэдклифф – младшая сестра, унаследовавшая любимый дом брата после его смерти, слишком любившая его самого, чтобы отдать то, чем он дорожил при жизни, в чужие, возможно, менее заботливые руки, – одним словом, домохозяйка Леонарда. Сразу после их встречи Леонард вернулся домой, распахнул дверь, с порога нырнул в послеполуденные сумерки дома и вынырнул в комнате с орнаментом из ягод и листьев шелковицы на обоях, у письменного стола красного дерева, на котором он расположил свои бумаги. Здесь были сотни страниц рукописных заметок, цитат, которые он год за годом собирал по библиотекам и частным архивам, выписывал из дневников и писем; из них рождались его собственные идеи, которые он тут же набрасывал вчерне, обводил кружочками, а потом стрелочками соединял в схемы.
То, что он искал, нашлось лишь ночью, когда лампа горела уже так давно, что комната пропахла керосином. Это были фрагменты из писем, хранившихся в частной коллекции в Шропшире: Эдвард писал их младшей сестре, когда учился в школе. Средняя сестра Рэдклиффа, Клэр, вышла замуж за представителя известного рода, и письма, которые, видимо, хранились у нее, по многочисленным ветвям его фамильного древа перекочевали в Шропшир.
Тогда Леонард не нашел в них ничего существенного или важного: ни слова о доме или искусстве – обычный обмен новостями между сестрой и братом, который на девять лет старше ее. Он и переписал их только потому, что хозяева коллекции ясно дали понять: его присутствие в их доме нежелательно, и второй возможности взглянуть на переписку у него не будет. Но теперь, перечитывая их – забавные происшествия, милые и жутковатые сказки, детская болтовня о семейных новостях, – он смотрел на них глазами пожилой женщины, которую повстречал сегодня. Ей явно было трудно ходить, и все же она пришла через всю деревню на кладбище, чтобы положить свежие цветы на могилу брата, хотя после его смерти минуло пятьдесят лет; и он увидел другого Эдварда Рэдклиффа.
До сих пор Леонард замечал лишь Рэдклиффа-художника, оригинального мыслителя, автора художественного манифеста. Но теперь длинные обаятельные письма, которые тот мальчиком писал из школы – где, видимо, тосковал – своей пятилетней, не по годам развитой и серьезной сестренке, требовавшей от него книжек про то, «как родились звезды», и про то, «можно ли путешествовать сквозь время», добавили кое-что новое к личности этого человека. Больше того, в них уже содержался намек на тайну, которую тщился разгадать Леонард. И в посланиях Эдварда, и в ответах Люси не раз встречались – всегда с заглавной буквы – упоминания о некой Ночи Преследования, а также о «доме со светом»; то и другое, судя по всему, не было выдумкой и отсылало к реальному случаю из жизни брата.
Леонард еще в Йорке ломал голову над письмом 1861 года к Торстону Холмсу, где Эдвард извещал друга о покупке им Берчвуд-Мэнор и сообщал, что они с домом – старые знакомые; теперь Леонард начинал думать, что между двумя наборами писем есть нечто общее. Оба содержали намеки на некую тайну из прошлого, и он почти не сомневался: что бы ни довелось пережить Рэдклиффу в Ночь Преследования, именно оно разожгло в нем страсть к Берчвуд-Мэнор. Вот почему вопрос о том, что же произошло тогда, будет одним из первых, которые он задаст сегодня Люси.
Леонард встал и закурил сигарету. Земля в тех местах, где Люси рвала вчера сорняки, была рыхлой, и он притоптал ее ногой. Кладя зажигалку в карман, он кончиками пальцев коснулся счастливой монетки Тома. У могилы брата он не стоял никогда. Да и зачем – он же знал, что Тома там нет. «Где же он тогда? – спрашивал себя Леонард. – Куда они все ушли?» Неужели все могло взять и просто так кончиться? Не может земля оставаться прежней после того, как в нее зарыли столько молодых тел, а с ними – столько иллюзий и надежд. Такой мощный переход энергии и материи из одного состояния в другое не мог не повлиять на мировое равновесие на самом простом и основополагающем уровне: столько людей существовали и вдруг перестали существовать.
Две птицы вспорхнули с ветвей огромного дуба и сели на колоколенку церкви; Леонард свистнул Пса. Вместе покинув кладбище, они пошли назад, к щербатому каменному цоколю, который здесь величали «знаком перекрестка».
Сразу за развилкой начиналась треугольная деревенская лужайка с большим дубом в центре и пабом «Лебедь» на краю. У «Лебедя» какая-то женщина мела тротуар, огибая скамью под окном. Она отвлеклась от своего занятия, чтобы помахать Леонарду рукой, и он ответил тем же. Свернув в самую узкую из трех деревенских улочек, он миновал мемориальный зал и вскоре подошел к коттеджам. Люси Рэдклифф жила в шестом, самом дальнем.
Все коттеджи были из бледно-золотистого, как мед, камня. У каждого было по две трубы и острый центральный фронтон, аккуратно зашитый досками до самого верха. В окнах обоих этажей стояли одинаковые опускные рамы, а над входом имелся навес с небольшим фронтончиком, под стать тому, что был на крыше. Дверь дома Люси была светло-сиреневой. В саду не наблюдалось разгула пестрого английского лета, как у соседей, номер шестой явно предпочитал более экзотические цветы: Леонард узнал лишь стерлицию, все другие он видел в первый раз.
Кошка, мяукнув, встала с прогретого солнцем гравийного пятачка, потянулась, выгнув спинку, и просочилась в дом – Леонард понял, что дверь не заперта, а просто прикрыта. Значит, его ждут.
Он занервничал и не сразу нашел в себе силы перейти на ту сторону улицы. Постоял, выкурил еще одну сигарету, мысленно пробежался по списку вопросов. Напомнил себе, что не стоит ждать многого от этой встречи; нет никакой гарантии, что она знает ответы на все его вопросы; и, даже если знает, может не захотеть ими поделиться. В конце концов, она предельно ясно высказалась на этот счет, уходя с кладбища: «У меня есть два условия, мистер Гилберт. Первое: я буду говорить, только если вы твердо пообещаете мне сохранить мое имя в тайне – у меня нет никакого желания видеть его в газетах. И второе: я смогу уделить вам один час, не больше».
Глубоко вздохнув, Леонард толкнул ржавую железную калитку и тщательно запер ее за собой.
Он решил, что будет неловко распахнуть дверь и явиться перед хозяйкой дома просто так, без предупреждения, и поэтому легонько постучал и позвал:
– Мисс Рэдклифф? Вы дома?
– Да? – отозвался из-за двери рассеянный голос.
– Это Леонард Гилберт. Из Берчвуд-Мэнор.
– Господи, да входите же, Леонард Гилберт из Берчвуд-Мэнор. Что вы там топчетесь?
Глава 16
Внутри коттеджа царил приятный полумрак, в котором его взгляд не сразу отыскал Люси Рэдклифф, восседавшую среди своих сокровищ. Вообще-то, он опоздал всего на минуту, но, видимо, у нее были дела поважнее, чем просто сидеть и ждать. Сейчас она была погружена в чтение: хрупкая фигурка на фоне горчично-желтого кресла, профиль застывший, точно мраморный; в одной руке – сложенный вдвое журнал, в другой – лупа. Сбоку, с небольшого полукруглого столика, на страницу лился желтый рассеянный свет лампы. Под ней стояли чайник и пара чашек.
– Мисс Рэдклифф… – начал он.
– Что вы об этом скажете, мистер Гилберт? – Она не отрывалась от журнала. – Похоже, Вселенная расширяется.
– Вот как?
Леонард снял шляпу. Никакого крючка поблизости он не увидел, а потому продолжал стоять, обеими руками держа ее перед собой.
– Так здесь сказано. Один бельгиец – священник, можете себе представить, – высказал предположение, что Вселенная расширяется с постоянной скоростью. И если мой французский меня не подводит – что вряд ли, – он даже вычислил скорость расширения. Вы, разумеется, понимаете, что это значит.
– К сожалению, не совсем.
Люси встала, взяла палку, прислоненную к столу, и стала мерить шагами истертый персидский ковер.
– Если принять за истину, что Вселенная расширяется и скорость ее расширения постоянна, то придется согласиться, что этот процесс идет с начала времен. С самого начала, мистер Гилберт. – Она замерла, седые волосы казались надетым на нее чепчиком. – С начала. Не от Адама и Евы, я совсем не это имею в виду. Я говорю о миге, о некоем действии или событии, с которого началось все. Пространство и время, материя и энергия. Я об одном-единственном атоме, который… – она развела пальцы одной руки в стороны, – разорвался. Бог ты мой. – Ее яркие, живые глаза взглянули в его глаза. – Возможно, мы стоим на пороге понимания того, как возникли звезды, мистер Гилберт, – звезды.
Единственным источником естественного света в этом помещении было окошко в передней стене дома, и солнечный луч, подсвечивавший сейчас ее лицо сбоку, превращал его в подобие эскиза, на котором художник запечатлел удивление. Оно было таким живым и прекрасным, что Леонард сразу увидел ту девушку, которой Люси была когда-то.
Но тут, прямо на его глазах, выражение этого лица изменилось. Оно точно погасло, внутренний свет иссяк, кожа обвисла. Люси не пудрилась, и по ее лицу, каждая морщинка которого рассказывала свою историю, было видно, что эта женщина провела жизнь в основном под открытым небом.