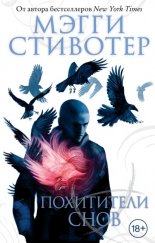Дочь часовых дел мастера Мортон Кейт

– Да, детка?
– Со мной в реке был человек.
– Да. – Люси присела на край кровати и взяла Аду за руку. – Мне очень тяжело говорить тебе об этом, но Мэй Хокинс упала в реку вместе с тобой. Только ей повезло куда меньше: она тоже не умела плавать и утонула.
Ада выслушала ее внимательно, а потом почти шепотом возразила:
– Но я видела там не Мэй Хокинс.
Я ждала, гадая, что еще она решится рассказать Люси; доверит ли она ей всю правду о том, что увидела на речном дне.
Но о «человеке» она не сказала больше ни слова, только добавила:
– Там был синий огонь. Я потянулась к нему, но оказалось, что это не огонь, а камень. Сверкающий синий камень. – Тут она протянула руку, раскрыла ладонь, и на ней сверкнул ярко-синий алмаз Рэдклиффов, столько лет ждавший своего часа среди булыжников на речном дне. – Я увидела, как он светит, и потянулась за ним, потому что знала: он меня спасет. И он спас – мой собственный амулет, он сам нашел меня как раз тогда, когда был мне нужен, и защитил меня от зла. Все как вы говорили.
Погода сегодня хорошая, день стоит ясный, и в доме полно народу – через комнаты течет сплошной поток туристов, все с билетиками на ланч в одном из ближайших пабов. Они бродят повсюду маленькими группками, и я, в тысячу первый раз услышав из уст очередного гида несусветную чушь на тему: «Закройте глаза в спальне мисс Браун, и вы уловите витающий там по сей день призрачный аромат ее любимой розовой воды», ухожу из дома в пивоварню, где Джек сидит тихо и не высовывается. Сегодня утром среди распечатанных им фрагментов из писем миссис Уилер я разглядела отрывок письма Люси к Аде, написанного в марте 1939-го. Наверняка он уже передвинул бумаги на своем столе, и, если мне повезет, я прочту его целиком.
Внизу, в холле, группа туристов толпится перед пейзажем, висящим на южной стене. Это первая работа Эдварда, принятая на выставку в Королевскую академию, и первая в серии, позже названной «Виды верхней Темзы»; натурой послужил пейзаж, открывающийся из окна под крышей. Вид и в самом деле очень хорош: река, за которой раскинулись поля, а дальше – мохнатая полоса леса и далекие холмы на заднем плане; но кисть Эдварда добавила мирному пасторальному пейзажу оттенков серого и пурпурного, превратив его в произведение искусства особой, бередящей душу красоты. Вот почему в картине углядели отход от фигуративной живописи в сторону «искусства атмосферы».
Полотно и впрямь завораживает, и стоящие перед ним туристы говорят то же, что и всегда. Например: «Какие краски!» – или: «Грустная какая-то, правда?» – или: «А какая техника!»
Но мало кто из них купит репродукцию картины в сувенирном магазине.
Один из талантов Эдварда заключался в умении так нанести краски на холст, чтобы уловить и запечатлеть в них свои эмоции, которые безошибочно смогут прочесть другие люди, – в этом ему помогала сила его желания говорить и быть понятым. Люди не покупают копии «Вида из окна мансарды» и не вешают их у себя в гостиной именно потому, что пейзаж проникнут страхом, и, несмотря на его завораживающую красоту, угрозу, исходящую от него, чувствуют даже те, кто ничего не знает об истории создания полотна.
Пейзаж, изображенный на картине, запечатлелся в памяти самого Эдварда, когда ему было четырнадцать. Это хрупкий возраст, время, когда меняется восприятие мира, время эмоционального роста, а Эдвард всегда был тонко чувствующим ребенком. И пылким. Не помню, чтобы он когда-нибудь интересовался чем-то поверхностно, – вот и в детстве он пережил целый ряд страстных увлечений, каждое из которых было «на всю жизнь», до следующего. Так, он был поглощен историями о феях и теорией оккультизма и одно время всерьез намеревался вызвать духа. Идея посетила его еще в школе, где он читал много разных книг, доступ к которым для учеников был, вообще-то, закрыт; часы, когда он корпел над пыльными средневековыми рукописями, найденными в подвалах школьной библиотеки, не прошли для него даром.
Именно тогда его родители отправились в долгую и утомительную поездку на Дальний Восток, собирать коллекцию японского искусства; целый год их не было в Англии. Вот почему, когда начались очередные летние каникулы, Эдвард поехал не домой, в Лондон, где прошло его детство, а в поместье к деду и бабке. Уилтшир – древнее, зачарованное графство, и Эдвард не раз потом говорил, что стоит только полной луне встать над его полями, как ее серебристый свет вызывает к жизни старинную магию. И хотя его очень раздражало и равнодушие к нему старших, и необходимость терпеть деспотический характер деда, все же пребывание в стране меловых холмов не прошло для него даром: на здешней почве его интерес к старинным историям про фей и духов вырос стократ.
Долго и тщательно обдумывал он, куда податься, чтобы вызвать духа, и решил уже остановить свой выбор на каком-нибудь из окрестных кладбищ, когда дедов садовник открыл ему, что лучшего места, чем слияние речки Коль с Темзой, не найти. Неподалеку от устья, рассказал старик, в лесу есть поляна – река делает там такой резкий поворот, что некоторое время как будто течет обратно. И вот в этой излучине феи и духи до сих пор ходят по земле, как живые люди. Бабушка садовника родилась под звон колоколов на севере, и уж кому, как не ей, было знать такие вещи; она и поведала внуку об этом тайном месте.
О событиях той ночи Эдвард рассказывал мне у себя в студии промозглым лондонским вечером, когда по стеклянной крыше моросил дождь, а внутри горело множество свечей. Потом я столько раз вспоминала, как это было, что до сих пор ясно слышу его голос, произносящий эти слова, точно он сам стоит у меня за плечом. И могу рассказать историю его приключений в том лесу так подробно, будто была тогда с ним.
Он шагал несколько часов, пока не нашел наконец ту самую излучину, а затем углубился в лес, разбрасывая на ходу куски мела, набранные в холмах днем, чтобы вернуться по ним домой, когда все будет кончено. На поляну он вышел, когда луна уже стояла высоко в небе.
Ночь была ясной и теплой, поэтому Эдвард оделся легко, но, притаившись за поваленным стволом, вдруг ощутил ледяное дуновение. Но оно тут же стихло, а вскоре он забыл и думать о нем, ведь на уме у него было другое.
Лунный луч как раз упал на поляну, когда Эдвард ощутил первое тягостное предчувствие. Он понял: что-то должно произойти. Откуда ни возьмись подул ветер, и деревья вокруг заплескали серебряной листвой, словно цыганки монистами. Ему вдруг показалось, что среди листьев открылись глаза, множество глаз, и они, как и его собственные, устремлены сейчас на поляну. Смотрят с ожиданием, с вожделением…
И тут, совершенно неожиданно, стемнело.
Он поднял голову к небу, ожидая увидеть облако, которое заслонило луну. И в этот самый миг в него вцепился своими когтями страх.
Кровь в его жилах застыла, и он, сам не зная почему, вдруг сорвался с места и бросился наутек через лес, где перебегал от одного куска мела к другому, пока не выскочил на край поля.
Но и там он не остановился, а продолжил бежать – в направлении дедовского дома, как он думал. Что-то гналось за ним, преследовало по пятам – тяжелый топот порой перекрывал звуки его сбивчивого дыхания, – но он, сколько ни вертел головой, так и не увидел ничего у себя за спиной.
Каждый нерв в его теле пылал огнем. Кожа, напротив, пошла ледяными мурашками, так, словно хотела сползти с тела.
Так он бежал и бежал по незнакомой местности, перескакивал через ограды, прорывался через колючки живых изгородей, топтал в полях зерно.
Но, как он ни старался, оторваться от погони не удавалось, и когда Эдвард уже чувствовал, что силы оставляют его, впереди показались очертания дома, в окне которого, под самой крышей, горел огонь – он был как маяк в бурном море, предвещающий надежную гавань и спасение.
Сердце выскакивало из груди Эдварда, когда он подбежал к каменной изгороди, одним прыжком вскочил на нее, а потом спрыгнул на землю в саду, серебряном от лунного света. К дому вела дорожка из плитняка. Дверь оказалась не заперта, и он, вбежав внутрь, захлопнул ее за собой. И тут же задвинул засов.
Повинуясь какому-то инстинкту, Эдвард стал подниматься по лестнице наверх, под самую крышу, как можно дальше от непонятного ужаса, который гнал его через поля. Остановился лишь на чердаке: выше идти было некуда.
Тогда он подошел к окну и стал озирать ночной пейзаж.
Всю ночь он не отходил от окна, не смыкал глаз, тревожно вглядываясь в каждое темное пятно, в каждую складку ландшафта, пока небо из серебристо-синего не стало розово-красным и ко всему на земле не вернулась чудесным образом привычная надежность.
Эдвард признался мне тогда, что из всех страшных и волшебных сказок, какие ему доводилось читать, слышать и самому выдумывать для сестер, ни одна в подметки не годилась тому ужасу, который он испытал на лесной поляне, и позже, когда бежал, спасая свою жизнь, и когда укрывался в доме, – это был для него первый настоящий страх. Он изменил его натуру, как говорил сам Эдвард: страх нанес его душе рану, которую время так и не смогло полностью залечить.
Теперь я точно знаю, что он имел в виду тогда. Настоящий страх не проходит бесследно; острота переживания не притупляется, даже когда его источник оказывается забытым. Человек, переживший страх, иначе видит мир: в его восприятии словно распахивается некая дверь, которой не было раньше, и закрыть ее совсем не получится никогда.
Вот почему я, глядя на «Вид из окна мансарды», никогда не думаю о мирных полях позади Берчвуд-Мэнор, хотя это, несомненно, они и есть; нет, я вспоминаю темную каморку, где воздух сперт, а горло горит и чешется от жажды вдоха.
Да, так вот, туристы не покупают копии «Вида из окна мансарды», зато охотно берут для своих гостиных «La Belle».
Наверное, я должна чувствовать себя польщенной тем, что мое лицо таращится со стен стольких комнат. И наверное, мелочно с моей стороны обращать внимание на такие вещи, но именно репродукции «La Belle» покупают в сувенирном магазине чаще, чем любые другие, включая и те, что сделаны с работ Торстона Холмса. Со временем я поняла, что люди ценят тот скандальный флер, который начинает рано или поздно осенять каждого, рискнувшего повесить над своим уютным диваном портрет похитительницы драгоценностей, а то и убийцы.
Некоторые из них, начитавшись Леонарда, сравнивают «La Belle» с «Портретом мисс Фрэнсис Браун, написанным по случаю ее восемнадцатилетия» и говорят что-нибудь в таком роде:
– Конечно, сразу видно, как он был влюблен в женщину, которая позировала ему.
Странное все-таки ощущение – знать, что мое лицо смотрит со стен гостиных стольких людей, совершенно незнакомых мне, через сто пятьдесят лет после того, как я повстречала Эдварда Рэдклиффа и позировала ему для этой картины в крошечной студии за домом его матери, в дальнем конце сада.
Вообще, позировать для портрета – это одно из самых интимных переживаний. Чего только стоит не согнуться под тяжестью чужого внимания, направленного на тебя одну, не опустить глаз перед ищущим, внимательным взглядом другого.
Я пережила большое потрясение, когда Эдвард закончил работу и картина, покинув его мастерскую, заняла свое место на стене зала Королевской академии. А ведь это случилось задолго до того, как появилась техническая возможность делать с полотна копии и продавать всем желающим, которые вставят их в багет и повесят над диваном; зато теперь мое лицо, такое, каким Эдвард увидел и изобразил его в 1861 году, расходится по всему свету на сумках и чайных полотенцах, на брелоках для ключей и кружках и даже на обложках ежедневников на очередной финансовый год двадцать первого века.
Интересно, что сказал бы об этом Феликс, пророк с Авраамом Линкольном в петлице, чьи предсказания казались тогда безумием. Все случилось, как он и говорил: камеры стали вездесущими. Они есть буквально у каждого. Вот сейчас, прямо у меня на глазах, несколько человек, разбредаясь по комнате в разные стороны, нацеливают свои гаджеты – кто на стул, кто на половую плитку. Адепты опосредованного восприятия, они смотрят на мир через окошки телефонов, щелкают затворами, чтобы сохранить мгновение для будущего и освободить себя от необходимости видеть и переживать его сейчас.
Все пошло иначе после того утра, когда Эдвард пришел за мной в дом миссис Мак на Литл-Уайт-Лайон-стрит. И он, и я без слов приняли то новое постоянство наших отношений, которое отсутствовало прежде. Эдвард взялся за новую картину, назвав ее «Спящая красавица»; но если раньше он был художником, а я – его натурщицей, то теперь мы с ним составляли нечто иное. Работа перетекла в жизнь, а жизнь – в работу. Мы стали неразлучны.
Первые недели 1862 года выдались отчаянно холодными, и печка в студии топилась не переставая. Помню, как я, лежа на бархатных подушках, из которых он сделал мне импровизированную кровать, глядела вверх, сквозь запотевшее от тепла комнаты стекло, на серые облака, нависавшие над ним в сером небе. Мои распущенные волосы он разложил вокруг меня, а две длинные пряди спустил мне на грудь, прикрыв ими декольте.
Мы проводили вместе весь день и большую часть ночи. А когда он наконец откладывал кисти, то сам отводил меня в Севен-Дайелз, чтобы с первыми лучами утра привести обратно. Наши разговоры текли теперь беспрепятственно, и подобно тому как нитка в руках опытной вышивальщицы образует на ткани узор, так и истории, рассказанные нами, образовали в сознании каждого из нас рисунок жизни другого, тем самым привязав нас друг к другу. Я рассказала ему об отце и матери, о часовой мастерской отца с ее чудесами, о наших поездках в Гринвич, о жестянке, в которую я пыталась поймать солнечный свет; я говорила о Бледном Джо и о нашей невероятной дружбе; о миссис Мак и о Капитане; о Маленькой Пассажирке с ее парой белых перчаток. Я назвала ему свое настоящее имя.
Друзья Эдварда не могли не заметить его отсутствия. У него и раньше бывали периоды одержимости работой, когда он уединялся и писал, иной раз на целые недели бросая Лондон, – в семье эти его периоды снисходительно называли «приступами мечтательности»; но, по всей видимости, его полное исчезновение с горизонта жизни родных и друзей в начале 1862 года ощущалось ими как нечто новое. Он не отвлекался ни на что: не писал друзьям, не читал их писем, не ходил на еженедельные встречи Пурпурного братства в паб «Кладовая королевы».
Был март, и «Спящая красавица» уже близилась к завершению, когда он познакомил меня с друзьями. Встреча состоялась у Феликса и Адель Бернард, которые жили тогда на Тоттенхэм-Корт-роуд; за простым кирпичным фасадом шла истинно богемная жизнь. Стены, выкрашенные в винный и индиговый цвета, были едва видны за огромными картинами в рамах и фотографическими снимками. По ним скользили фантастические тени от пламени множества свечей – казалось, их были сотни, – вставленных в замысловатые канделябры; воздух был густым от дыма и жарких споров.
– Так, значит, это все-таки вы, – сказал Торстон Холмс, глядя мне прямо в глаза, пока Эдвард во второй раз представлял нас друг другу. Затем он поднес мою руку к своим губам, как тогда, в Королевской академии. И опять что-то неприятное, некое предчувствие шевельнулось у меня внутри.
В те дни я мало чего боялась по-настоящему. Детство, проведенное в Севен-Дайелз, дает прививку от многих страхов, но, признаюсь, Торстон Холмс меня пугал. Он был из тех, кто привык всегда добиваться своего, и при этом не нуждался ни в чем материальном, снедаемый страстью к тому, чего не мог заполучить. Он был способен на жестокость, как случайную, так и преднамеренную, причем по части последнего вообще был большим специалистом. Однажды я видела, как на вечере у Бернардов он оскорбил Адель едким замечанием об одной из ее первых фоторабот, а потом, откинувшись на спинку кресла, с довольной улыбкой наблюдал последовавшую за этим сцену.
Я интересовала Торстона лишь потому, что он видел во мне вызов – сокровище, которое он мог отнять у Эдварда. Это я поняла сразу, но, клянусь, даже не представляла тогда, как далеко он способен зайти ради достижения своей цели и с какой охотой он готов навлекать на других несчастья ради собственного удовольствия.
Иногда я думаю о том, что именно из случившегося летом 1862-го можно было предотвратить, если бы я уступила Торстону в ноябре, в день, когда открылась выставка в Королевской академии, или хотя бы не отнеслась к нему так холодно. Но сделанного, как известно, не воротишь, вот и я, сделав свой выбор, должна была пожинать его плоды. Я снова и снова отказывала Торстону, когда он просил меня позировать; старалась не оставаться с ним наедине; избегала участившихся знаков внимания. Большей частью он действовал скрытно, предпочитая уязвлять меня исподтишка. Всего раз он позволил себе неосторожное высказывание в беседе с Эдвардом – и поплатился синяком под глазом, с которым ходил целую неделю.
Тем временем миссис Мак была довольна, получая регулярные платежи за мои услуги натурщицы, и Мартину, хочешь не хочешь, пришлось смириться с таким оборотом дела. Конечно, он не молчал, а высказывал свое неудовольствие при каждой удобной возможности, и порой, покидая поздней ночью студию в сопровождении Эдварда, я краем глаза замечала какое-то движение на противоположной стороне улицы – это был Мартин, шпионивший за мной. Но даже его неуместное внимание не мешало мне жить, пока он держался от меня на расстоянии.
Мать Эдварда, со своей стороны, поощряла наши отношения. Новое полотно было выставлено в апреле 1862-го, заслужило широкое одобрение и привлекло перспективных заказчиков; она лелеяла мечты о лаврах члена Королевской академии для сына и о бешеном коммерческом успехе его работ, однако была обеспокоена – в прошлом Эдвард, исчерпав один предмет, тут же переносил свой интерес на следующий, теперь же он никуда не спешил и другую картину не начинал. Вместо того чтобы, пользуясь успехом выставки, взять заказ, он то погружался в рассеянность – и тогда какое-то нездешнее выражение туманило его взгляд, делало неподвижными черты, – а то вдруг хватался за блокнот и начинал стремительно делать в нем наброски. Убедившись, что сын вырос в большого мастера, полная надежд на его блестящее будущее, она сама гнала его в студию, а меня засыпала подношениями в виде пирожков и чая, словно только этими жалкими крохами меня можно было удержать рядом с ним.
Что до Фанни, то, кроме выставки «Спящей красавицы» в апреле, когда она холодно кивнула мне издали, мы виделись с ней лишь однажды: она с матерью пришла тогда к миссис Рэдклифф на чай, и та привела обеих в студию – показать художника за работой. Они стояли прямо за спиной у Эдварда, Фанни была такая хорошенькая и гордая в новом атласном платье.
– Боже, – сказала она, – разве эти краски не прекрасны? – И тогда Эдвард встретился со мной взглядом, и в его глазах я прочла такое тепло и такое желание, что у меня захватило дух.
Поверит ли мне кто-нибудь, если я скажу, что за все эти месяцы мы с Эдвардом ни разу не говорили о Фанни? И не потому, что сознательно избегали этого предмета. Сейчас это кажется ужасной наивностью, но тогда мы о ней просто не думали. К тому же нам и так было о чем поговорить, а беседа о Фанни не казалась нам интересной. Любовь эгоистична.
Зато теперь я то и дело возвращаюсь мыслями к Фанни, жалею, что мало думала о ней тогда, корю себя за глупость: как я могла не понять, что Фанни не отдаст Эдварда без боя? Наверное, я, как и он, была ослеплена мыслью о том, что жребий брошен: мы должны быть вместе. И ни один из нас не задумывался о том, что другие могут видеть все иначе и никогда не смирятся с этой простой истиной.
Она вернулась!
Элоди Уинслоу, архивист из Лондона, хранительница памяти Джеймса Стрэттона и альбома Эдварда.
Я вижу ее у входного киоска: она пытается купить билет. Но что-то не получается, судя по выражению вежливого отчаяния, с которым она поднимает руку и тычет пальцем в свои часики. Один взгляд на циферблат моих часов в Шелковичной комнате – и я понимаю, в чем дело.
И разумеется, оказавшись с ней рядом, я сразу слышу:
– Я приехала бы раньше, если бы не другая встреча. Сразу после нее я поспешила сюда, но всю дорогу заняла громоздкая сельскохозяйственная техника, таксист не мог ее объехать, а здешние тропинки слишком узки для машин.
– Все равно, – отвечает ей волонтер, которого, судя по надписи на сумке, зовут Роджер Уэстбери, – мы впускаем лишь определенное число посетителей в день, и на сегодня квота уже исчерпана. Приходите через неделю.
– Но меня здесь не будет. Я уже вернусь в Лондон.
– Мне очень жаль, но вы должны понять. Дом нуждается в защите. Мы не можем впускать в него неограниченное количество людей.
Элоди смотрит на каменную стену вокруг дома, на остроконечные фронтоны над ней. По ее лицу видно, как мучительно ей хочется попасть в дом, и я даю себе зарок, что ближайшая зима в Берчвуд-Мэнор покажется Роджеру Уэстбери особенно неуютной.
Она поворачивается к нему и говорит:
– Ну хотя бы чашку чаю я могу у вас купить?
– Конечно. Кафе сразу за нами, в большом амбаре над Хафостедским ручьем. Рядом сувенирный магазин. Может быть, вам захочется купить сумочку или постер.
Элоди поворачивает в указанном направлении, с честным лицом проходит половину пути, но потом сворачивает направо, а не налево и проскальзывает через кованую калитку в обнесенный стеной сад.
Теперь она бродит по тропинкам, а я хожу за ней по пятам. Настроение у нее сегодня явно какое-то другое. Она не вытаскивает альбом Эдварда, да и лицо у нее уже не такое дурацки-счастливое, каким было вчера. Брови немного сведены к переносице, и у меня возникает отчетливое ощущение, что она ходит не просто так, а ищет что-то определенное. И это наверняка не розы.
В самую красивую, центральную часть сада она не идет, а бродит по краям, там, где стены затянуты плющом и другими ползучими растениями. Вдруг она останавливается и начинает рыться в сумочке, а я с надеждой жду, – может, она опять вытащит альбом.
Но на свет появляется фотография. Цветная. Мужчина и женщина сидят рядышком, где-то под открытым небом, вокруг них зеленеет пышная растительность.
Элоди поднимает снимок, сравнивая его со стеной сада, но, видимо, остается недовольна результатом, потому что вдруг резко опускает руку, приближается к углу дома, поворачивает, проходит мимо каштана. Она явно направляется к Джеку, и я решаю во что бы то ни стало узнать о ней как можно больше, прежде чем она отправится в обратный путь. Я вижу, как она бросает взгляд в сторону кухни, где вчера Джек отскребал пригоревшую форму для пирога. Сомневается, по всему видно. Вот теперь нужно, чтобы ее кто-нибудь подтолкнул, и я с радостью это делаю.
«Войди внутрь, – шепчу я. – Что ты теряешь? Зато, если повезет, он может даже впустить тебя в дом».
Элоди подходит к двери в пивоварню и стучит.
Джек, который засиделся допоздна, а ночью плохо спал, прилег вздремнуть и ничего не слышит.
Но я твердо вознамерилась не дать ей уйти, а потому решительно опускаюсь на колени рядом с его кроватью и так же решительно, изо всех сил, дую ему в ухо. Он подскакивает как ошалелый, вздрагивает всем телом, и тут раздается второй стук.
Он встает, прихрамывая, подходит к двери и тянет ее на себя.
– Здравствуйте, это снова я, – говорит она. По Джеку видно, что он только что встал с постели, и она добавляет: – Мне так жаль, что я вас потревожила. Я не знала, что вы здесь и живете.
– Временно.
Он ничего больше не объясняет, а она слишком хорошо воспитана, чтобы выспрашивать подробности.
– Извините, что я снова к вам обращаюсь, но вы были так любезны вчера. Вот я и подумала: может быть, вы не откажетесь еще раз впустить меня в дом.
– Там сейчас открыто. – Он кивает в сторону задней двери, откуда, как вода из водостока, начинает извергаться поток туристов после экскурсии.
– Да, но ваш коллега, который ведает продажей билетов, сказал, что я приехала слишком поздно и на последнюю экскурсию опоздала.
– Правда? Вот педант.
Она улыбается, явно удивившись:
– Да, вы знаете, я тоже так подумала. Но вы кажетесь мне… менее педантичным.
– Слушайте, я готов провести вас в дом когда угодно, но не сегодня. Мой… коллега… предупредил меня, что задержится – нужно присмотреть за починкой чего-то. Хуже того, завтра с утра он планирует вернуться и убедиться, что рабочие вернули всю мебель на место.
– О-о.
– Но если к полудню вы вернетесь, их уже не будет.
– К полудню. – Она задумчиво кивает. – Завтра у меня другая встреча, в одиннадцать, но я приеду сразу после нее.
– Отлично.
– Отлично. – Она снова улыбается; похоже, его присутствие волнует ее. – Что ж, спасибо. Пойду погуляю в саду еще немного. Пока меня не выгонят.
– Гуляйте сколько хотите, – говорит он. – Я им не позволю.
Почти шесть вечера. Последних посетителей уже вежливо провожают к воротам, когда Джек находит ее в саду: она сидит на скамье у стены, отделяющей лужайку от фруктового сада. Он разлил бутылку пива в два стаканчика и протягивает ей один:
– Я сказал коллеге, что ко мне заехала кузина поздороваться.
– Спасибо.
– А вы, похоже, не прочь здесь задержаться? – Он садится прямо на траву. – Ваше здоровье.
– Ваше. – Она улыбается и делает глоток. Некоторое время оба молчат, но, пока я решаю, кого из них подтолкнуть, она начинает: – Здесь так красиво. Я была уверена, что так и будет.
Джек не отвечает, и немного погодя она продолжает:
– Я не всегда такая… – Она пожимает плечами. – Просто сегодня очень странный день. У меня была одна встреча, и я все время думаю о том, что узнала. Завтра к вечеру мне надо вернуться в Лондон, а у меня такое чувство, будто я не сделала здесь и половины того, что собиралась.
Мне хочется, чтобы Джек подтолкнул ее, спросил, что она собиралась сделать, но он не поддается моим усилиям – и оказывается прав: она заполняет паузу без всяких уговоров.
– Недавно я получила вот это, – говорит она, протягивая ему снимок.
– Красивый, – говорит он. – Здесь кто-то, кого вы знаете?
– Моя мать. Лорен Адлер.
Джек неуверенно качает головой.
– Она была виолончелисткой, довольно известной.
– А это ваш отец?
– Нет. Американец, скрипач. Они вместе выступали, давали концерт в Бате, а потом, на обратном пути, заехали сюда перекусить. Я надеялась, что смогу найти то место, где они сидели.
Он возвращает ей фотографию.
– Они перекусывали здесь?
– По-моему, да. Я как раз пытаюсь это выяснить. Моя бабушка жила здесь, когда ей было одиннадцать; в войну мать привезла ее сюда вместе с братьями из Лондона, когда их дом сгорел во время бомбежки. Бабушки Беа нет уже в живых, но ее брат – мой двоюродный дедушка – рассказывал, что незадолго до того, как сделали этот снимок, моя мать приходила к нему и очень хотела узнать адрес этого дома.
– Зачем?
– Это я и пытаюсь выяснить. Понимаете, у нас в семье есть одна история, скорее, даже сказка, которая передается из поколения в поколение. И я только на днях узнала, что ее действие происходит в настоящем доме. Мой дед – двоюродный – признался, что, когда он жил здесь в войну, у него был друг, из местных, который рассказал ему эту историю. Он пересказал ее моей маме, а мама – мне. Это особая сказка для нас; и дом тоже много значит для нас всех. Даже сегодня, сейчас, сидя здесь, я чувствую себя так, будто это все мое. И понимаю, почему моей матери хотелось оказаться здесь, но почему именно тогда? Что случилось, почему она пошла к своему дяде Типу и начала выспрашивать у него адрес?
Так. Значит, она внучатая племянница Типа, а сам малыш Тип еще жив и не забыл сказку, которую я ему рассказала. Я бы могла сказать, что от этих слов у меня потеплело на сердце, если бы оно у меня еще было. А еще я ощущаю мурашки от других воспоминаний: они, как щекотка, пробегают по мне, когда она говорит о своей матери, виолончелистке, и о фото, на котором двое молодых людей – он и она – сняты среди плюща. Я вспоминаю и их. Ведь я теперь ничего не забываю. Воспоминания – они как кусочки цветного стекла в калейдоскопе, игрушке, которая была у Бледного Джо: снаружи ничего не видно, но стоит поднести трубку к глазу, и появится узор, повернешь ее – стекляшки поменяют положение, и снова возникнет узор, хотя и другой.
Элоди опять смотрит на фото:
– Сразу после того, как был сделан этот снимок, моей матери не стало.
– Сочувствую.
– Это было давно.
– Все равно сочувствую. У горя нет срока давности, как я выяснил.
– Вы правы, и мне повезло, что этот снимок оказался у меня. Женщина, которая его сделала, теперь знаменитый фотограф, но тогда она еще не успела прославиться. Она тоже была здесь, а их увидела случайно. И не знала, кто это такие, когда снимала. Просто ей понравилось, как они выглядели.
– Отличная фотография.
– Я была уверена, что, если обследовать в этом саду каждый уголок, место, где они сидели тогда, обязательно найдется, и когда я увижу его своими глазами, то, может быть, пойму, о чем думала в тот день моя мать. Почему она так хотела знать адрес этого дома. И зачем приехала сюда.
Недосказанное «с ним» облачком пара проплывает в остывающем вечернем воздухе и испаряется.
И тут звонит телефон Элоди – звук резкий, чужеродный; она смотрит на экран, но не отвечает.
– Извините, – говорит она и встряхивает головой. – Что-то я разболталась сегодня… Я не всегда такая.
– Да ладно. Для чего же нужны двоюродные братья?
Элоди улыбается и допивает пиво. Возвращает стаканчик и говорит, что они еще встретятся завтра.
– Кстати, я Джек, – говорит он ей.
– Элоди.
Она кладет фотографию в сумочку, встает и уходит.
После ее ухода Джек пребывает в задумчивости. Плотник весь вечер торчал здесь и так грохотал своим молотком, заколачивая гвозди, что ни о чем невозможно было думать; в конце концов, Джек подошел к нему и предложил помочь. Оказалось, что руки у Джека растут откуда надо. Плотник обрадовался нежданной подмоге, и часа два они молча работали вместе, лишь иногда перекидываясь парой ничего не значащих слов. Я очень рада, что после Джека в доме останется что-то материальное и сохранится, даже когда его самого давно уже не будет здесь.
На ужин Джек съел тост с маслом, а потом позвонил отцу в Австралию. На этот раз никакой годовщины, чтобы привязать к ней звонок, не было, и первые минут пять разговор не клеился. Но когда я уже думала, что Джек вот-вот повесит трубку, он вдруг сказал:
– А помнишь, пап, как он хорошо лазал? Помнишь, Тигр застрял на манговом дереве, а он вскарабкался наверх, снял его и спустился с ним на землю?
Что это за «он» и почему у Джека такой грустный вид, когда он говорит о нем? Почему голос у него делается сдавленным, точно от подступающих слез, и почему так меняется язык его тела, делая его похожим на брошенного ребенка?
Такие вопросы особенно занимают меня сейчас.
Он уже спит. В доме тихо. Я – единственное, что движется сейчас по его уснувшим пространствам, и я направляюсь в спальню Джульетты, туда, где висит портрет Фанни.
Молодая женщина в новом зеленом платье смотрит на художника в упор. Портрет навсегда запечатлел ее такой, какой она была в ту весну, когда повстречала Эдварда. Вокруг нее – комната, затейливо убранная во вкусе ее отца. Оконная рама позади нее поднята, и – таково искусство Эдварда, такова его верность деталям – ты почти физически ощущаешь, как прохладный ветерок касается ее правого плеча. Богатые портьеры из дамасского шелка обрамляют окно с двух сторон, складки винного и кремового цвета контрастируют с вечным сельским пейзажем за ним.
Но главное в его картинах – свет, свет и еще раз свет, именно он заставляет петь краски.
Критики считают, что портрет Фанни – больше чем просто портрет. В нем они видят размышления художника на тему быстротекущей молодости и вечности, изменчивого общества и мира природы с его непреходящими законами.
Эдварда всегда привлекали аллюзии, и, вполне возможно, он имел в виду эти контрасты, когда становился к мольберту. Что он преследовал двойную цель, это правда. Вид из окна – желтое от солнца летнее поле – ничем не примечателен, пока не вглядишься в дальний план: там, за группой деревьев, виднеется железная дорога, где паровоз тянет состав из четырех вагонов.
Это не случайно. Портрет Фанни в зеленом бархатном платье был заказан ее отцом по случаю восемнадцатилетия дочери, и паровоз, несомненно, предназначался для него. Скорее всего, к такой неприкрытой лести Эдварда подтолкнула его мать; она никогда не скрывала своих амбиций в отношении сына, а Ричард Браун был одним из «железнодорожных королей», человеком, который сделал состояние на стали и увеличил его в тот момент, когда Британия начала покрываться сетью железных дорог.
Мистер Браун обожал свою дочь. Я читала запись его беседы с полицией, которую раздобыл для своей диссертации Леонард. Смерть Фанни стала для него страшным ударом, и он решил сделать все, чтобы ее память не омрачали посмертные разговоры о разрыве помолвки и уж тем более – о другой женщине в жизни Эдварда. Отец Фанни был влиятельным человеком. Его усилиями страничка с моей жизнью была целиком вымарана из книги истории, и восстановить ее сумел только Леонард. Вот на что способен отец ради любимого ребенка.
Родители и дети. Казалось бы, нет на свете отношений проще, но на поверку нет и сложней. Каждое поколение передает следующему чемодан, битком набитый фрагментами головоломок, собранных за прошлые века, и говорит:
– На вот, поглядим, что ты сможешь сделать из этого.
Это навело меня на мысли об Элоди. Что-то в ее характере напомнило мне Бледного Джо. Я заметила это еще вчера, когда она пришла сюда впервые: то, как она представилась Джеку, как отвечала на его вопросы. Она ничего не говорит, не подумав, каждый ее ответ звучит взвешенно, и слушает она тоже очень внимательно – отчасти, конечно, потому, что искренне хочет понять все правильно, но, мне кажется, еще и потому, что постоянно испытывает чувство легкой тревоги, словно боится не справиться с задачей. Как и Бледный Джо. В его случае неуверенность объяснялась тем, что он был сыном своего отца. Полагаю, это часто случалось в семьях, где действовало право первородства, где сыновей называли в честь отцов и ожидали, что те станут копиями своих родителей, а потом, когда старики отойдут от дел, возглавят семейное предприятие или продолжат династию.
Бледный Джо гордился своим отцом: тот играл важную роль в правительстве, имел вес в политических кругах и был увлеченным коллекционером. Много раз, когда я наведывалась в комнату под крышей, в отсутствие домашних, Бледный Джо приглашал меня на экскурсию по огромному пустынному дому, выходившему окнами на Линкольнз-Инн-филдз. Вот где были чудеса так чудеса! Отец Джо немало поездил по свету и всегда привозил из своих странствий разные древности и редкости: чучело тигра скалилось подле египетского саркофага, над ним ухмылялась бронзовая маска из Помпеев, тараща провалы глаз на коллекцию японских миниатюрных скульптур. Фрагменты древнегреческих фризов соседствовали с картинами итальянского Ренессанса, а те – с полотнами Хогарта и Тернера; однако жемчужиной собрания была коллекция средневековых рукописей, включавшая копию «Кентерберийских рассказов», предположительно, более раннюю, чем принадлежавшая графу Элсмиру. А иногда, если отец принимал известного ученого или художника, мы с Джо прокрадывались вниз, чтобы послушать его лекцию из-за дверей.
Внутри дом был перестроен так, чтобы дать место длинным коридорам, которые Бледный Джо называл «галереями»; их сводчатые потолки поддерживались колоннами, а обширные пространства стен, от одной арки до другой, занимали либо картины в рамах, либо стеллажи, полные сокровищ. Позже, когда нашему с Джо знакомству шел уже не первый год и нам бывало так весело вместе, что мы иногда начисто забывали о моей работе, он отправлял меня в галереи с разрешением выбрать любую мелочь, чтобы потом отдать миссис Мак под видом дневной добычи. Кто-нибудь может решить, что я испытывала чувство вины, похищая столь редкие и драгоценные артефакты и отправляя их в долгий подпольный путь, но, как объяснил однажды Бледный Джо, большинство этих предметов и так были украдены у первых хозяев – им не привыкать.
Страшно хочется узнать, как сложилась судьба Бледного Джо. Вышла ли за него та леди, на которую он намекал, когда я пришла к нему в мансарду после выставки и мы говорили о неразделенной любви? Сумел ли он завоевать ее сердце и доказать ей, что человека добрее него нет во всем свете? Ах, чего бы я ни дала, лишь бы узнать это! А еще мне хочется знать, каким он стал; на что направил свою энергию, страстность и душевную теплоту. Бледный Джо очень гордился своим отцом, но всегда боялся, что сам окажется слишком слабым и сапоги великого человека будут ему велики. И имейте в виду: Бледный Джо позволял мне брать вещи из коллекции отца, желая, чтобы я подольше оставалась с ним, а еще потому, что он, как многие теперешние люди, презирал собирательство ради собирательства и не видел смысла в богатстве ради богатства. Но была и еще одна причина. Позволяя мне таскать мелкие безделушки с драгоценных отцовских стеллажей и отказываясь называться тем же именем, что и отец, Бледный Джо будто исподтишка отковыривал кусочки от массивного пьедестала величественного колосса – своего родителя.
Бледный Джо, Ада, Джульетта, Тип… У миссис Мак было любимое присловье о птицах, которые к ночи возвращаются домой, на свой насест, и говорила она, заметьте, не о курах. В птичью лавку на Литл-Уайт-Лайон-стрит часто наведывался один человек, который покупал там голубей. Он держал голубиную почту: своих птиц он отвозил куда-то далеко, а в нужный момент отпускал их, привязав сообщение к лапке, – голуби ведь всегда возвращаются домой. Вот и миссис Мак, говоря о птицах, прилетающих домой, на самом деле имела в виду возможности: чем больше птиц выпустит человек в мир, тем больше их вернется к нему.
Итак… Мои птицы возвращаются, и я чувствую, как меня неудержимо влечет к развязке моей истории. Глядя отсюда, кажется, что все происходит так быстро.
Глава 22
Лето 2017 года
Комната Элоди в «Лебеде» была на втором этаже, в самом конце коридора. Окно в частом свинцовом переплете, с маленьким, тесным сиденьем выходило на Темзу. Примостившись на нем и обложившись книгами и бумагами, она ела сэндвич, купленный, вообще-то, к обеду, но пришедшийся весьма кстати во время ужина. От внимания Элоди не укрылось, что ровно неделю назад она вот так же сидела на подоконнике у себя в Лондоне и, надев материну фату, смотрела, как эта же река безмолвно несет свои воды в море.
С тех пор случилось много всего. И вот к чему это привело: она сидит, уютно поджав ноги, в маленькой комнатке над пабом крошечной деревушки Берчвуд, побывав в одноименном доме даже не один, а два раза с тех пор, как приехала сюда вчера. Правда, сегодня ей не слишком повезло: ее водили по особняку подруги Пенелопы в Саутропе, глубоко и продуманно перестроенному, и Элоди, вежливо восхищаясь бесконечными драпировками всех мыслимых оттенков серого, изнывала от желания вернуться в дом. Наконец, не выдержав, она придумала какую-то отговорку и спешно ретировалась, дав обещание вернуться завтра, не позднее одиннадцати утра, после чего вызвала такси, а потом добрых полтора часа кусала себе локти от огорчения и досады, пока машина со скоростью десять миль в час тащилась по проселочной дороге следом за неторопливым образчиком сельскохозяйственной техники.
Разумеется, в Берчвуд-Мэнор она поспела как раз к закрытию, хорошо хоть в сад удалось пролезть. И спасибо судьбе за Джека, который явно не имел отношения к музею, но занимался чем-то на его территории. Она встретила его еще вчера, когда, едва сойдя с лондонского поезда, направилась к дому пешком. Джек впустил ее внутрь, и, едва переступив порог, она сразу поняла, что впервые за долгое время оказалась именно там, где нужно. А еще у нее было странное ощущение: дом словно затягивал ее в себя, открывался перед ней, приглашая идти все дальше и дальше. Хотя, конечно, о таком глупо даже думать, не то что говорить вслух: в конце концов, это не более чем уловки воображения, которое пытается усыпить совесть, потревоженную этим вторжением, явно не вполне законным.
Пока Элоди дожевывала сэндвич, зазвонил телефон, и на экране высветилось имя: «Алистер». Она не стала отвечать, и телефон, понадрывавшись еще немного, умолк. Все равно Алистер наверняка хочет только сказать, как расстроена Пенелопа, и попросить еще раз подумать насчет свадебной музыки. Когда Элоди впервые сообщила ему о своем решении, на том конце установилась такая глубокая тишина, что она даже подумала: не пропала ли связь? Но потом услышала:
– Это что, шутка?
Какая еще шутка?
– Нет, я…
– Послушай. – Он сдавленно хохотнул, похоже уверенный, что все это какое-то недоразумение и они сейчас во всем разберутся. – По-моему, нельзя взять и вот так отказаться сейчас. Это нечестно.
– В каком смысле?
– По отношению к матери. Она так серьезно вложилась в эту идею. Рассказала всем подругам. Ее это раздавит, а все ради чего?
– Просто мне… неловко как-то, вот и все.
– Но ведь лучшего исполнителя нам не найти. – На том конце раздался шум, и Элоди услышала его слова, обращенные к кому-то третьему: – Буду через минуту. – Он снова вернулся к разговору: – Послушай, мне пора идти. Давай договоримся: оставим пока все как есть, а когда я вернусь в Лондон, еще раз обсудим, о'кей?
И прежде, чем Элоди успела ответить, что нет, не о'кей, она уже приняла решение, и нечего тут больше обсуждать, он отключился.
И вот, сидя одна в комнате тихой деревенской гостиницы, Элоди почувствовала, как что-то сдавило ей грудь. Возможно, она просто устала и переволновалась. Хорошо бы сейчас поговорить с тем, кто приободрит ее: «Ничего страшного, ты просто вымоталась», – но пооткровенничать Элоди могла только с Пиппой и сильно подозревала, что подруга ни за что не скажет тех слов, которые ей особенно хотелось услышать. И к чему это приведет? К беспорядку, ужасному беспорядку, а именно этого Элоди особенно не терпела. В сущности, вся ее жизнь была большой борьбой с хаосом: его следовало избегать, а если не получалось – искоренять и упорядочивать.
Выбросив Алистера из головы, она взялась за статьи. В прошлый четверг их привез Тип, свалившись на нее как снег на голову. Придя с работы, Элоди обнаружила его у входа: он стоял, прислонив к стене свой старый синий велосипед, и ждал ее. На плече у него висела холщовая сумка-торба, которую он снял и протянул ей.
– Статьи моей матери, – сказал он. – Она писала их, когда мы жили в Берчвуде.
Внутри торбы обнаружилась потрепанная картонная папка, а в ней – стопка отпечатанных на машинке страниц и целая коллекция газетных вырезок. Все они были подписаны именем Джульетты Райт, которая приходилась Элоди прабабушкой. «Письма из провинции», – прочитала она.
– Мама писала их в войну. Когда она умерла, они достались сначала твоей бабушке Беа, а потом мне. Похоже, пришла пора передать их тебе.
Его поступок потряс Элоди. Прабабушку она помнила смутно: поездка в дом престарелых к очень старой женщине, когда самой Элоди было лет пять. Больше всего запомнились волосы прабабушки: густые и белые, как бумага. Элоди спросила Типа, какой Джульетта была в молодости.
– Изумительной. Красивой, веселой, а иногда насмешливой и резкой, но только не с нами. Ни дать ни взять Лорен Бэколл, если бы Бэколл была не звездой Голливуда, а журналисткой и жила в сороковых в Лондоне. Она всегда ходила в брюках. Любила моего отца. А еще любила Беа, Рыжа и меня.
– И так и не вышла больше замуж?
– Нет. Но у нее были друзья. Много друзей – все люди театра, и все помнили его. Ее страстью была переписка, она вечно кому-то писала или отвечала на письма. Такой я ее и помню: сидит за столом и пишет, пишет.
Элоди пригласила Типа наверх на чашку чая; с прошлых выходных, когда она видела его в последний раз, набралось много вопросов, которые она хотела ему задать, особенно после того, как Пиппа отдала ей фотографию Кэролайн. Она показала снимок и объяснила, где и когда он был сделан, пристально наблюдая за реакцией Типа.
– Ты не знаешь, где они сидят?
Он покачал головой:
– Подробностей маловато. Где угодно.
Но Элоди, уверенная, что он темнит, сказала:
– Мне кажется, она предложила ему заехать в Берчвуд-Мэнор на пути в Лондон. Этот дом много значил для нее, и этот человек, видимо, тоже.
Тип отвел глаза и протянул ей фотографию:
– Поговори об этом со своим папой.
– Чтобы совсем его доконать? Ты же знаешь, он ее имени до сих пор без слез слышать не может.
– Он ее любил. А она любила его. Ближе друга, чем он, у нее не было.
– Но она его предала.
– Откуда тебе знать?
– Я не ребенок, Тип.
– Значит, ты видела достаточно, чтобы понимать: жизнь – сложная штука. И многое в ней оказывается совсем не тем, чем представлялось.
Эти слова напомнили ей уклончивую фразу на ту же тему, произнесенную давным-давно ее отцом: жизнь длинна, а быть человеком трудно.
Они заговорили о другом, но, уходя, Тип повторил: поговори с отцом. Повторил так настойчиво, словно давал инструкцию.
– Он тебя удивит, вот увидишь.
Элоди пока не знала, последует она его совету или нет, но твердо вознамерилась сходить к самому Типу, как только вернется в Лондон. В четверг она так и не решилась задать ему вопрос о женщине в белом – дружба дружбой, а для одного дня волнений старику хватит; но сегодня утром, за завтраком, просматривая статьи Джульетты, она вдруг зацепилась глазом за одну деталь, которая ее поразила.
Пошелестев страничками из старой папки, она отыскала нужную статью. Почти все «Письма из провинции» были посвящены местным жителям, но попадались и другие, о родных и близких самой Джульетты. Одни трогали, другие печалили; третьи заставляли хохотать до упаду. Джульетта была из тех авторов, чье присутствие ощущается в каждой строке написанного ими текста: каждое слово, каждый оборот принадлежали ей и только ей.
В статье о том, как они с детьми решили приютить бездомную собаку, Джульетта писала: «В доме нас пятеро. Я, трое моих детей и огненноволосая женщина в белом платье, плод бурной фантазии моего сына, настолько реальная для него, что нам приходится сверять с ее мнением каждое решение, касающееся нашей здешней жизни. Зовут ее Берди, и, к счастью для моего сына, она тоже любит собак, правда, предпочитает, чтобы мы обзавелись псом постарше, с устоявшимся темпераментом. Эта мысль, хотя и исходит от существа вымышленного, кажется мне весьма здравой, а потому я не против того, чтобы наше семейство пополнилось Берди и мистером Руфусом – нашим недавним приобретением, девятилетним охотничьим псом, страдающим от артрита: добро пожаловать, живите с нами столько, сколько пожелаете».
Элоди перечитала эти строки еще раз. Джульетта писала о выдуманной подруге сына, чья внешность под ее пером приобретала жуткое сходство с женщиной в белом на том фото – натурщицей Эдварда Рэдклиффа; еще, по словам Джульетты, сын говорил, что «плод его бурной фантазии» носит имя Берди. Письмо, которое Элоди нашла за подкладкой рамки с портретом женщины в белом, было адресовано Джеймсу Стрэттону и подписано двумя буквами: «ББ».
Элоди ни на секунду не поверила в то, что подружка малыша Типа может представлять хоть какой-то интерес для исследователя, но, перечитав во второй раз книгу Леонарда Гилберта, которую дала Пиппа, невольно задумалась, нет ли тут иного объяснения. Что, если в детстве ее двоюродный дед видел не женщину, а картину, даже, быть может, то загадочное полотно, о существовании которого так жарко спорят искусствоведы? В конце концов, в альбоме Рэдклиффа есть наброски, указывающие на то, что он готовился начать новую картину, и ему опять должна была позировать его натурщица, «Лили Миллингтон». Вдруг потерянная картина все это время была в Берчвуде и Тип случайно натолкнулся на нее в детстве?
Незачем звонить ему сейчас с этим вопросом – он редко подходит к телефону, да и номер, который у нее есть, наверное, уже недействителен – на одну цифру короче нынешних. Лучше сходить к нему самой, как только представится возможность.
Элоди зевнула, встала с сиденья под окном и, прихватив книгу Леонарда, растянулась с ней на кровати. Что ж, если нельзя попасть в дом, так хоть почитаем о нем книгу. Любовь самого Леонарда к Берчвуд-Мэнор проступала даже сквозь страницы, посвященные описанию той всепоглощающей страсти, которую питал к дому Рэдклифф.
В книге был снимок дома, сделанный летом 1928 года, когда там обитал Леонард Гилберт. Сад выглядел аккуратнее, чем сейчас; деревья еще не разрослись, и фотограф так выстроил план, что неба почти совсем не было видно. Встречались и другие снимки: изображения лета 1862-го, того самого, которое Рэдклифф и его друзья-художники провели в доме. Они не походили на обычные викторианские портреты. Глядя на них, Элоди все время думала, что эти люди смотрят на нее сквозь толщу лет, наблюдают. Такое же ощущение возникло у нее и в доме – она даже оборачивалась пару раз, уверенная, что найдет рядом Джека.