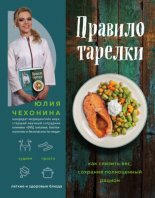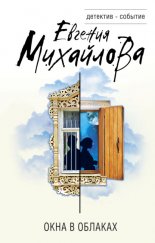Записки уголовного барда Новиков Александр

Пиотровский выполняет.
– Так, заткнулись быстро! Занавес, мрази ебаные! Занавес!
В тот же миг все стихает и исчезает за шторой.
Третий насильник-убийца – долговязый детина лет двадцати, по кличке Удав. Живет в первой семейке, и судя по всему, давно. Весь в наколках и на дешевых понтах.
Каждый день его возят на суд, поэтому еще и весь на нервах. По возвращении он кидается за стол гадать на домино: сколько дадут? «Вышку» он отбрасывает как невозможное и, возюкая костяшками по столу, приговаривает:
– Не-е, вышку не должны… Десяточку– было бы ништяк.
Когда выпадает 15, он все бросает в кучу, лихорадочно мешает и гундосит:
– Не-е, пятнадцать до хуя, не-е… Лет пять-шесть – это в самый раз. Трояк отсижу, а там – на УДО. За эту бомжиху десять – до хуя…
Почему он не попал в компанию Мухтара и Принцессы – не понятно. То ли похитрее был, то ли поборзее, то ли пофартовей. Год назад вместе с компанией двух-трех таких же выродков убил несчастную бездомную тетку, отобрав у нее мелкие гроши и бутылку портвейна. Вино тут же вылакали, надругались над ней, а бутылку, отбив горло, пинками забили между ног. После этого еще били ножом. Один удар пришелся в сердце. По всему, он был редкая мразь и по справедливости должен был жить за шторой. Но сегодня живет в первой семейке и ведет себя довольно нагло. Ненавижу его с первой же минуты. Он это чувствует. Через несколько дней начинаю пользоваться взаимностью.
В пустопорожних разговорах и камерной мирской суете проходит неделя. После вечерней баланды стучим в домино. Удав ходит и ходит кругами, хрустя пальцами, будто что-то лихорадочно обдумывает. Наконец решается:
– Александр, мне завтра на суд. Срок запрашивать должны.
– Ну и что?
– Ты не против, если я в твоих кроссовках поеду? Подогнал бы, тебе все равно еще до суда далеко. А я чтобы перед родными не стремно было…
– Они тебе копыта жать будут.
– Ничего, растянем.
– Они ж белые, тебе нельзя. Белые тапки – верная примета к «вышаку», хе-хе… Да еще и жмут.
– А тебе зубы не жмут?! – истерично выкрикивает Удав и пихает меня из-за спины в плечо. Все молчат. Ну что ж, вот он, первый экзамен.
Удава бью громко и жестоко. Бью показательно. Загоняю в нишу двери, как в мясорубку. Стены в крови, дверь в крови.
– Харо-ош!.. харо-о-ош! – хлюпает разбитой мордой Удав, подставляя ладони под льющийся из носа ручей.
– Все! Стоп. Прекратили! – рявкает старший по камере Серега. – Садись, Саня. А ты рыло помой и тоже иди сюда.
Через пять минут сидим за столом напротив друг друга.
– Ну вы че, в натуре, мужики, из-за такой хуйни… – продолжает он, потому что надо что-то говорить. – А ты что, не знаешь, на кого можно макли наводить? Короче, я считаю, что Новик прав.
Удава списали во вторую семейку. Он сразу как-то стих, сник и исчез под одеялом. Утром его увезли на суд.
– Во змей, пиздюлей огреб полную кошелку!
– Чуть, в натуре, до суда в белы тапки не обулся, ха-ха-ха!
Весь день для разрядки напряженности Пиотровский
муштрует свой театр обновленным репертуаром. В программе: ползанье по-пластунски под шконарями наперегонки, чистка шваброй зубов друг дружке и строевое пение новых текстов. После этого– выяснение: нравятся ли обоим кликухи? Мухтару своя очень нравится. Принцессе – нет.
Первому дают жирный бычок, пилотку из газеты и ставят со шваброй в караул у двери. Второму, после недолгих разъяснений и физической обработки, засовывают морду в гальюн по уши и предлагают просить у тюрьмы новую.
– Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!.. Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!..
В ответ камера изгаляется в вариантах. После каждой просьбы – пинок под зад. Через пять минут кликуха Принцесса ему очень нравится. Счастливый обладатель на четвереньках ползет к двери оттирать удавову кровь.
– Смотри, кикимора, хоть одну каплю менты найдут…
– Понял, понял.
После вечерней проверки в камеру вбрасывают Удава. С потухшим взглядом, трясущимися губами и руками.
– Ну что? – спрашивает кто-то из угла.
– Вышку… вышку запросили… Не-е, за эту суку – вышку…
Всю ночь до утра он, как полоумный, бродит от стола к двери, курит одну за другой, бормочет и причитает:
– Вышку… Ни хуя себе – вышку…
А то бросается снова к домино – гадать. Выпадает по– разному: пять, восемь, пятнадцать…
– Не-е, ну это ж другое дело. Не-е, ну вот же… я же вижу…
– Удав, хорош костями греметь! Хуля ты кольца вьешь! Сколько дадут – столько и твое. Вышка так вышка!
– Не-е, ну не вышка же… За бомжиху-то. А, мужики?
Утром он – прямиком ко мне. Синяк под глазом, нос опух, губа висит. Но будто ничего и не было.
– Саня, ты с образованием… Скажи, могут дать, а? Могут?
Чтобы отвязался, отвечаю:
– Да нет, конечно. Пятнашку дадут, и все.
– Вот и я так думаю. Уф-ф… Пятнашку было бы ништяк.
На следующий день он ее получил и в нашу камеру уже
не вернулся.
Тем временем следствие идет своим чередом. Целые бригады выезжают в Уфу, в Ижевск, в Москву.
Онищенко грозит привезти из столицы, чуть не в клетке, Стаса Намина.
– Я знаю, что он был главным перекупщиком. Вы его не отмажете. Вот съезжу, повяжу и посажу в соседней камере.
– Когда вязать будете, не забудьте, что он по паспорту – Анастас Микоян.
– Его далекие предки меня мало интересуют. Вдвоем вам петь веселей будет.
Со Стасом мы были знакомы, но сам он с аппаратурой дел не имел. Всем этим занимались звукорежиссеры его группы Валера Спиртус и Женя Дроздов – наши добрые приятели и большие специалисты в этой области. Они брали ее у нас в приличных количествах в обмен на фирменные гитары, клавишные и прочее. Иногда просто за деньги. Как у жителей столицы у них были широкие возможности для ее реализации.
Но Онищенко несло, и ему хотелось в деле громких имен.
В Москву он съездил. Что уж там ему сказали и кто – неизвестно. Но приехал он тихий, смирный и задумчивый. Никогда больше про Стаса не вспоминал и фамилию его вслух не произносил.
В ближайшие дни по тюремной почте и перекличке нахожу Богдашова. Он сидит в соседнем корпусе. Налаживаем переписку.
Судя по настроению, держится молодцом. Онищенко бесится и на допросах грозит устроить ему такое, что запомнит до конца жизни. Оно и понятно – дело шьется туго, а начальство подгоняет и требует. А оно очень высокое.
Опросили больше сотни свидетелей – все утверждают, что знали о самодельном происхождении аппаратуры. Никто из нас троих ни в чем не признается, и потому Онищенко – ралдугинское детище – заходит в тупик. Угрозы не помогают, и следствие идет на повторный опрос свидетелей. Но уже не простой, а с запугиванием, шантажом и ложью. Суть новой акции такова: если не подпишешься под тем, что Новиков с Богдашовым тебя обманули, выдав ее за фирменную, сядешь с ними вместе как соучастник. Большая часть аппаратуры была продана через комиссионные магазины во дрорцы культуры, в профкомы заводов и институтов. Их директора и председатели перепугались насмерть. Через две недели все, кроме одного, меняют показания на противоположные. Этот один – мой хороший знакомый Владимир Тарасовский. Его стращают, обыскивают дом, музыкалку. Но он остается непреклонен – правда всего превыше. Остальное трусливое кодло, упав на колени, дает показания под диктовку. Онищенко вне себя от радости. Его ненависть к Богдашову переходит в разряд личной. На очередном допросе мне говорит:
– Вот морозы посильнее начнутся, отправим твоего подельничка в Нижний Тагил, пусть в тамошней тюряге посидит. По трескучему-то, на этапе, ох как будет ему весело!
Негодяй не соврал, вскоре так и сделал.
Пока же мы сидим в соседних корпусах и переписываемся регулярно. Каждая третья малява теряется, но это не страшно. Тексты мудреные, шифрованные и для оперчасти непонятные. Буквы печатные. Никаких имен, фамилий и подписей. Все просто – без хлебных чернильниц, молока, писанины меж газетных строк и прочего ленинско-конс– пиративного идиотизма. Но понятны или непонятны – в оперчасть некоторые все же попадают. А потому наши камеры ставятся на особый контроль. Нам об этом неизвестно, и мы все так же гоняем почту по несколько раз в день. Путей только два – через баландера и «конем». Первый – утром и в обед, второй – ночью.
Люди с черпаком боятся, и не каждый согласен взять маляву – их тоже обыскивают и в случае «палева» отправляют на более тяжелые работы или в зону. «Черпак» – место хлебное, и все, кто взял в руки, за него держатся. Крепче всех те, кто работает на оперов, то бишь на «кум– часть». Все просто: баланду раздал, почту со всего коридора собрал и – к «куму». Тот прочитал, нужное выписал или оставил и отправил по назначению. Выгода для баландера: не шмонают, не гоняют, и между делом можно чаем или шмотками торгануть. А кроме всего – положительная характеристика от начальства и досрочное освобождение.
Выгода для «кума»: ничего не делать, но быть в курсе дела. Предотвращать преступления в камере, помогать следствию и дознанию, за что опять же благодарность, повышение и внеочередное звание.
В какой-то момент малявы перестают пропадать по дороге и начинают доходить все. Тюремного опыта маловато – сидим по первой ходке, поэтому никого это не настораживает. Но со временем случайные совпадения, внезапные обыски и вновь открывающиеся факты из уголовных дел камерных постояльцев наводят на невеселые выводы: кто-то из баландеров работает на оперчасть.
Баландеров трое. Они чередуются и ведут себя по-разному. Первого, полуграмотного, с колхозной рожей, зовут Иван. Он почту берет охотно. Другой – кочевряжится, вымогает, «вымарщивает» сигареты или чай. Третий – не берет ни в какую. Камера постановляет: первый – кумовской, нужно наказать. Наутро через него посылается малява в соседний корпус, «на братву», следующего содержания: «Здорово, братва! Ни откажыте отнеситесь со внеманием. У нас человеку итти на суд. Нужен лепень или свитэр. Можно за шуршавые или за колеса. С ув. Братва Х-505».
На войне это называется «огонь на себя». Вечером – шмон.
Эх, Ваня, вот она и другая сторона прелестей черпачной профессии. Придется тебе за все рассчитаться.
С утра, как обычно, разбираем шлюмаки с кашей. Из двух сразу вываливаем и моем дочиста. На шконаре загибаем матрас, ставим один шлюмак на решетку. Из куска одеяла крутим факел. Пока все едят, разогреваем добела. Настает время сбора посуды. Через открытую кормушку монотонно просовывается рука баландера Вани, машинально выхватывая миски. Сдаем в темпе. Для отвлечения внимания одни просят принять почту, другие скандалят по поводу черствых паек. Специально обученный черт ставит раскаленный шлюмак в холодный и, держа нижний на ладони, быстро сует в кормушку. Рука из-за двери привычно хватает.
– А-а-а-а!!.
Дикий вопль, запах горелого мяса и грохот летящей по коридору посудины. Кормушка захлопывается.
– А-га-га-га!.. – хором отвечает камера. – Спалился, пидорас!
По сути, так оно и есть в прямом и переносном смысле. Даже если прибегут опера, виновных не найти – все спали, читали газеты или играли в домино. Никто ничего не слышал и не видел. А «баланда», разумеется, «замас– тырился, чтоб закосить на больничку». Заступаться и расследовать никто не будет – это обычный расходный материал. Назавтра пришлют нового.
Прислали. Новый оказался хитрей и осторожней. Принимает посуду, заставляя ставить на край кормушки. В остальном в отношениях с оперчастью повторяет первого. Этому просто плеснули в рожу кипятком.
– Эй, баланда, ты че, сука, оборзел? Ты чего мне суп с бычком налил?!
-Где?
– Вот, разуй шары!
Рожа баландера просовывается в камеру.
– Ну, давай заменю.
В этот момент с размаху выплескивается бурлящая миска.
– Ой-ей-ей-ей!.. А-а-а!..
– А-га-га-га! Сварилась, крыса!..
Нет, не сварился – тоже спалился. Наказание варварское, жестокое, но что поделать – тюрьма есть тюрьма. Глядя на этого, другой извлечет опыт, и почта снова пойдет куда надо.
Кто бы знал, но со следующим выходит еще хуже. Этот, по кличке Рябой, – бывший официант. Крученый, наглый и жадный. В один из дней он предлагает две плиты чая за тридцатку. Деньги сегодня – чай завтра. Собираем всей камерой, отдаем и день за днем ждем обещанного. Но Рябой как в воду канул. Вместо него – другой. Ждем еще две недели. Вдруг появляется как ни в чем не бывало.
– Где чай, гидра?
– Мужики, бабки спалились, десять суток за них в карцере отсидел. Только вышел, отработаю.
Начинаем «пробивать» по всему этажу. Выясняется: деньги взял не только у нас. Пишем маляву на хозобслугу. Оттуда – ответ: в карцере не сидел, просто упросил начальство перевести на другой пост. Недавно был на свиданке, скоро освобождается.
Камера рвет и мечет. «Канать за лохов» никто не хочет, поэтому решено «зафоршмачить».
Мухтару с Принцессой приказано обмазать швабру дерьмом, укутать полиэтиленовым мешком и ждать момента. По команде мешок – долой и щеткой – через кормушку в рыло.
Момент настал в ближайший же обед. Исполнили – не придраться.
За дверью вопли, плевки, рвота, стук удаляющихся сапог.
– Братва, баландер зафоршмачен, жратву не брать!
Колотится наша камера, за ней следующая и, наконец,
весь этаж.
– Начальник! Баландер – чухан! Убирай этого черта! Жратву брать отказываемся!
Через пять минут – опера. Через десять – старший дежурный. Через полчаса Мухтар с Принцессой на пинках шагают в «обиженку» – отдельную камеру, где все обитатели – такие же. А жизнь и вовсе сущий ад. Жилплощадь за шторой опустела.
– Пидоры уехали, цирк остался, – осклабился Пиотровский.
Через несколько месяцев его самого переведут в другую камеру. За прошлый ли беспредел, за новые ли грехи там его опустят, и он испытает уже на себе все особенности ужасного быта Мухтара и Принцессы.
Состав сокамерников постоянно обновляется, кого только не привозят. Иногда бывает очень даже весело.
Однажды вечером пулей влетает парень, по виду – студент. Бледный, напуганный и заикающийся.
– Здорово, пидорасы!
Всех подбрасывает – такого еще не случалось. По понятиям и традициям за такое приветствие его следует определить к тем, с кем поздоровался. Ясное дело, кто-то злорадно научил – «проехал первоходу по ушам». Скорее всего в воронке.
– Ты откуда такой?
– С воли…
– Давай поподробней.
Начинается опрос. Парень сбивается, заикается и, наконец, запутавшись совсем, заливается слезами. Камера наезжает. Больше всех – Пиотровский. Еще немного, и бедолагу загонят под шконарь. Обрываю базар и впрягаюсь – надо как-то спасать.
– Кто тебя научил?
– Со строгачами в боксе сидел.
– А до этого где?
– Под распиской. Днем арестовали, вечером – сюда.
– По жизни кто?
– Студент.
– А еще?
– Вор.
Все дико хохочут. С первых ярусов наперебой кричат:
– Там что, все такие воры учатся? По жизни кто? Мужик или пидор?
– Нет, нет, нет! – машет руками студент, утирая слезы. – Я не этот!..
– Ты по жизни не студент, а дурак, – заключает старший по камере. – Ну, что с ним делать будем? – обращается он ко мне.
– Пусть недельку сам по себе поживет, а там решим.
Студент оказался очень даже хорошим парнем и через неделю со всеми от души хохотал над своим приветствием и «воровской долей». Подначивали его еще долго. Особенно при обходе начальства или прокурорской проверке.
– Студент, поздоровайся с начальниками как надо! Строго по-воровски.
Через неделю доставили еще одного «учащегося». Андрюха, младший научный сотрудник УПИ, по совместительству – вор-домушник. Кроме всего прочего – легкий, романтический наркоман. Родом из Орска. Отец –директор крупного завода, поэтому обеспечен всем и о своей судьбине горько не тужит. Не знать, что «фомкой» вскрыл десяток квартир, – вполне приличный, симпатичный и даже остроумный.
С Андрюхой быстро сходимся. По делу он сознается только в том, на чем был пойман с поличным. Про остальное – в полном отказе.
На прогулке или ночью, когда нет лишних ушей, мне рассказывает все. Охотно советуется. Воровской послужной список его довольно интересный: профессура, партноменклатура, работники общепита. Сейчас озабочен только одним: где найти «колес» – раскумариться.
Рассказываю ему про доктора на первом посту. Узнаем, можно ли туда попасть. Оказывается – никак нет. В нашем корпусе есть свой доктор – женщина, говорят, очень даже симпатичная. Иногда бывает с обходом лично.
– Надо ей леща пульнуть да на прием напроситься. Мы для нее – никто, а тебя, может, и вызовет, – рассуждает Андрюха.
– А на что косить?
– Хоть на что, лишь бы вызвала.
Его иногда «подламывает», и он мается своей «колесной» идеей с утра до ночи.
Ждать пришлось недолго. На неделе коридорный возвестил об ее приходе ударами ключа по двери и монотонным: «Врач с обходом! Кто есть больные, подходи…»
Самые больные в любой камере – это старшая семейка и еще кто-нибудь из второй. Остальные – на усмотрение первых. Те, что за шторкой, – здоровы всегда. Оттуда на хворь много не пожалуешься.
К открытой кормушке склоняется женское лицо:
– Больные есть?
– Есть, есть.
Мы с Андрюхой – на корточках перед самой дверью.
– Здравствуйте! Никогда бы не подумал, что в тюрьме такие красивые врачи, – кондово заигрывает он. – Так и хочется песни петь.
– Хватит базлать! Больные, говорю, есть? Вот аспирин, возьмите на всех. И вот еще анальгин.
Она просовывает горсть упаковок.
– Скажите, а на прием к вам можно записаться? – подключаюсь я.
– А чем болен?
– Сплю плохо. Совсем спать не могу.
– Ну и не спи. Кишечные симптомы есть?
Окошко вот-вот захлопнется, и Андрюха идет ва-банк:
– Девушка, колес хоть каких-нибудь упаковочку хотя бы, а то уж очень плохо.
– Кому колес? – Лицо просовывается глубже, глаза шарят по камере и упираются в меня. – Тебе? А дурно не станет?
– Тихо, тихо… Не кричите так на весь коридор, – прикладывает Андрюха палец к губам.
– Ты что, мудак, еще командовать будешь?! – взвивается дама.
В этот момент из-за нашей спины кто-то громко орет:
– Да хуля эту крысу укатывать, ничего она не даст!
– Как не даст? Даст, еще как даст! Начальнику конвоя, а-га-га! – подхватывает другой.
Дверца хлопает нам с Андрюхой прямо по носу. В коридоре женский визг:
– Коридорный! Пиши рапорт, меня здесь обматерили!
В камеру влетают двое дежурных с разъяренной врачихой.
– Который?
– Вот этот! – тычет она мне прямо между глаз.
– Я вообще с вами не разговаривал.
Врачиха переходит на более удобный для нее язык:
– Что ты мне пиздишь, я же видела – это ты!
Поворачивается к дежурному и продолжает орать:
– Этот колес требовал, наркоман ебаный, а этот, – тычет опять мне в лоб, – ругал меня матом! Мудаки!
Через час в кабинете дежурного расписываюсь в постановлении на пять суток карцера и бреду под конвоем в отдельный корпус в дальний конец тюремного двора. На улице трескучий мороз, поэтому предчувствия нехорошие. По пути заходим в баню на шмон. Одежду сдаю. Взамен выдают казенную, карцерную. Вытертое, будто из простынной ткани нижнее белье – «тельник», на три размера меньше нужного, и верхнюю – «шаронку» и «шкеры» – ветхую, штопаную робу. Рукава – по локоть, штаны чуть ниже колен. На ноги – «чуни» – обрезанные по щиколотку вонючие солдатские валенки. Телогрейка, носки, ремень, сигареты в карцер не положены. Напяливаю, будто все это снял с убитого. Старшина оглядывает с головы до заголенных ног:
– Красив до охуения! Вперед.
Глава 19
Карцер
Карцер – вросшее в землю одноэтажное здание.
Караулка и за ней длинный коридор с дверями по обе стороны. Моя камерка под номером 6 – клетушка полтора на полтора. Бетонный выбитый пол, метровой толщины стена, оконце без стекла, с тройной решеткой. Холодный воздух льется из него по стене и застывает ледяной коркой, спадающей почти до пола. Под окном вместо плинтуса тоненькая горячая труба. Унитаз заменяет дырка в углу, ведущая вниз в никуда. Сбоку – пристегнутый к стене окованный железными обручами шконарь. В стене напротив в полуметре от пола – железная пластина – столик. На голом шконаре спать невозможно – ледяные железки врезаются в бока. Матрас и одеяло в карцере тоже не положены, поэтому единственное спальное место – пол. Но как спать, когда ты ростом – два метра, а ширина душегубки – полтора? Без всего и ни на чем. А очень просто: труба – спасение. Скорчившись, поджав колени, спиной – к ней. Голову втянуть в воротник, насколько возможно. Чуни – под голову.
Итак, пять суток пошло.
У потолка гул – камера кишит комарами. На дворе зима, но их – как на болоте. В свете тусклой лампочки, что утоплена в глубокой нише, этих тварей не видно. Зато хорошо слышно – их рой гудит, как высоковольтная вышка. Днем туча дислоцируется у потолка, и ее никак не достать. Ночью слетает и жалит, и сосет кровь с особой тюремной жадностью. Клопов – тоже полчища. Днем их также не видно – прячутся под «шубой», а ночью они с комарами заодно. В качестве подмоги клопам – вши. Эти жрут круглые сутки. На протяжении всего карцерного пребывания баня распорядком не предусмотрена, как, впрочем, и умывание. Положено полбуханки черного хлеба, горсть соли, два раза в день кипяток и вечерняя баланда – шлюмка жидкости с плавающим в ней капустным листом, куском луковой шелухи и одной малюсенькой соленой килькой. Если повезет, может попасться кусок гнилой картошины. Но если хочешь выжить – надо есть.
Живодерский каменный мешок. Бетонный корявый пол. Из дырки – вонь. Сверху, из окна, течет ледяной воздух. Одна радость и надежда – труба. Тонкая и очень горячая. Обжигает до волдырей, но сейчас не до этого. Бог с ними, с волдырями. Жмусь к ней то одним, то другим боком. Чунь врезается то в левую, то в правую щеку. Ночью пикируют комары и как горох сыплются клопы. Давлю их с треском на себе. Давлю и считаю. От клопового духа воротит и тошнит. Комарье визжит, лезет в уши, в нос, за шиворот. Бью, давлю… Когда-то же должны они кончиться. На третьей сотне понимаю, что никогда. В полубреду проваливаюсь в сон.
Просыпаюсь от непонятного прикосновения, переворачиваюсь на другой бок и придавливаю лбом к стене крысу. Она цыркает и с перепугу кусает меня под глаз. Вскакиваю как ошпаренный. В углу вижу – еще три. Хватаю впопыхах чунь. Вся стая ныряет в дырку. С размаху затыкаю ее им. Теперь в качестве подушки придется довольствоваться одним.
Опять пытаюсь заснуть. Каждые несколько минут открываю глаза: не ползут ли снова? Но усталость и холод сильнее – проваливаюсь в темноту.
Просыпаюсь рано. Первым делом гляжу в крысиный угол. Затычка выбита, значит, ночью опять выходили. От всего этого передергивает и осыпает мурашами.
Грядет проверка. Распорядок ее строгий и простой. Открывается дверь, выходишь голышом в коридор, спиной вперед. Одежду держишь на вытянутой руке. Вторая – за голову. Лицом – к стене, одежду – на пол. Дежурный и два рядовых осматривают камеру, с силой дергают решетку. По команде приседаешь три раза и – бегом в камеру. Следом летит шмотье.
– Гражданин начальник, здесь крыс полно, – говорю, стоя в чем мать родила.
Начальник – азербайджанец – весельчак.
– Крисов много? Так ляви! На кухня сдавать будешь, хи-хи-хи…
– Тут и клопов, и вшей…
– Ихний тоже ляви. Побистрей поймаешь – спать ки– репко будишь.
Решетчатая дверь захлопывается. Следом– кованая. Проверка окончена.
К вечеру усилился мороз. Холодный воздух с паром полился сквозь решетку еще быстрее. Сидеть на полу невозможно, начинаю ходить кругами. Свербит одна мысль: при таких климатических условиях пять суток не протянуть. Уже знаю, что это такое – недавние дни в ИВС свежи в памяти, но выхода нет. Пока кружу, отирая плечами шершавые стены, с горькой грустью вспоминаю дом, двор, сирень напротив балкона, школьных дружков из этого двора… И вдруг, как слезы, наворачиваются стихи:
На Восточной улице На карнизах узких
Сизари красуютсяВ темно-серых блузках…
Повторяю вслух, чтоб не забыть. И дальше, дальше… По строчке, по куплету. Вот оно и сложилось, красивое стихотворение. И я со слезами на глазах, нарезая круги по камере, читаю его снова и снова – бумага и ручка в карцере запрещены.
Каждый день встаю с ним, будто боюсь потерять что– то дорогое. И опять– нараспев. Но одним стихотворением не наговоришься. Так уж человек устроен – нужно с кем-нибудь своими радостями и горестями поделиться. Особенно здесь, где все – поодиночке за двойными дверями.
Камеры изредка перекрикиваются меж собой. Когда это дежурному надоедает, он включает вентилятор, и уличный холодный воздух задувает по всему коридору.
– Начальник! Выключай, больше базарить не будем!
– Щто, яйца к решетку примерзла? Еще папробуй – в нулевка посажу!
«Нулевка» – отдельная камера, по сути своей и назначению – пыточная. Холодный бетонный мешок с вентилятором у потолка. Зимой за считаные минуты температуру в ней доводят до нуля. Но и без этого в его стенах долго не прокашляешь – неделю, не более. Из нулевки своими ногами выходят редко. Обычно выволакивают за шиворот, а иногда и вперед ногами.
Кипяток в карцере – особая благодать. Им греются изнутри, потому что снаружи тепла ждать не приходится. Благодаря ему держатся и выживают. Курить не положено. Есть – почти не положено. Поэтому от душевной хвори и от простуд одно лекарство – кипяток. Но он лишь ранним утром и поздним вечером, и тепло его ненадолго.
Снимаю тельник, затыкаю решетку – благо оконце маленькое. Становится чуть уютнее, уже жить можно.
Даже в этом скудном жестоком быте есть свои премудрости. Главное здесь – сон. Но чтобы уснуть, надо быть хоть немного сытым. Поэтому дневную пайку хлеба делю на три части. Утром – совсем чуть-чуть с солью и кипятком. В обед – одну треть, и постараться уснуть. Остальное – с баландой на ночь, чтобы дотянуть до утра. Когда ешь перед сном оставшийся кусок, макая в казенную грязно-се– рую соль, кажется, нет на свете ничего вкуснее. Голод – он хуже боли.
Затыкаю тельником квадраты решетки еще плотнее и радуюсь своей догадливости. Теперь можно и вздремнуть. Вытягиваюсь вдоль трубы и закрываю глаза. Вдруг рядом, прямо над ухом: дзинь!.. дзинь!.. Спросонок блуждаю взглядом по камере. Здоровенная крыса прыгает и пытается лапой сбить со столика остатки хлеба. Дотянуться не может, поэтому пробует снова и снова. По-боксерски, боковыми, то с правой, то с левой. Ничего не скажешь – умна тварь и изобретательна: тюрьма и для нее – тюрьма. Не успеваю замахнуться, как она ныряет в свой лаз. Мочусь ей вдогонку и затыкаю чунем. Теперь, чтобы не встречаться с ней еще и днем, ложусь к трубе, одной ногой придавливая затычку. Иногда чувствую, как снизу колотятся. Так и хочется отдернуть ногу, но нельзя: уснешь– сожрут пайку. Говорить кому-то и жаловаться бесполезно – коридорные поднимут на смех, поэтому – скрипя зубами терпеть.
Наконец настает последний пятый день. Считаю уже не часы, а минуты – в шесть вечера должны выпустить. После обеда привычно пытаюсь уснуть. Вдруг прямо на глазах медленно и бесшумно отворяется кормушка. Прямо на меня глядят большие женские глаза, и голос шепотом:
– Саша… Саша, ты меня узнаешь?
Лица в камерном полумраке не видно. Голос тоже не знаком.
– Нет.
– Подойди поближе. Я всего на секунду, нам сюда нельзя. Я с охраной договорилась. Меня зовут Вера. Помнишь, в «Малахит» тебя слушать ходила?
Подскакиваю на четвереньках к двери. За ней, присев на одно колено, красивая глазастая девушка в форме. Когда-то я видел ее в ресторане со сцены. Она изредка приходила, садилась за столик напротив и весь вечер глядела на меня. Мне она нравилась, но исчезала всегда до того, как мы закончим работу. Поэтому ни познакомиться, ни узнать, кто она, не удавалось. Вот здесь и познакомились.
– Я работаю в спецчасти. Найду тебя сама, когда выйдешь. Номер камеры знаю. Что тебе принести?
Она говорит быстро, отрывисто и, видно, очень спешит.