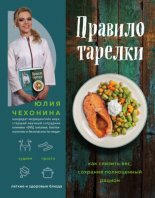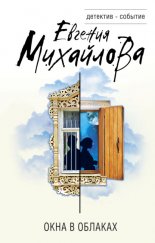Записки уголовного барда Новиков Александр

На вечернем обходе остатки второй семейки вдруг выгоняют на коридор. Дверь камеры открыта, в дверях – дежурный и несколько коридорных.
– Вещи собрать. Матрасы – с собой!..
Выходя, оба оглядываются и красноречиво смотрят на нас: какие еще нужны доказательства?
В эту ночь собираемся в дальнем углу «помусолить стиры». Играем самодельными тюремными картами. Это – «для близира». На самом же деле решаем, что делать с этим «второходом».
– Скорее всего, он утром выломится.
– Нет. Скорее, выдернут нас. Эта крыса будет сидеть до конца. Он здесь для чего-то нужен.
Разговор идет оборванными фразами, шепотом, «маяками» и пальцовкой.
– Надо эту крысу давить. Ночью – на удавку, а утром бить в дверь: человек актировался! – внес предложение Андрюха. Все поддержали. Я тоже.
Согласно плану завтра, когда все идут на прогулку, двое остаются– по одному в камере не оставляют. За этот час распускают все капроновые носки и делают «кру– ченку» – тюремную веревку из скрученных нитей. При толщине с мизинец, на прочность может выдержать вес любого человека. Давить решено втроем. Андрюха – на петле, Серега – старший семейки – на руках, я – на ногах. Ночью, за пару часов до подъема, когда никто уже по камере не тусуется.
Андрюха объясняет процедуру:
– Эта мразь спит на брюхе. Я завожу удавку, а дальше… главное, чтоб не завопил. Потом подвешиваем к верхнему шконарю.
Честно говоря, я мало верил в то, что все окончится, как задумал Андрюха. Скорее всего, будет крик, шум-гам, подопытный выломится. Нас дернут в оперчасть, и все мы будем стоять на том, что «человек хотел повеситься, но мы не дали». Для начальства убийство и самоубийство в камере – почти одно и то же. Поэтому раздувать никто не станет. В худшем случае всех нас раскидают по разным «хатам». Вова-второход будет, конечно же, «втирать операм», что его хотели жизни лишить. Но он – один, а нас – трое. Нам веры больше. И потому начальство примет, конечно же, нашу сторону.
Но это были всего лишь предположения. А пока было решено – давить.
Настал вечер. По коридору – эхом шаги и голоса проверяющих. Вова лежит на шконаре, укрытый с головой.
– Вставай на проверку, – толкает его Андрюха.
– Не могу… Что-то с сердцем опять хуево, – цедит он сквозь одеяло.
Камера встает, строится. Распахивается дверь, коридорный привычно орет:
– Стройся! Дежурный по камере, докладывай…
В этот момент «второход» срывается с кровати и пулей вылетает в коридор.
– Гражданин начальник! В камеру больше не войду!.. Меня хотят убить!
Дверь захлопывается. Через полчаса – повальный шмон. Утром меня – в карцер, Андрюху – на другой корпус. А с ним до кучи еще несколько человек. Судьба «не– додавленного» так и осталась неизвестной.
Маленкович наваливается на стол, растопыривает локти, как паук, и орет мне прямо в лицо:
– Ты вернись, бля, на землю! Хуля сидишь мечтаешь? Слушай и запоминай! Мы тебя закопаем так, что никто не отроет. И даже если отроешься, мы тебя снова закопаем! И будем, блядь, закапывать до тех пор, пока не станут расти одуванчики! Понял, бля? Вот тебе постановление еще на десять суток. Расписывайся и пиздуй в свои хоромы!
Хотелось плюнуть и поскорее уйти. Но уходить, вернее, быть уведенным просто так не хотелось.
– Можно мне сказать, гражданин начальник?
– Тебе что-то неясно?
– Нет, все ясно. Просто хочу сказать, что все в этом мире относительно и не вечно. Сегодня я сижу перед вами на этом привинченном стуле, а завтра – вы можете сесть. Может так случиться, что жизнь поменяет местами.
– Ах, вот ты о чем!.. Тогда слушай меня еще раз. И запоминай каждую букву. То, что ты можешь сесть в мое кресло, я верю – такое может случиться. Но то, что я сяду на твое – не случится никогда! Никогда! Блядь буду, если хоть дэцл совру!..
Он все-таки соврал. Через несколько лет его посадили – то ли за взятки, то ли за превышение полномочий. Заключен был в эту же тюрьму, ходил – руки за спину – по тем же, что и я, коридорам. И сидел на точно таком же стуле. А может быть даже и на этом.
Глава 21
Камышловская пересылка
Начало лета ознаменовалось нежданным путешествием. Июньским утром в дверь камеры трижды шарахнули ключом, и голос следом пролаял:
– Новиков, готовься с вещами!..
Собираюсь мигом, на ходу прощаюсь. Ведут по коридорам незнакомой дорогой.
– Куда меня?
– На этап.
Этапка – грязное, зловонное помещение размером со школьный спортзал. В ней уже с десяток разношерстных персонажей – кому куда. У параши – пара опущенных, остальные по худости рода – кто где. Двухъярусные нары вдоль стен, вместимостью человек этак на сто, а то и более. Место на первом ярусе под оконной решеткой свободно. Занимаю его. «Сидор» – под голову, в телагу – с головой. С мыслями, куда и зачем везут, пытаюсь заснуть.
К обеду народу прибывает. У параши – аншлаг. Нары – кишмя.
Кому не досталось места – тусуются по камере.
Приходит офицер, выкрикивает фамилии.
– Кого назвал, выходим на коридор, быстро!
Доходит до меня, с ног до головы рассматривает, качает
головой и провожает взглядом.
– Куда этап, начальник?
– Тебе – в Камышлов.
Воронки набивают, как всегда, до треска. Меня по традиции – в «стакан». Едем на вокзал, в этапный двор на улицу Стрелочников.
На воле я часто ездил по ней и хорошо знал, где это. Однажды даже заглядывал в щель трехметрового забора и видел процедуру погрузки в «Столыпин». По иронии судьбы точно напротив этого двора через дорогу стояла пятиэтажка, в которой жил мой компаньон по изготовлению «Маршаллов» Юра Юнцевич. В этом доме мы с ним сделали не один комплект.
Воронки влетают один за другим в открытые ворота, становятся гуськом. Начинают выкрикивать по фамилиям. Все как обычно: быстро выскочить, пять шагов вперед, сесть на корточки, руки за голову, вещи рядом, смотреть в землю. Вокруг – собаки, русские и нерусские лица с автоматами. Мат, крики. Здесь понимаешь, что такое плен и окружение.
Меня выкрикивают последним. Вышагиваю из воронка. В одной руке телага, в другой – пожитки. Передо мной – по четыре в ряд, с обхваченными руками затылками, на корточках – попутчики. Стою в рост. Садиться в эту позу обидно и унизительно.
– Сесть! – орет какой-то сержант. – Сесть, говорят, чего вылупился, длинный?!
Хочется плюнуть в эту морду. Продолжаю стоять.
– Сесть, сука, сейчас собаку спущу!..
– Спускай, чего орешь?
– A-ну, в сторону! – орет сержант и толкает с разбегу меня в плечо.
Отлетаю на несколько шагов.
– Этап, встать, пошли вперед к вагону! Смотреть под ноги! Не озираться! Оружие применяем без предупреждения!
Строй молча поднимается и бредет в сторону путей.
В этот момент на спину мне прыгает здоровенная собака и сбивает с ног. Падаю и инстинктивно собираюсь в клубок. Пес рычит, хрипит, очень больно вцепляется в плечо и волочет по земле, мотая мордой. С каждой секундой становится все страшнее и больнее. Хватает за ноги, бьет лапами и наконец начинает рвать и таскать волоком. Между дворовой-сторожевой собакой и конвойной при одних и тех же размерах есть большая разница. Первая – лает, пугает и кусает, как повелела природа. Вторая – обучена: рвет молча и знает, как загрызть. Оттого и страшнее.
Челюсти животины наконец хватают мой шиворот вместе с кожей и захлопываются с хрустом. Зверюга тащит меня по пыльной земле к воронку, и вдруг крик:
– Отставить! Убрать собаку! Вы что, твари ебаные, делаете?!
Проводник дергает псину изо всех сил за поводок и оттаскивает на себя.
Со стороны путей бежит какой-то офицер в форме вэ– вэшника. На ходу орет диким матом:
– Вы что, чурки ебаные?! Кто приказал?!
Конвойные молчат, начинают рассредоточиваться.
Подбегает ко мне:
– Вставайте, Александр. Извините, что так…
И в сторону сержанта:
– Вы что, твари? Это же Александр Новиков, певец… Кто приказал собаку?..
Тишина. Стволы опускаются вниз.
– Пошли к вагону.
Отряхиваюсь, иду. Офицер шагает за спиной, бормочет матом под нос. Несколько конвойных – сбоку. Собака – позади. Боли не чувствую, как в лихорадке.
Клетка, в которой предстоит ехать, переполнена. Размер ее – обычное купе. Только вместо двери – решетка, а вместо четырех пассажиров– шестнадцать, не считая меня. Ехать всего полдня, потому не смертельно. Предстоящее путешествие– одно длинное интервью и знакомство артиста с истинными поклонниками. Между делом – общение с прогуливающимся по коридору узкоглазым конвоиром и его собакой. Правда, уже другой.
– Начальник, своди на оправку, – долетает голос из соседней клетки.
– Оправка дома делять будишь, – откусывается тот, не оглядываясь:
– Начальник, пить охота!
Конвоир несет чайник, просовывает через решетку. Подставляем по очереди кружки. На всех выходит по несколько глотков. В вагоне жара. Хочется пить и пить.
– Начальник, давай еще.
– Сам давай. У мене один место щекатливая.
– Так давай пощекочем. А-га-га!..
– Адын хахатал, его виебли, он перестал! – огрызается солдат и уходит в конец вагона.
– Начальник, а в туалет?..
– Не хуй било вода глатать. Три часа терпи.
Приходит начальник конвоя:
– Приготовились на шмон.
– Какой шмон, начальник? На тюрьме шмонали.
Начинают выводить по одному в пустую клетушку – последнюю в дальнем конце. Конвойные вытряхивают мешок, роются в вещах. Цель шмона понятна: отобрать что приглянется. Хоть и отбирать-то уже нечего. Я, как всегда, на процедуру – последний, и в скарбе моем копаются с особой тщательностью. Разбойничий интерес вызывают две упаковки мыла, сигареты с фильтром вроссыпь, новые носки и носовые платки. Чего еще солдату надо?
– Мыля целим куском не положена. Будем резать папалям. Сигареты тоже папалям.
Конвойные откладывают в сторону мыло, выгребают из мешка половину сигарет и какое-то тряпье, кажется, свитер.
– Это на дембель наш земляк пойдет, давай падгани и тогда тут адын паедешь.
В разгар дележа появляется начальник конвоя. Понимает, что изъятие незаконное, по «Столыпину» может подняться шум. Во избежание оставляет в клетке меня одного. Торговаться и взывать к совести бесполезно.
– Новиков, не жадничай, тебе еще сидеть долго.
Аргумент убедительный. Считаю обмен состоявшимся.
По вагону перекрикиваются. Где-то в начале – такое же
«купе» с девками, потому остроты в оба конца – в голос и под общий хохот. Тема одна: варианты единения полов в различных формах при полной невозможности такового в данных условиях. Пошлятина жуткая. Но здесь и сейчас – смешно.
Из «козлодерки» начальника конвоя потянуло тройным одеколоном и моими сигаретами. Несколько раз он проходит по вагону, с каждым разом все шатче. Каждый раз останавливается напротив и заговаривает. Наконец, изрядно поднабравшись то ли водки, то ли одеколона, прислонив лоб к решетке, шипит:
– Новиков, бабки есть?
– Чего?
– Червонец есть? Могу бухалово взять. Есть же бабки, я знаю, в тетрадке в обложку заклеены. На спор?
– Откуда бабки, начальник, твои вон даже мыло забрали.
– А ты че, блядь, пожалел? Тебе завтра в дачке еще пришлют, а мы тут месяцами катаемся, живем здесь. Нам еще хуевей, чем вам.
– Так не служи.
– Да не в этом дело. Ты известный, тебе с воли подгонят. Короче, бабки при себе есть? Или опять под шмон пустить? Ну, думай, думай. Я пойду пока. Но вернусь, понял?
Через час он вернулся. На решетку, вцепившись в нее руками, грудью плюхнулось невменяемое от водки существо в расстегнутом кителе, надетом поверх майки:
– Ты, бля, борзеешь, я смотрю, до хуя… Я, если захочу, знаешь, что могу здесь с любым сделать?..
Он висел на руках, упершись одной ногой в противоположную стену, и шмакодявил слюнявым ртом, тупо глядя перед собой:
– Я, между прочим, таких, как ты, до хуя видал. Как скажу, так и будет… Я тут командую, понял, бля?.. А не ты… Мне по хую, что ты известный… Хочешь, я тоже известным стану?
Он навалился плечом на решетку и стал расстегивать кобуру.
В этот момент я, наверное, в первый раз в жизни понял, что такое – «некуда деться».
Он вытащил пистолет, поставил ствол на решетку напротив моего лба й процедил:
– Вот застрелю тебя и тоже известным стану… Ссышь, бля?..
Я молча смотрел в ствол. Вагон качало. Палец он держал на крючке. И было только три надежды: что патрон не в патроннике, что пистолет на предохранителе, а третья – на Господа Бога.
Не было страха. Не было паники. На душе сделалось холодно и по-сиротски одиноко. Он с минуту молча переводил ствол с моего левого глаза на правый, тупо и зло глядя мне в переносицу. Сколько тянулась эта минута? Сейчас трудно вспомнить. Наконец он опустил пистолет и стал пихать его обратно в кобуру:
– Ладно… живи, бля. Я по беспределу не работаю… Я не чурка…
Отвалился от решетки, шарахнулся о соседнее окно и, качаясь, потащился к себе. Ни до конца пути, ни на выгрузке я его больше не видел. Но всю дорогу не мог оторвать глаз от пустой решетки.
Камышловский перрон встретил теплее. Не успел выпрыгнуть из вагона, четверо людей в форме подхватили на лету: двое – за пояс, двое – под мышки и понесли скорым шагом в ближайший «воронок». От земли отталкиваться ногами почти не пришлось.
Тащат, приговаривают. Забрасывают с размаху. Занимаю место в «стакане» – основная конура уже забита до отказа.
Тронулись. В кабине конвой включает магнитофон. Врывается «Помнишь, девочка…» Будто она вовсе не в тюрьме. Так и есть – она свободна, и это главное. Дальше еще что-то из «Извозчика», а потому ехать легче, ехать веселей. Даже в тюрьму.
На шмоне обслуга рассматривает как редкого заморского гостя.
На ночь определяют в сырую, холодную камеру, с потолком в виде церковного свода и сваренными из ржавой листовой стали нарами. Осматривать обитель никто не мешает – сижу один.
Стены больше метра толщиной, створ окна с четырьмя рядами решеток. Похож больше на лаз. Камера врыта в землю, решетки стоят на уровне глаз. Некоторые, видно, древние, кованные кузнецами вручную. Снаружи – зонт, так что ни неба, ни двора не видно. Вместо пола – огромный плоский камень, размером с половину камеры. Лежит наверняка со дня основания тюрьмы – двести с лишним лет. Лучшее средство от подкопа и соблазна на побег. Через этот каменный мешок кто только не прошел: и декабристы, и народовольцы, и даже зачинщики картофельных бунтов. Топтались по этому самому валуну. С теми же мыслями и тюремной тоской. Просовываю руку сквозь первую решетку, сжимаю в ладони вторую, кованую. Эта тоже со дня основания. Эту тоже, поди, испытывали на прочность декабристы, и тоже безуспешно. Много всякого народа побывало. Кирпичной кладке тоже лет двести. Сама камера похожа больше на пыточную, но другой не будет, и надо как-то спать. Сворачиваюсь на ржавой ледяной железяке и, стуча зубами, засыпаю.
Утро мудренее. Шлюмка жидкой овсянки, черпак рыжего теплого пойла в эту же посуду, полбуханки хлеба, и жизнь на новом месте началась.
Ведут в каптерку, сдавать вещи. Здесь уже полно народу, кое-кто со вчерашнего этапа.
Встречает, распределяет и командует прибывшими немолодой мужчина по кличке Пират – заместитель начальника по режиму, с удивительно тупым выражением лица. Изымать, отбирать, стричь налысо ему доставляет особое удовольствие. Говорит протяжно, то юродствуя, то хихикая, то переходя на крик. Вспоминаю опущенного с такой же кличкой из камеры 505, и на душе немного легче.
– Ну что, Новиков, стричься будем добровольно или через карцер?.. Гы-гы-гы…
– У меня скоро суд, лучше не надо.
– Не-е, здесь всем положено. Вдруг вы вшей мне сюда завезли. Мне чужих не надо, своих хватает. Или еще хуже – мандавошек, гы-гы-гы…
Народ тихо ржет и тихо ропщет.
– Гражданин начальник, может, стричь только, кто заехал надолго? А кто проездом, может, так проканает?
– В натуре, начальник, этапом дальше идем, хуля на пересылке стричь? Нигде же не стригли.
– А у меня, ебтыть, свои законы: всех – под ноль!
Через полчаса наблюдений видно, что это мелкий тюремный садист. К тому же еще и полный идиот. Особенно сладострастно употребляет эти качества, шмоная мои пожитки.
– Сигареты в целом виде не положены, – запускает лапу в мешок, гадливо ухмыляется, выгребает горстьми и давит в крошево, – вдруг там малявы, а?..
Вытаскивает тапки, выдирает стельки, отрывает до половины подошвы:
– А это тоже надо проверить… Вдруг там ступинаторы? Вдруг ты меня пырнуть задумал, гы-гы…
Пытаюсь вступиться за бедные свои шмотки. И зря – Пиратова морда наливается кровью, и он орет:
– Что-о?! Указывать будешь?! Сейчас пять суток выпишу.
Поворачивается к дежурному и, уже работая на публику:
– Новикова на стрижку! Остальные – в баню и не стригутся!
Ловлю сочувственные взгляды, собираю лохмотья. Через полчаса «обнуленный», с матрасовкой через плечо, шагаю в сопровождении коридорного в камеру № 10.
Вхожу. Конура на восемь мест. Проживают шестеро, два шконаря свободны. Народец сидит за столом, рубится в домино. Располагаюсь на первом ярусе. Играть прекращают, начинаем знакомиться. Состав без особого родового благородства: пара мелких воришек, бомж-потрошитель, мошенник, расхититель, кухонный боксер и дезертир. Даже обидно: ни одного убийцы, разбойника или, на худой конец, грабителя.
Один из «воровского» угла, по фамилии Заец, – почему– то с ударением на последний слог, – ботает не переставая. Смесь русской фени и украинской мовы дает неповторимый речевой эффект. «Незамовляемо» – как сказали бы в Украине.
Обитателям камеры он, видно, уже изрядно надоел. Или все, что знал, рассказал. Поэтому мой приход его оживил несказанно.
– Ну все, Александр, теперь к тебе с рассказами – нашел свободные уши. Ты-то первый день, а нам по новой эту херь слушать, – ворчит с верхнего шконаря бомж.
– Та ладно… Шо тоби у канализации много лапши по– навешалы? Кто на небо через люк дывився, тому зараз нормального чаловика слухать не в лом!.. – беззлобно парирует Заец.
После первого дня пребывания понятно, что тюрьма здешняя со свердловской сильно рознятся. Еда скудная – казалось, куда уж скуднее. Ай нет – может. Камерки маленькие, переполненных нет, а потому тихо и невесело. Никаких тебе сюрпризов и приключений. Ни драк, ни спецназа с дубинвалами, ни шмонов, ни камерных театров. В общем, по тюремным меркам – никакого удовольствия.
К вечеру все оживает. С темнотой начинают перекрикиваться. Здание представляет собой квадрат с решетками камер внутрь двора. Голоса летают от стены к стене, любой слышно отчетливо. Перекрикиваются подельники, земляки. «Дамы» с «кавалерами» перетявкиваются порнографическими остротами. Традиционно какой-нибудь дурачок из первоходов: «Тюрьма, тюрьма, дай кликуху!» Традиционно тюрьма предлагает: «козел!., петух!., дырявый!..» Ну, может быть, для разнообразия– «дунька… зинка… матильда».
И здесь в самый разгар вечернего гвалта врубают в качестве глушилок громкоговорители под крышей, по углам. Как издевку ли или чтоб сделать мне приятное – заводят «Извозчика». И так далее – весь альбом. Перекрик стихает. Музыка на полуслове обрывается.
– Давай дальше, начальник!..
– Врубай, в натуре, чего остановил!..
Начинается ор, стук по решеткам. Тюрьма злится.
Гнусавый голос в громкоговоритель:
– Отбой… Отбой…
Стуки и крики сильнее.
– Какой отбой, начальник!.. Не жлобись!
Постепенно все стихает. И уже в почти тишине чей-то крик:
– Тюрьма! Новиков, певец, в какой хате?
– В десятой! – отвечает соседняя с нами камера.
Ну вот, теперь как дома.
На следующий день ведут на беседу к начальнику изолятора. Майор Поляков – очень добродушный, вежливый и благообразный. Расспрашивает о деле, о семье и детях. Очень отличается от своих свердловских коллег. Дает какие-то бытовые советы, рассказывает что-то из истории самой «Камышловской пересылки». Обещает, в случае если жена привезет передачу весом более положенных пяти килограммов, возражать не станет и урезать не даст. Слово свое полностью сдержал. За все лето моего пребывания в этих стенах я получал их вдвое большего веса. К всеобщему ликованию сокамерных обитателей, часть которых копченую колбасу впервые попробовали только здесь.
В разговоре вспоминаю про Пирата:
– Это же настоящий идиот, взял – налысо остриг, изломал сигареты…
Поляков, улыбаясь, морщится. Пытается свести инцидент к общим для всех правилам. Получается это у него плохо, что, кажется, он и сам понимает:
– Ладно. Больше никто до тебя докапываться не будет. Ты только повода не давай.
Вероятно, у него с Пиратом разговор был или сделал замечание – Поляков и здесь свое слово сдержал. Только, вот Пират озлобился пуще прежнего.
Каждый четверг по дороге в баню он встречал нашу камеру особым матом и «вшивыми лекциями». Особенно любил держать подолгу в предбаннике и урезать пайку мыла вдвое, приговаривая:
– Кто, блядь, на два делить умеет, тот на два и помножит. А кто, блядь, самый умный здесь, тому с волосами не хуя в бане делать.
Мысли его были глубокими, но понимали мы его легко.
Медленно проползла неделя. Через тюремную почту и молву узнаю, что Богдашова увезли в Нижний Тагил, а Собинова оставили в Свердловске, и теперь нас будут держать по разным тюрьмам. Значит, что-то происходит. На носу Игры доброй воли, студенчество протестует, может быть, поэтому. А может, фабриковать дело оказалось не так-то просто и оно зашло в тупик. Но скорее всего, чтоб прекратить наше общение.
С такими мыслями валяюсь целыми днями на шконаре. По ночам иногда пытаюсь писать стихи. Кое-что получается.
В один из вечеров сразу после баланды в камеру вталкивают парня лет двадцати. Бледный, нервный, бормочет что-то невнятное. Садится прямо на пороге, спиной прислонившись к двери.
– Эй, ты опущенный, что ли? – спрашивает кто-то с верхнего шконаря. – Ты что, оглох? Или охуел, чего молчишь?!
Парень не обращает внимания, сидит, тупо глядя перед собой. Народ спускается к столу. Тип любопытный.
– Эй, ты гонишь, что ли? Как зовут? Откуда, за что?
Тип молчит, ложится на бок, стреляя ногами.
– Э-э, да это, по ходу, наркоман, – делает заключение Заец, – нажабився, падла.
– Эй, начальник! – бьет в дверь кто-то из недовольных, – убирай наркомана, у него ломки, он тут крякнет, а нам потом отвечать!
Голос из-за двери:
– Не крякнет. Он, сука, нам все мозги уже выеб. Такого нам менты привезли. Колес просит. До утра пусть сидит. Если что, пизды дайте, а утром врач придет – заберет.
Через час начинается невообразимое. Парень хрипит, бьется головой о дверь. Лицо, лоб в крови. И орет дико и истошно:
– Откро-о-ой!.. Начальник… подыха-а-ю! А-а-а-а!..
Так проходит еще час. Скрутить его трудно – рвется, кусается. Глаза стеклянные, безумные.
Полкамеры колотит в дверь изо всех сил.
– Начальник! Убирай его или зови прокурора! Вы что над человеком издеваетесь, его к врачу надо, а не в хату!
Коридор отвечает молчанием.
Все до утра в роли санитаров психушки. Бедолага корчится в ломках под дверью и, не переставая, стонет.
За восемь часов в качестве наглядного пособия этот парняга сделал для борьбы с наркоманией больше, чем любая телеагитация.
К утру его с искусанными в кровь губами и разбитой головой наконец выволакивают на коридор и тащат в мед– часть. Камера облегченно вздыхает.
– Я согласен, чтоб еще двух Зайцев посадили, пусть сутками пиздят, чем одного такого, – подводит итог один из нелюбителей украинского диалекта.
– А я согласен, шобы вместо твоего языка зараз долгий хуй вырос, шоб молча изо рта стояв.
Все ржут, эти двое тоже.
Хлопает кормушка, и рожа баландера возвещает о наступлении нового дня:
– Пайку разбираем.
Так, в темпе тихой растительной жизни, проходит лето. Без допросов, без угроз, по тюремному распорядку и инструкциям. Дело не закончено, а потому затянувшаяся пауза роит в голове тревожные мысли. Рано или поздно предстоит этап в Свердловск. Процедура, судя по прошлой, не из приятных, но никуда не деться. Неясно одно – когда? За забором – август. На душе – ноябрь.
Впереди – неизвестно, сколько их. Наконец вызывает Поляков.
– На тебя пришла разнарядка.
– Это что?
– Приказано этапировать обратно. Скорее всего, завтра.
Еще немного посидели, поговорили. Он – не помню, о чем. Я – о том, что все мне здесь понравилось. И если принять свердловскую тюрьму за дом родной, то здесь – выезд на лето в санаторий.
В камеру возвращаюсь с улыбкой:
– Все, мужики. Завтра – на этап.