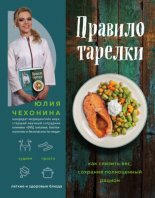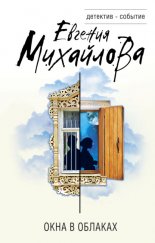Записки уголовного барда Новиков Александр

Петруха, помолчав, вздыхает:
– В общем, да. Хуля тут загадывать.
Перед сном зачеркиваю в настенном календаре последний квадратик октября – еще одна маленькая радость.
Ноябрь начинается с ежедневных допросов. Водят на «слежку» – специальный пост, занимающий целый этаж соседнего корпуса.
Длиннющий коридор с кучей комнат по обе стороны. Сюда приходят следователи, адвокаты и прокуроры. Вместо рьяного Онищенко неожиданно начинает приходить следователь по фамилии Глушанков. Этот интеллигентнее, спокойнее и, как кажется, без особого желания участвовать в фабрикации дела. Спрашиваю, куда делся тот. Отвечает:
– А я что, не нравлюсь?
– Нравитесь.
– Ну и чудесно.
– Что, прислали «доброго следователя»?
Усмехается, не отвечая.
С этим проще. Не грозит, не ловит на слове и не искажает показаний. Одна беда – допрашивает недолго, поэтому после недолгого допроса до обеда приходится сидеть в бетонном боксе-стакане, ждать, пока закончат со всеми и толпой поведут рассовывать по камерам. Но все равно, этот лучше, потому что с ним можно говорить не для протокола. Можно попросить коробку спичек или ручку – в тюрьме все дефицит. Если на обратном пути не будет шмона – в камере прибавка.
Через пару недель допросы неожиданно обрываются, Глушанков отчего-то не показывается.
Приближается декабрь. Санкция на арест выдана на два месяца, а значит, пятого декабря срок ее истекает. Если прокуратура не продлит – должны выпустить под расписку.
Вероятность нулевая, но надежда умирает последней.
Неожиданно к нам подселяют третьего – напуганного студента уральского Политеха, севшего за десяток квартирных краж. На тихаря не похож, но почему за такие мелочи на спецпост – непонятно. Кличку «Студент» даже и выдумывать не надо – просится сама собой.
Петруха преподает тонкости профессии «коневода-стрелка» и отправляет его жить на «верхотуру».
В камере новый человек, потому говорим меньше. Слушаем и дивимся воровской смекалке Студента. По идеям и задумкам вполне мог бы потянуть на «Профессора». Но исполнение задуманного – топорное, поэтому сидит здесь.
Вечером завариваем чифирьбак, пускаем по кругу.
Студент делает глоток, и лицо его перекашивается так, будто он проглотил ядовитую жабу.
– Привыкай, бродяга, тебе сидеть долго, – сочувствует Петруха, – к тюрьме отмычек не подберешь, хе-хе.
Проходит еще неделя. Прошусь на прием в санчасть. Пообщаться с доктором да таблеток раздобыть.
Опять ведет Валя.
– Что-то болеешь часто.
– Симулирую.
– Да это видно, идешь как на праздник.
– Это потому, что с тобой.
– Сейчас как дам ключами по башке!
– Ну, если дать больше нечего…
Незлобно бьет ключами по спине и прыскает в кулак:
– Все вы, мужики, в тюрьме одинаковые!
В кабинет врача зашагиваю с громким и бодрым: «Здравствуйте, я к вам опять!» На меня оборачивается через плечо совершенно незнакомый человек в белом халате.
– Фамилия?
– Новиков.
– Чем болен? На что жалуешься? Что-то на больного не похож.
Думаю о симптомах, вру про гастрит и бессонницу.
– Подследственный?
-Да.
– Лучшее средство от гастрита – карцер, а от бессонницы – явка с повинной.
Поход в медчасть явно не удался.
Обратно иду молча. Перед дверями ждет другая конвоирша с листком в руке.
– Пошли, следователь вызывает.
– Дайте хоть в камеру зайти.
– Не разговаривать. Руки – за спину.
Приводит в кабинет. Указывает пальцем в угол.
– Вон туда. И не вздумай курить, а то на шмон пойдешь.
Сижу на привинченном стуле, жду Глушанкова. Разглядываю щели в полу в плинтусах– может, малява где, спичка, бритва…
Взвизгивает дверь.
– Поди уж потеряли меня, Александр Васильевич?
На пороге стоит Онищенко.
– А где?..
– Думаю, больше с ним не увидитесь. А нам еще работать и работать. Санкцию продлили на полгода, поэтому времени – во-о…
В камеру иду со спокойствием и тоской уже приговоренного.
В первый день декабря – дикий мороз. Решетку спешно затыкаем тряпьем. На ночь укрываемся всем, чем можно. Мне в вещевой передаче присылают из дома пальто. Модное, финское, в котором, вероятно, полагают, я выйду под расписку. Хожу в нем день, другой, третий… Если санкцию продлили, должны принести ее с уведомлением под роспись. Если нет – выгнать.
Четвертое декабря, вечер. Никто не идет. Завтра тюрьма уже не имеет права меня держать. Неужели выпустят?
– Все, Санек, ничего у них нет. Завтра тебя нагонят, – ободряет Петруха.
Лежа на спине, прислушиваюсь к коридору. Тихо, ни звука. До утра не смыкаю глаз.
– На проверке выходи из камеры и говори, что санкция закончилась, не имеете права дальше держать. Вызывай прокурора! – горячится Петруха.
Подходит время проверки, хлопают двери. Смотрю в щель кормушки.
– ДПНК на коридоре.
– Значит, точно за тобой.
Входят трое. Петруха спрыгивает со шконаря.
– Гражданин начальник! У человека санкция кончилась, а его держат. Давайте прокурора!
– Дам пиздюлю, а не прокурора! Новиков, собирайся с вещами.
– За что, начальник? – радостно улыбается Петруха, – я же за то, чтоб все в натуре по закону…
Скидываю в мешок пожитки, сигареты. Надеваю пальто, шарф, белые кроссовки.
– Ну, ты в натуре прикинут как на волю!
Обнимаемся на прощание. Выхожу с грустной радостью.
– Куда меня, начальник?
– Пока – на шмон. А дальше – не знаю.
– Какой сегодня день?
– Тюремный.
Через пять минут я в уже знакомом боксе. Осматриваю стены. Таракана нет, воды в бачке нет. Да и хрен с ними, главное – санкции нет.
Шмон прохожу легко и бодро, как комиссию в военкомате. Думаю, куда повезут. К прокурору на продление? Но для этого я не нужен – все сделали бы без меня.
Выпускать под расписку? Если так, значит прямиком в управление.
Всех выгоняют из боксов в коридор. Стоим вдоль стены, упершись в нее лбами.
– Куда, мужики? – спрашиваю у соседей.
– А кто куда. В основном по судам.
Выкликивают по одному. Бегу к машине не оглядываясь.
Капитан с повязкой на руке кричит из-за моей спины начальнику конвоя:
– Новикова в отдельную посади! У него санкция кончилась, его первым завезешь!
– Понял.
– В стакан, быстро! – командует конвойный.
Забиваюсь в железную клетушку, мешок уминаю под
ноги. Двери больно бьют по коленям. Общий отсек набит до треска. Поехали.
По поворотам и остановкам на светофорах пытаюсь определить маршрут передвижения. Но из стакана не видно даже неба, поэтому путаюсь в направлении и молча жду конечной станции. Четверть часа «воронок» еще петляет по городу и наконец на полном ходу въезжает в гулкое замкнутое помещение.
– Где мы, начальник?
– Сейчас узнаешь.
Выпрыгиваю на бетонный уступ. В сопровождении конвойного иду внутрь. По коридору до конца, налево… Из-за решетки окна улыбается рожа дежурного:
– Что, опять к нам в ИВС? Чего не здороваешься?
– Со свиданьицем.
– Во, бля, как на тюрьме наблатовался.
После всех бумажных формальностей – шмон. Отбирают ремень, шнурки, спичечный коробок– спички только вроссыпь. Потрошат сигареты, и через пару минут я в ледяной, грязной и вонючей камере номер 6. Сокамерников нет, стекла за решеткой нет, батареи нет, а за окном мороз минус двадцать пять градусов. И выжить в такой камере возможности тоже нет.
Осклизлый пол, двухъярусные нары по обе стороны. В углу бачок с водой, увенчанный алюминиевой кружкой без ручки.
Чтобы не замерзнуть, начинаю ходить взад-вперед, застегнувшись на все пуговицы до горла. Шапки нет – втягиваю голову в поднятый воротник. Голова еще почти лысая, поэтому первой начинает замерзать она. Следом – ноги. Чтобы хоть немного согреться, курю, обнимая ладонями самокрутку: «Правду», «Известия» и прочую официальную макулатуру на шмонах не отбирают, поэтому польза от социалистических газет есть в этих самых самокрутках. Через пару часов начинают отмерзать уши. Повязываюсь шарфом через голову, как пленный француз в 1812 году. Пока еще смешно, и есть надежда, что на ночь переведут в другую камеру.
С каждым часом ходить все трудней – ноги начинает сводить. Внутри все дрожит, и курево уже не спасает. Во рту горько, хочется пить. Подставляю кружку под кран бачка – вода не течет. Открываю крышку – в бачке корка льда. Пробиваю, черпаю и боюсь пить. Да и как ее пить, если колотит от холода внутри и снаружи. Как влить в себя еще одну порцию нестерпимой ледяной дрожи?
Настает вечер. Приносят миску баланды, хлеб и шлю– мак кипятка. Надо выжить… Съедаю весь суп и хлеб. Надо выжить… Медленными глотками пью через край из миски горячую воду. Как, оказывается, это хорошо– горячая вода.
Снимаю пальто, стелю на эти жуткие нары, сворачиваюсь в комок и закатываюсь в него, как в кокон. Подбираю фалды так, чтоб не осталось ни одной щели. Дышу в колени, и кажется, внутри теплее.
Через час шлюмаки уносят, а с ними и надежду на перевод в другое место. Нужно прожить ночь.
Становится еще холоднее. Полчищами набрасываются клопы. Они голодные, замерзшие и тоже хотят жить. Начинает сводить судорогой ноги и нестерпимо болеть нутро. Нельзя ни раскрыться, ни вытянуться. Колотит, как в лихорадке. Понимаю: это – пресс по-настоящему, и никто уже больше не поможет.
Ночь проходит в полудреме, в полубреду. К утру ноги перестают слушаться и отказываются разгибаться. На проверку встаю, сползая с холодных нарных досок.
– Начальник, вы что, охуели?! Ты посмотри – вода в бачке застыла. Я что, в концлагере, что ли?
Дежурный не злобливый. Шарит по камере глазами и сочувственно обнадеживает:
– Потерпи, не сдыхай. Сейчас за тобой уже придут.
Потом – каша, черный хлеб и пайка кипятка. Кривая
разваливающаяся самокрутка, кое-как сляпанная посиневшими окостенелыми руками. Колобком – на первый ярус, в ракушку из пальто, и – ждать.
Наконец выволакивают из камеры и, подгоняя заплечными – «шустрей, шустрей…», выводят на улицу прямо на мороз. Люди в штатском ведут по двору в здание городской милиции. При чем здесь городская – непонятно. Идти сам могу с трудом, поэтому держат под локти. Входим внутрь. Вот оно, тепло! Голова кружится, под ложечкой сосет, и нестерпимо хочется есть. На четвертом этаже вталкивают в малюсенький кабинет.
– Принимайте. Доставили живого.
Захлопывают за спиной дверь, и я остаюсь один на один с вдвойне опротивевшим Онищенко. На столе термос, разложенные на бумажных листах бутерброды с колбасой и сыром, горка конфет и сигареты.
– Садись, поешь, попей чайку. Поговорить успеем.
– Пока санкцию не покажете, говорить не о чем. На каком основании я здесь?
– По телеграмме. В Генеральную прокуратуру отправили, ждем ответ.
– Это незаконно.
– В тюрьме держать – незаконно. А здесь – до десяти суток – законно. Если за это время не продлят – рад буду тебя выпустить.
– Там, где я сижу, больше трех не прожить. Вы специально издеваетесь?
– Это не мое ведомство. Ты кушай, кушай…
Эта мразь врала. Привезли меня сюда по его просьбе и указанию Ралдугина. Они прекрасно знали, что все, что они делают, – незаконно. Но силы, покровительствующие им, были огромны, и они не боялись. Допросы им тоже были не нужны. Но на случай какой-нибудь высокой прокурорской проверки им чем-то нужно было оправдать мое пребывание здесь. Потому Онищенко, разложив передо мной, голодным и полузамерзшим, колбасу и разлив по стаканам горячий сладкий чай, терпеливо ждал, заполняя анкетными данными бланк протокола допроса.
– Если ты есть не будешь, я тогда стол освобожу?
– Освобождайте.
– Хозяин – барин, – гадливо ухмыльнулся он.
Начинает в привычном русле. Вопросы те же: где?
когда? кому и за сколько продавал аппаратуру?
Тяну время – надо согреться. Онищенко злится и начинает грозить.
Время переваливает обеденное. Допрос можно давно окончить, но и он почему-то тянет время.
– Когда меня уведут обратно?
– Как обед закончится, так и поведут.
Вот оно что. Если до обеда меня не доставят, по распорядку опоздавшему его не полагается, и ждать придется только вечерней баланды. А значит, эту ночь прожить будет труднее вчерашней.
Но деваться некуда. Делаю вид, что мне безразлично. Отказываюсь от сигарет и кручу самокрутку.
– Не надо дымить здесь вонючей дрянью. Или кури, вот лежат сигареты, или выбрось это в ведро!
Выбрасываю в ведро.
– Может, пойдем уже?
– Раз тебе там больше нравится, не смею задерживать.
Обратно ведут те же люди, по тому же морозу, в ту же камеру. Но уже без надежды. От голода мутит, но горше всего от обиды. Привычно сворачиваюсь, зарываюсь в свое тряпье и, лежа на боку, жду вечера. Надо выжить.
Ни следующий день, ни еще два дня ничего нового не приносят. Онищенко больше не появляется. Сил остается все меньше. Внутренняя боль, судороги в ногах и кашель изводят, и держусь уже не знаю на чем. Живу уже не верой, не надеждой и даже не любовью. Держусь на одной злобе и желании дожить. Потому что здесь заканчивать нельзя.
Пять дней холодильного и зловонного ада проходят в зловещей тишине. Разрывает ее только собственный затяжной кашель.
На утреннюю проверку уже не встаю. Отвечаю, лежа на боку, сквозь пальто. Коридорные все понимают, а потому для них главное не – «встать», а – «живой».
И вдруг:
– Новиков, празднуй – на тюрьму сегодня едешь!
И вправду – праздную. Вылупляюсь из тряпья, отваливаюсь спиной к стене.
– Правда?..
– Правда, правда… Но я тебе ничего не говорил.
Грех вспоминать, но в тюрьму я ехал в тот день как на праздник.
В воронке совсем не одиноко и не жестко. А «Прима» – отличные сигареты. А начальник конвоя – совсем не злой, и собака его – умная и добрая. И лавка в бетонном боксе не узкая, и бачок в нем с водой свежей и не ржавой. А сама тюрьма – живая, теплая и не страшная.
– Ну что, опять к нам вернулся? Плохо на воле-то, ха– ха?.. Ну, со свиданьицем! – ржет знакомый дежурный, помечая что-то в моем личном деле.
Глава 18
Хата – 505
До вечера сижу взаперти, думаю только о бане. Все тело и руки от клоповых укусов покрыты сыпью и страшно зудят. С десяток еще засело под подкладом и приехало со мной. Вылезают по очереди. «С чувством глубокого удовлетворения» размазываю по полу.
Наконец ведут «на помывку». Получаю положенные по внутреннему распорядку, а может, и по Конституции – черт разберет, что здесь главнее, – матрасовку, одеяло, простыню и кружку, а также комплимент от тетки-парик– махерши:
– Ты прям как будто загорелый, с лица-то…
– Неделю кайфовал.
В предбаннике сыро, душно. Жду, когда поведут в камеру. Колочу в дверь:
– Начальник! Сколько можно тут сидеть?!
– Чего орешь? Сел в тюрьму – сиди!
Возразить нечего. Еще час ожидания, и наконец долгожданное – «Выходи!..»
Идем через весь подвал к лестнице. Дальше – наверх.
– Что-то не туда ведешь, начальник, мне на спецпост.
– Веду куда написано. В 505-ю.
– А это что?
– Общаковая хата. Сорок рыл на двадцать мест – чтоб не скучно было.
Камера на последнем, четвертом, этаже, в самом центре длинного коридора. Снуют коридорные, один из них быстрым шагом идет навстречу нам.
– Вот, Новиков к тебе, принимай, – хвастливым тоном говорит мой сопровождающий.
– Еб твою мать… – выпучивает глаза коридорный старшина. – А чего со спеца съехал?
– Скучно стало.
– Ничего, здесь весело.
В отворенную дверь камеры видно кое-как до середины, дальше – дымовая завеса.
Вхожу, бросаю на пол мешок с амуницией.
– Здорово, мужики.
В дальнем углу у стены кто-то нехотя поднимается с первого яруса.
– Откуда?
– Со спеца.
– Со спеца? Проходи сюда, к платформе.
Сажусь за стол. По одному присоединяются напротив еще трое. Поочередно мрачным тоном задают вопросы. Просто так с первого поста сюда не попадают, поэтому их интерес и подозрения понятны. Доходит до того, где жил, чем на воле занимался, за что сюда попал.
Отвечаю коротко: «За песни».
Тишина, и следом радостным тоном вопрос:
– Так ты – Новиков?
Дальше уже все по-другому.
Тот, что поднялся первым, – старший по камере – Серега.
– Будешь с нами, Санек, в старшей семейке.
С ним еще трое. Все на нижних шконарях возле окна. Над ними вторая семейка – шесть человек. Третья – самая большая, около двадцати. И ближе к двери, на полу возле параши – «петушатник». Здесь двое.
Мест на всех не хватает, поэтому верхние ярусы спят в две смены. Пока одни глядят тюремные сны, другие тусуются до утра взад-вперед «на терках». Утром сменяются и дрыхнут до обеда. Нижние этажи поблатней, их это не касается.
Народ в камере разношерстный – от убийц до грязных бомжей-вороваек. Тут же пара хозяйственников – «расхитителей социалистической собственности», дезертир, наркоман, насильник, спекулянт. Остальные– ворье, злостные хулиганы, разбойники и грабители.
Убийц трое. Двое из них сидят возле параши. Там же едят, пьют, спят и подают бумажку.
Первый – убил свою мать. Разумеется, по пьянке, разумеется, ничего не помнит. Мать– в тюрьме святое. Поэтому место ему определено вполне заслуженное.
Второй – за изнасилование и убийство малолетней. По приходу в камеру рассказывал сказки о каком-то разбое, в котором конечно же не участвовал, поэтому «менты шьют что ни попадя». Когда принесли обвинительное заключение, которое по традиции вслух читает вся камера, пытался выломиться в коридор. Бросился биться головой в дверь, но был отловлен, заткнут кляпом и подвергнут скорому и правому суду.
Жизнь этой пары похожа на ад. Пить полагается только из гальюна; выползать из-за шторки, ограждающей отхожее место, категорически запрещено. Курить – только окурки, брошенные в этот вонючий, обмоченный угол. Подниматься – не выше колен, на коленях же и ползти к кормушке за баландой. Вставать в рост – только на проверку. После нее – быстро нырком за штору.
Начальство давно ничему не удивляется, потому что в каждой камере такой братии завсегда найдется. Иногда в еще большем количестве.
Первый по кличке – Мухтар. Другой – Принцесса. Бьют обоих одинаково и по любому поводу. Индивидуальной дрессурой этой пары несчастных занимается дезертир– дисбатовец из второй семейки по фамилии Пиотровский, с явно выраженными режиссерскими способностями с садистским уклоном.
– Эй, крысы за шторой, а ну засветите хари!
Над веревкой показываются две физиономии, представляющие собой двухголовый синяк.
– Живы, твари, еще? Сейчас будем спектакль репетировать. Ну, суки, чему я вас учил? Давай начинай. Да с выражением, а то поубиваю!
Бьет каждому шваброй по голове, и «репетиция» начинается.
Первым читает пафосно, торжественно и громко свое обвинительное заключение Принцесса. Грязный, вонючий, замордованный, он уже мало походит на нормального. Особого пафоса сквозь выбитые зубы у него не выходит, поэтому Пиотровский бьет его после каждой оговорки щеткой по темени. После этого – развод. Принцесса – мыть гальюн, Мухтар – к двери, со шваброй на плече, в почетный караул. Стоять полагается не шевелясь и не моргая, несмотря на замахи и свист кулаков перед носом. За «моргалку» – тапком по лбу. За уклон – удар под дых. За присядку – затрещина по затылку. За «симуляцию и ко– силово» – пинками куда попало. После этого – «акклиматизация на скоряк» и строевой шаг в паре, в ногу и с песней под мотив «В траве сидел кузнечик». Текст сочинен Пиотровским самолично. Простой, незатейливый и, главное, легко запоминающийся.
Мы оба пидорасы, мы оба пидорасы,
Нам не нужны матрасы и шконка не нужна!
Представьте себе, представьте себе…
И так далее. Под общее ржание всей камеры.
– А ну, крысы, раз!., раз!., выше ногу, печатать шаг!.. Громче, веселей! Веселей, суки, а то сейчас все по новой!..
Перспектива начать все по новой не радует. Поэтому орут что есть мочи, печатают шаг, «изгоняя злого беса и каясь в натуре».
Жестоко, конечно, но отчасти справедливо.
Иногда, когда первой семейке это мешает, Пиотровского останавливают окриком:
– А ну, хорош! Затыкай свой крысиный театр.