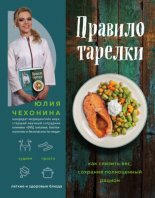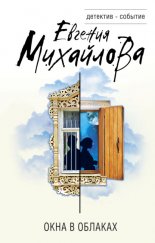Записки уголовного барда Новиков Александр

– Сигарет.
– Держи. Когда вернешься в камеру, я тебя найду.
В камеру влетает пачка «Космоса» и спичечный коробок. Дверца тихо захлопывается, и видение исчезает. Лихорадочно ищу объяснение: что это было? Очередная подстава? «Кумовка» или добрая фея?
В человеке все может врать – язык, одежда, прическа. Глаза – нет. Поэтому ей верю.
Приваливаюсь спиной к стене, закуриваю. Одна затяжка, другая, и – поплыл. Голова кружится как у пьяного. Встаю – падаю на стену. Никогда табак так не туманил мозги – вот что значит карцерный рацион. Ломаю сигареты, спички и прячу их в «шубе».
До освобождения– два часа. Доедаю хлеб и отмеряю шагами минуты. Прислушиваюсь к любому шороху. В конце коридора голоса и звон ключей. Сдергиваю с решетки тельник, одеваюсь по форме, жду. Судя по топоту, идут несколько человек. Распахивают настежь дверь, но только наружную, решетку не отпирают.
– Давай, начальник, выводи, время вышло.
– Какой вишла? На, распишись на новий постановлений…
– В каком?
– Десять суток еще.
– За что?!
– Читай, все написано. «За переговоры с соседними камерами».
– Я ни с кем не переговаривался.
– Да он еще и курит! – стоящий за спинами крысиного вида второй коридорный демонстративно выдыхает в камеру дым и забрасывает горящий окурок.
– Точно, курит, а-га-га! – гадко переглядывается меж собой охрана.
– Давай подпищи, а то еще за курений рапорт будет.
Расписываться отказываюсь.
– Тада собирайся на другой камера, – командует коридорный, и дверь захлопывается.
– Начальник, я лучше здесь отсижу! – кричу, упершись лбом в глазок.
В ответ – тишина.
В груди все разрывается от боли, обиды и бессилия. Сажусь на пол, обхватив голову коленями. Слезы капают в бетонную пыль.
Через пять минут обыскивают догола и ведут в другую – № 2. Жалко сигареты. Жалко покидать прежнюю – худо– бедно прижился.
– Эт не мой решений. Щто-то ты со следаком не наладил. А мине началство визвал, постановление на десять сутка давал, я тебе падписат принес. Ты отказаль.
– Поэтому в другую?
– Этот тоже началство приказал. Новый камера – хуже тот. Шестой камера – курорт бил!
По сравнению с новой прежняя действительно – курорт. Эта грязнее, вонючее и темнее. Но самое нехорошее – с большой решеткой, которую тельником не заткнешь. Значит, самое неприятное впереди. Еле высидел пять, а тут еще целых десять.
Мороз за окном не спадает. Затыкаю решетку всем нижним бельем. Его все равно не хватает. Холод рвется в щели, и изо рта идет пар.
Потянулись адские дни. С каждым днем все труднее вставать. В глазах темнеет, в голове шум. Утром, перед выходом на шмон, чтобы не упасть в коридоре, стою, прижавшись лбом к стене. Под самой решеткой она ледяная, и это помогает. Кости рук и ног все время ломит, и душит кашель. От круглосуточного холода нутро изводит боль. Потихоньку перестаю обращать внимание на клопов и прочую живность. Щетина на лице превращается в бороду. Руки и ноги чернеют от пыли. Грязный и обросший в этом смрадном бетонном коконе с каждым днем я все меньше похожу на человека.
Между тем скоро Новый год. По всему – проведу его в этих стенах. Одна радость – готовиться не надо – здесь на всем готовом. Утром спрашиваю начальника:
– На Новый год амнистии не бывает? Раньше могут выпустить?
– Если копита отбросишь, тот же день отсюда пай– дешь.
Ответ обнадеживающий.
Новогодняя ночь – как и все будничные. Карцер стоит на отшибе, поэтому тишина – звуки сюда не долетают.
Меж камерами ленивая перекличка.
– Начальник, когда 12 пробьет, крикни – хоть знать будем, что Новый год настал!..
– Начальник, подгони табачку в честь праздника!..
– Или заварочку!..
Из дежурки молчание.
– Начальник, амнистии уж не просим, так, по сигаретке на камеру раздай. Пачку всего, жалко, что ли?
Скрипит дверь дежурки, следом голос:
– На параша садись, кричи: тюрьма, тюрьма, дай сва– бода! Дай закурить, дай заварить! А-га-га!
И с грохотом захлопывается.
Боя курантов не будет. Запаха елки и апельсинов тоже.
– С Новым годом, братва!..
– В натуре, бля буду!..
Дежурный иногда в своей «козлодерке» громко говорит по телефону, и народ, видя, что тот занят, резко оживляется и начинает делиться новостями. Из них узнаю, что в камеру напротив поместили старого вора в законе по кличке Брильянт.
Пребывает он в таком же склепе, но на общем положении – с матрасом, одеялом и всем своим скарбом. По закону содержать его полагается в обычной камере, но ввиду «особой опасности и неблагоприятнго влияния на окружающих» держать будут здесь. Переговаривается он мало. Лишь коротко отвечает на приветствия и вопросы о состоянии здоровья.
– Эти суки-коммунисты держат меня в трюме, чтобы уморить. Эй, начальник, дай-ка кипяточку.
В ответ – тишина.
– Начальник, ты что там, в натуре, в уши долбишься? Кипятку дай!
– Щто стучишь? Два раз уже давал, лепнешь!
– Не лопну. А ты, если уже два раза давал, может, и мне подвернешь, хе-хе?
– Не блятуй давай, Брилянт, а то нулевка пасажу, – лениво врет коридорный и идет, гремя огромным железным чайником.
Через дверь слышны обрывки фраз их разговора.
– Слышь, начальник, Новиков, певец, в какой хате сидит?
– Не знаю. Гаварить не могу.
– Я здесь, напротив, – кричу я в щель кормушки, – здорово, Брильянт!
– Давай много не пиздите, – ворчит коридорный и уходит прочь.
– Здорово. Тебя за что сюда?
– Врач одна рапорт накатала, будто колес просил. Дали пять, потом десять добавили.
– Вот кумовка… А ты что, в несознанке?
-Да.
– Тогда понятно. Они, местные кумовья, со следствием так и работают. Несознанщиков – под пресс. Я вот тоже сижу здесь, жду этапа. Везут куда-то на восток, а куда – хуй знает. Приболел чутка, здоровье-то, сам понимаешь…
Так несколько дней переговариваемся от скуки. Потом его куда-то уводят с вещами, и сюда он больше не возвращается.
На пятнадцатые сутки пребывания чувства притупляются, и все тело – сплошная боль. Сквозь шум в голове слышу:
– Выходи.
Пытаюсь встать, ноги не слушаются. Ползу вверх по стене, царапая лоб. Вываливаюсь, держась за косяки.
Идти предстоит через двор. Коридорный подгоняет в спину.
– Давай, давай, шевели капитом…
Выходим на улицу. 1лаза режет нестерпимо яркий свет. После камерного полумрака солнце бьет по глазам, как ядерная вспышка. Ничего не успев разглядеть, слепну. Стою как вкопанный– куда идти? Все вокруг черно. Закрываю лицо ладонями, гляжу сквозь щелки. Из темноты потихоньку выплывают снег, стены и тропинка.
– Куда идти, начальник?
– В баня, потом в хата.
По дороге в камеру случается – по тюремным меркам – чудо: навстречу по коридору ведут Богдашова. Проходит мимо с безразличным лицом, не признав. Оборачиваюсь, кричу вслед:
– Серега!.. Куда ведут?
Его глаза оквадрачиваются.
– Еб твою ма-ать… – единственное, что может вымолвить он, узнав меня по голосу.
Его пихают в спину, не дают остановиться.
– Меня, наверное, на этап отправят. В Тагил или в Камышлов! – кричит он, удаляясь, не поворачивая головы.
– А я пятнашку сидел в трюме!
– Я знаю!
Его голос тонет в гулком коридоре.
В бане любезно дают поглядеться в зеркало. Из него красными глазами зыркает грязное бородатое чудище. Худющее, с впалыми щеками, покрытыми сыпью укусов.
– Красив до охуения! Вперед.
Возвращаюсь в свою 505-ю, как в родимый дом. В тюрьме закон: вернувшемуся из карцера– все лучшее на стол. Намазываю пряник маргарином. Эх, как я ел эти пряники!
Вечером половинкой тупущей бритвы «Нева», замотанной меж двух щепок, брею бороду. Вырвать ее – было бы не так больно. Жизнь наладилась.
Глава 20
Кум с ножиком
Очередной карцер получаю за «установление связи с подельниками». Причина – чистая формальность. На самом деле – за выломившегося Вову-второхода. В подобных случаях главных участников сажают в трюм, после этого разбрасывают по разным камерам. Пять суток – это не много и не страшно, если идешь в первый раз – еще не знаешь, что это, потому есть дух романтики. Отсидев разок, понимаешь, на что идешь, оттого на душе невесело. Опять та же камерка № 2. Вши, клопы и комары уже в новом поколении. Прежние – только надзиратели.
Вечером в коридоре беготня и шум. Кто-то «крякнул» в нулевке. Судя по звукам, труп багром тащат за ворот по коридору.
– Суки беспредельные!
– Козлы!.. В хату вернемся – прокурору напишем!
Весь пост бьет по дверям кулаками. Стоит грохот –
последний тюремный салют. Вместе со всеми что-то ору. Голос мой больше всех узнаваемый, поэтому через несколько минут в кормушку гнусавит коридорный:
– Давай, давай, пвець, ари! Скоро тебе так по коридору потащат. Один раз – два раз, и тоже на актировка пайдешь!
Делю все имеющиеся в организме силы на пять и вживаюсь в уже знакомый режим. На третий день врываются двое.
– На коридор! Руки за спину.
– Куда, начальник?
– В оперчасть. Кум вызывает.
– Что, в таком виде пойдем? Переодеться можно?
– Зачем переодеться? Сюда же и вернешься.
Предчувствия нехорошие. Почему к старшему оперу?
За прошлый шум? Тогда почему сегодня? Если хотят добавить, выводить совсем не обязательно.
Шагаю в этом рубище через всю тюрьму в главный корпус. Вид концлагерный, даже идти стыдно.
– Стой здесь! Лицом к стене.
Упираюсь носом в косяк двери. Сопровождающий приоткрывает ее и докладывает:
– Товарищ майор, подследственный Новиков по вашему приказанию доставлен.
– Заводи. Сам – свободен.
Вхожу, с порога здороваюсь.
– Вон туда, – тычет пальцем в угол майор.
В углу маленькая табуретка. Сажусь, разглядываю чуни, грязные ноги, торчащие из укороченных шкер, и грязь под ногтями.
– Куришь?
– Там нечего.
– Ну-ну, нечего. А прошлый раз десять суток за что?
Объяснять и доказывать нет желания. Исподлобья разглядываю кабинет и его хозяина. Из-за большого, высокого стола глядит неприветливый человек в форме. Моя табуретка мала и низка, отчего стол майора кажется еще выше. А сам он, со сверлящим взглядом, еще страшнее.
Долго молча смотрит на меня и наконец начинает:
– Моя фамилия Маленкович. Сиди там, еб твою мать, и не думай, что я пригласил тебя чайку попить или табачком побаловаться.
– Я и не думаю.
– Не догадываешься, зачем тебя из подвала достали?
– Нет.
– Сейчас узнаешь. И на всю жизнь запомнишь, – переходит он на повышенные тона. – Ты что, сука, не знаешь где сидишь? Живешь, как хочешь? Ты в тюрьме, блядь, находишься, понял, в тюрьме!
– Я не спорю. Вы объясните, в чем дело?
– У меня тут не такие, как ты, на корячках ползали. И ты, если надо, поползешь.
Звонит телефон, Маленкович хватает трубку.
– Да!.. Говори короче…
Голос в трубке сбивчиво докладывает что-то. Майор слушает, изредка повторяя:
– Так, бля… Дальше, бля… Охуеть, бля…
Лицо его с каждой фразой мрачнеет и наливается кровью. Не отрывая трубку от уха, он из бокового ящикастола вытаскивает огромный охотничий нож.
– Что, говоришь, на лбу выколото? «Раб КПСС»? Так вот, слушай меня внимательно и делай, что я сказал! – орет он в трубку. – Возьмите его, сука, привяжите к лавке и вырежьте ножом вместе с рогами! Если ножа нет – зайдите, я дам. Или чинариками выжгите, мне по хую! Но чтоб через час этой портачки не было! Все.
Маленкович откидывается в кресло и, постукивая лезвием по краю стола, поясняет мне:
– Еще один умник нашелся, законы свои устанавливать решил. Полосатик уже, а ума нет ни хуя! Выколол на лбу – «раб КПСС». У меня такое не канает. Сейчас вырежут, и – на этап.
Снова звонит телефон.
– Да… Я же сказал: вырезать и в карцер! А лучше башку замотать и на этап.
Человек на другом конце провода продолжает что-то кричать в трубку.
– Никакой больницы, я сказал! Пусть пишет прокурору, дайте ему бумагу и ручку. Жалобу потом ко мне. Я здесь и врач, и прокурор! Писатель, бля, нашелся…
Орет он, рисуясь передо мной и «нагоняя жути».
– Так, на чем остановились?
– Я и не понял.
– Сейчас поймешь. Это твое?
Он выкидывает вперед руку со сложенным меж пальцами письмом. Теперь понятно.
– Не знаешь, что переписка запрещена?
– Знаю. Но в нем ничего по делу нет. Просто письмо домой.
– Но отправил-то нелегально.
– Да. Отправил, чтоб дома меньше волновались.
– Ах вот как! А ты знаешь, сколько мне из-за него поволноваться пришлось, а? Оно где-то на этапе спалилось, попало в управление, а мне за это пизды получать!
– Вам-то за что?
– А за то, будто здесь оперчасть ни хуя не работает! Поэтому всякие Новиковы сидят и катают письма направо и налево. Хотя должны находиться под особым контролем! А Маленкович из-за них получает выговоров пачку и пиз– дюлей тачку!
Опять звонок. Хозяин кабинета слушает и на этот раз расплывается в улыбке.
– А у меня сейчас как раз один певец сидит… Не-е, хе– хе, у меня по-другому поют. Зайди, глянь.
Входит какой-то офицерик. Разглядывает как в зоопарке.
– Что натворил?
– Письма пишет домой.
– На жизнь жалуется? Или на нас?
– Да на нас кому отсюда пожалуешься, только Господу Богу, хе-хе.
– А чего в таком тряпье привели, не переодели?
– А хули ему переодеваться лишний раз – сейчас суток десять добавим и – обратно.
Офицерик, хихикая, уходит. Терпение лопается.
– Вы если хотите дать еще десять, так дайте и уведите. А не издевайтесь.
– Что, бля?.. Ты еще диктовать будешь? Сиди и слушай, что я тебе сейчас говорить буду!
Деваться некуда – мотаю на ус долгую матерную проповедь. Вспоминаю, через кого посылал. Писем было три. Все написаны разной пастой. Все отправлены по разным каналам. Чтобы понять, через какой спалилось, нужно увидеть цвет. Маленкович – опер опытный, читать вряд ли даст. Но – была не была.
– Вы меня наказывать собрались, а письма так и не показали.
Встаю с табуретки, делаю движение к столу.
– Сидеть! Сидеть на месте!
Он расправляет в руках конверт и вытягивает перед собой.
– Почерк узнаешь? Адрес узнаешь?
Вот теперь узнал. Написано и подписано зеленой пастой. Это отправляли вместе с Андрюхиным посланием через Вову-второхода. Теперь все ясно.
Этого самого Вову, угрюмого вида детину, забросили в нашу камеру с месяц назад. По всем признакам сидеть вместе с нами он не должен: вторая ходка, пребывание старшим по камере на посту у малолеток. Такое в то время бывало – второходов с «мутной биографией» иногда подсаживали в камеру к малолетним «смотреть за порядком». Кроме всего он уже осужденный.
Решаем основательно выяснить все подробности его пребывания. Андрюха задает вопросы, делает вид, что верит ответам. Из рассказа выходит, что посадили его к нам потому, что менты откуда-то узнали о первой ходке и «новой делюге».-. Поэтому сделали запрос, и пока документы ходят, он будет сидеть здесь. Но если нароют и все подтвердится – переведут к второходам в осужденку. А что часто вызывают к адвокату – так «делюга серьезная, но есть маза уйти под чистую». Сама собой вырисовывается кличка – «Вова-второход».
Через неделю подозрения немного утихают. Сидит себе, никуда не лезет. От адвоката приходит с чаем, с сигаретами. Неохотно, но делится. Кто-то из сокамерников просит отправить через его адвоката маляву домой. Кто-то – письмо. Малява доходит. Письмо тоже. По содержанию и в том и в другом – порожняки. Первый раз отправляют для проверки. К примеру, прислать в очередной передаче носовой платок с такими-то инициалами. Платок присылают. Потом кто-то отправляет еще. Кажется, дорога налажена.
Наконец один решается на серьезное послание. Его подельник в бегах, и от того, возьмут его или нет, зависит срок и статья. А кроме всего, просит прислать в «дачке» махорки напополам со «шмалью». Условный знак: если подельник в бегах – еще и общую тетрадь с зеленой обложкой. Если взяли – с красной. Вова-второход уносит его с собой на визит к адвокату. Скрученное в плотную трубочку, величиной с сигаретный фильтр, послание, заплав– ленное в полиэтилен. Запихивает глубоко под язык: если что – проглочу.
Через день автора послания выдергивают вместе с матрасом и уводят в другой корпус.
Дальше начинаются и вовсе странные вещи. Первая – вышманывают «ступень». Его прятали в трубе нарной стойки. Опускали на нитке, а конец ее крепили хлебным мякишем на глубину пальца. Ступень передавался из поколения в поколение. И вот, когда вся камера была на прогулке, прошел шмон и его нашли. У кого-то – заклеенные в обложку деньги. Разодранная тетрадь так и осталась валяться посреди камеры.
– Кто-то цинкует, – процедил мне в плечо Андрюха.
В камере поселился дух подозрения.
, Однажды утром отворяется дверь и на пороге возникает та самая Вера, что прорвалась в карцерное здание и бросила мне сигареты со спичками.
– Новиков, в медсанчасть.
Вскакиваю, на ходу продирая глаза. Камера удивленно затихает: какая еще медсанчасть? Никто никуда не просился.
Одеваюсь как в лихорадке и выхожу на коридор.
– Иди вперед до поворота, не оглядывайся.
Сворачиваем, оказываемся перед входом на лестницу.
Это место не просматривается. Если кто-то пойдет по ней – услышим шаги.
– Слушай меня быстро, у нас всего две минуты. Я не подосланная, верь мне, пожалуйста. Я не имею права никого выводить к врачу. Узнают – выгонят. Если надо письмо передать домой – подготовь, я завтра опять прийду. А сейчас пошли обратно. Скажешь, вызвали по ошибке.
Назавтра она пришла, как и обещала. Передаю маляву домой – была не была.
Жду Веру с ответом. Наконец свершается. Она появляется утром, улыбается в дверях.
– Новиков, в оперчасть.
На лестничном закутке передает мне письмо из дома и два червонца.
– Я была у вас дома. Там все в порядке. Вот, передали…
– Спасибо, Верочка.
– Давай повожу тебя по этажам, а то подозрительно будет, что опять так быстро вернулся.
Несколько раз проходим по корпусу и лестницам взад– вперед. Пока идем – переговариваемся. Вера тихо рассказывает мне в спину все новости из дома – они сейчас так нужны. А кроме этого узнаю самое главное – что происходит по делу. Кого вызывали, кого арестовали, что изъяли и чего ждать здесь в ближайшее время.
В камеру возвращаюсь в эйфорическом состоянии. Лежа на шконаре лицом к стене, украдкой читаю письмо из дома. Написано осторожно, на случай «палева». Но все равно тепло. Вот он в руках – кусочек дома, проделавший такой длинный и трудный путь. Слова, имеющие цвет, запах и голос.
Делюсь радостью с Андрюхой. Камера все понимает, но молчит. О таких вещах вслух не болтают.
По ночам готовлю ответ микроскопическим почерком. Жду Веру. Она приходит, и все остальное – как обычно.
– Я сегодня в последний раз. Кажется, меня сдали. Или из вашей камеры, или кто-то из коридорных. Такое чувство, что следят.
Быстро передаю трубочку-послание. Она прячет его глубоко за корсет. Делаем дежурный круг по коридорам и – обратно в «хату». Спасибо тебе, Вера, – эти два письма решили очень многое. А кое-кого и спасли от тюряги.
Больше она не появилась. Моя огромная нечаянная радость и огромная потеря.
По этому поводу решаем виду не показывать, но пасти Вову-второхода основательно.
Посылаем «конем» малявы о нашем «мутном пассажире» на другие корпуса. Из ответов складывается картина: половина его тюремной биографии – ложь.
Готовим предъяву. Вова это замечает или чувствует. Начинает вести себя злобно и агрессивно.
Вторая семейка, в которой жил не дождавшийся ни зеленой. ни красной тетради, шепчется в углу. Нас с Андрюхой посвящают в план: завтра на прогулке будет «предъява и массаж почек». Изъявляем желание составить компанию. Андрюха злится и уже еле сдерживается. «Второход» после обеда неожиданно начинает страдать сердечным приступом и срочно просится к врачу. Приходит, охая и сгибаясь. Падает на шконарь и укрывается с головой.
– На жалость давит, сука, – кивает в его сторону Андрюха.