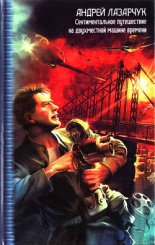Тридцатая любовь Марины Сорокин Владимир

«Как на исповеди», – улыбнулась Марина, пристраиваясь за симпатичным, похожим на тушканчика старичком.
Старичок жевал впалым ртом, смешно двигая беленькими кисточками усов, и таращился по сторонам.
Марина ждала, прислушиваясь к нарастающему стуку сердца.
Оно стучало почти как тогда – отдаваясь в висках, заполняя собой грудь.
Сидящая за кассой женщина была неимоверно полной, кудрявой, с оплывшим безразличным лицом и лиловыми щеками. Быстро щелкая кнопками, она косилась на сетки с продуктами, бормотала сумму, брала деньги, словно ей вернули давнишний долг, рылась в пластмассовых ящичках, ища мелочь, и снова щелкала.
Марина мысленно раздела ее и содрогнулась в омерзении: огромные отвислые груди с виноградинами морщинистых сосков покоились на мощных складках желто-белого живота, методично засасываемого темной воронкой пупка; белые бугристые окорока ног, пронизанные жилками вен, расходились, открывая сумрачного волосатого монстра с застывшей вертикальной улыбкой лиловых губищ…
«Интересно, сколько пачек масла поместится в ее влагалище?» – подумала Марина, двигаясь вместе с очередью.
Ей представилось, что там, внутри уже спрятана добрая дюжина пачек, они спокойно плавятся, спрессовываясь в желтый овальный ком…
– Что у вас? – заглянула матрона в Маринину сетку, хотя все было и так видно.
– Два молока, белый за двадцать пять, сыр… Все?
– Все, – ответила Марина, улыбаясь нервно подрагивающими губами и глядя в мутные глаза кассирши.
Сердце оглушительно колотилось, колени приятно подрагивали, холодная пачка оттягивала карман.
– Рубль пятьдесят.
Марина протянула десятку, приняла неудобно топорщащуюся сдачу и с пылающим лицом отошла к стойке.
«Семьдесят вторая пачка» – мелькнуло в ее голове и она облегченно усмехнулась.
Переложив продукты из казенной сетки в свой целлофановый пакет, она вынула пачку из кармана.
Старичок-тушканчик, пристроившись рядом, тоже перекладывал в свою зеленую сумку хлеб, маргарин и молоко. Когда он в очередной раз наклонился к сетке, Марина ловко бросила пачку в его сумку и, подхватив пакет, заторопилась к выходу.
Она давно воровала масло у государства. Это было приятное и острое ощущение, не похожее ни на какое другое. Приятно было стоять в угрюмой очереди, сознавая себя преступницей, успокаивать внутреннюю дрожь, подходить к кассе, чувствуя нарастающие удары крови в висках, лгать, улыбаясь и подрагивая уголками губ…
Однажды Марина попала к молоденькой, чрезвычайно привлекательной девушке, которая неумело нажимая клавиши, спрашивала очаровательными губками:
– А еще что?
– Все. Уже все, – тихо проговорила Марина, улыбаясь и разглядывая ее. Тогда мучительно хотелось, чтобы эта прелесть, застукав Марину, расстегнула бы ее всю и обыскала своими коротенькими пальчиками с обломанными ногтями, краснея и отводя глазки.
А еще лучше, если б Марина работала кассиршей, и эта милая клептоманочка попалась ей с куском сыра в сумочке.
– Пройдемте со мной, – спокойно сказала бы Марина, положив руку на ее оцепеневшее от ужаса плечо.
И они прошли бы сквозь вонь и толчею универсама в пустынный сумрачный кабинет директора.
Марина поворачивает ключ, запираясь от вонючего шума, задергивает занавески, включает настольную лампу.
– Извините, но я должна осмотреть вас.
Девушка плачет, плачет безнадежно и искренно, не сознавая все возрастающей прелести своего мокрого личика:
– Я пппрошу… ппро… шу вас… в институт.. не соо… бщайте…
– Все будет зависеть от вас, – мягко отвечает Марина, расстегивает ее кофточку, щелкает застежкой лифчика, спускает джинсы и трусы.
Минуту она смотрит на свою пленницу – голенькую, прелестную, беспомощно всхлипывающую, потом говорит все тем же мягким голосом:
– Извините, но я должна осмотреть ваши половые органы. Знаете, некоторые прячут даже там…
Девушка разводит дрожащие колени, рука Марины касается пушистого холмика, долго ощупывает, затем раздвигает прелестные губки и…
Визг шин по мокрому асфальту.
Марина инстинктивно откачнулась назад, очнувшись в реальном мире московских сумерек: зеленая «волга», обдав водяной пылью, пронеслась мимо, шофер успел злобно потюкать себя пальцем по лбу.
«Так можно и к Господу пораньше», – усмехнулась она, перекладывая пакет с продуктами в левую руку. – «А что. Отлететь во время таких мечтаний… Забавно…»
Площадь кончилась, дорогу перегородила свежевыкопанная канава, по краям которой топорщились куски разбитого асфальта.
Марина легко прошла по переброшенной доске, успев разглядеть на мокром дне канавы пустую бутылку.
Впереди громоздились, светясь окнами, блочные девятиэтажки.
Уже семь лет она жила в этом районе, считавшемся новым, несмотря на то что выглядел он старым и запущенным.
– Девушк, а скок щас время? – окликнуло ее с лавочки продолговатое пятно в шляпе.
«Мудак», – грустно подумала она, свернула за угол и оказалась в своем дворе.
Дворничиха не торопясь скалывала лед с тротуара, ее семилетний сынишка пускал что-то белое в темной ленте журчащего во льду ручейка.
В скверике куча доминошников хлестко стучала костяшками.
Марина срезала себе дорогу, прохрустев по осевшему грязному снегу, перешагнула лужу с разбухшим окурком и оттянула дверь подъезда.
Лампочка третий день не горела, зато кнопка лифта светилась зловещим рубиновым накалом.
Вскоре лифт подъехал, с противным скрежетом разошлись дверцы и, попыхивая сплющенным «Беломором», выкатился коротконогий толстяк с белым пуделем на сворке.
«Свинья», – подумала Марина, войдя в прокуренный ящик лифта.
Палец нажал кнопку, лифт тронулся.
На правой дверце рядом со знакомыми примелькавшимися ЖОПА, СПАРТАК и НАДЯ появилась лаконичная аксиома: ХУЙ + ПИЗДА = ЕБЛЯ.
– Бэзусловно… – устало согласилась Марина, вспомнив любимое словечко Валентина. – «А онанизм-то мальчиков не спасает. Рвется либидо на волю, сублимируется. Твоя правда, Зигмунд…»
Расстегнув сумочку, она достала ключи, скрепленные английской булавкой.
Лифт остановился.
Ключ умело овладел легким на передок замком, сапожок пнул дверь, палец щелкнул выключателем.
Не раздеваясь, Марина прошла на кухню, сунула продукты в холодильник, поставила греться новенький никелированный чайник (подарок Сашеньки) и прикурила от догорающей спички.
Кухня была небольшой, но по-женски уютной: льняные занавески, голубенький плафон в виде груши, коллекция гжели на аккуратных полочках, три расписные тарелки над грубым деревянным столом с такими же грубыми табуретками.
Марина вернулась в коридор, чертыхнулась, зацепив циновку, разделась, сунула уставшие ноги в мягкие тапочки, потягивая сигарету, заглянула ненадолго в туалет, вернув голос старому разговорчивому бачку, и с разбега бросилась на широкую тахту.
Голова утонула в родной бабушкиной подушке.
Расстегнув брюки, суча ногами, вылезла из них. С наслаждением затягиваясь, она рассеянным взглядом скользила по своей двадцатиметровой комнате: бабушкина люстра, бабушкино пианино, полки с книгами, ящик с пластинками, проигрыватель, телевизор, зеленый торшер, полуметровая гипсовая копия «Амура и Психеи», вариант рабиновского «Паспорта» над небольшой кушеткой, натюрморт Краснопевцева, офорт Кандаурова и… да, все то же до боли знакомое клиновидное лицо со шкиперской бородкой, чуть заметным вертикальным шрамом на высоком морщинистом лбу и необыкновенными глазами.
Сквозь расплывающийся сигаретный дым Марина тысячный раз встретилась с ними и вздохнула.
ОН всегда смотрел так, словно ждал ответа на вопрос своих пронзительных глаз: что ты сделала, чтобы называться ЧЕЛОВЕКОМ?
«Я стараюсь быть им», – ответила она своими по-оленьи большими и раскосыми очами.
И как всегда после первого немого разговора, лицо ЕГО стало добреть, поджатые губы потеряли свою суровость, морщинки возле глаз собрались мягко и спокойно, разваливающиеся пряди упали на лоб с хорошо знакомой человеческой беспомощностью. Треугольное лицо засветилось привычной домашней добротой.
«Человек», – всплыло в голове Марины, и тут же ОН, выдвинув скрипучий стул, сел рядом – большой, грузный и красивый.
Она часто представляла это знакомство, – либо в прошлом, до высылки, либо в будущем, после той самой встречи в Шереметьево-Внуково: неясный пестрый фон сосредоточенно разговаривающих людей, расплывчатый интерьер незнакомой комнаты, ЕГО улыбка, широкая ладонь, крепкое рукопожатие…
Дальше все было зримо и прочувствованно до мелочей: долгий разговор, встреча, доверенная рукопись, стрекочущая ночь напролет машинка, белое утро, свежеотпечатанные листки, привезенные в срок, «спасибо, вы очень помогли мне, Марина», «Ну, что вы, для меня это не работа, а наслаждение», потребность в секретаре, совместная работа до поздна на даче, желтый месяц, запутавшийся во влажной листве ночных яблонь, решительно распахнутое окно, «засиделись мы, однако», взгляд усталых глаз, встретившиеся руки и…
Марина была уверена, что с НИМ все случится как надо. Как положено случаться, но чего, к сожалению, ни разу не произошло у нее ни с одним мужчиной. Глупое, медицинское слово ОРГАЗМ с отвращением выталкивалось из грез, подыскивались синонимы, но и они не были в состоянии выразить то, что так остро и точно чувствовало сердце…
Да, еще ни один мужчина не смог дать ей тот убогий чисто физиологический минимум, который так легко добывали из ее тела женские руки, губы и языки. Вначале это было странно и страшно, Марина плакала, прислушиваясь к сонному бормотанию удовлетворенного партнера, засыпающего после трехкратного орошения ее бесчувственного влагалища. Потом она привыкла, лесбос взял верх, мужчины стали чистым декором, а ОН… ОН всегда оставался тайным знанием, скрытой возможностью настоящей любви, той самой, о которой так мечтала Марина, которой жаждало ее стройное смуглое тело, засыпающее в объятьях очередной подруги…
Сигарета давно кончилась и погасла. Марина опустила ее в полый живот глиняного Шивы и пошла на кухню.
Сашенькин чайник отчаянно кипел, из носика рвалась густая струя пара.
– Ооохаааа… Маринка-рванинка… – зевнула Марина, сняла чайник и выключила газ.
Любимые слова некогда любимой Милки заставили вспомнить намеченное еще вчера:
– Господи, вылетело совсем…
Вернувшись в комнату, она повесила брюки на спинку стула, присела к массивному письменному столу, вынула из-за эстонской безделушки ключ, отперла ящик и выдвинула.
Ящик был большой но вмещал он гораздо больше, – во всяком случае, за содержимое его Марина отдала бы свою квартиру, не раздумывая.
Слева покоилась Библия в коричневом переплете, рядом – янтарные бабушкины четки и потрепанный карманный псалтырь, из-под которого виднелся молитвослов. Справа – три увесистых тома «Архипелага», «Дар», «Машенька» и «Подвиг» Набокова, владимовский «Верный Руслан», орвелловский «1984», две книжки Чуковской.
Дальше аккуратным блоком лежала поэзия: Пастернак, Ахматова, Мандельштам, «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи» Бродского, сборники Коржавина, Самойлова и Лиснянской.
Все книги, уложенные друг на друга, напоминали трехсторонний бруствер, в центре которого на дубовом дне ящика покоилась Тетрадь.
Тетрадь.
Она была небольшой, составленной из листков плотной бумаги. С обложки невинно и удивленно смотрела ботичеллевская Венера, в правом верхнем углу лепилось старательно выведенное ROSE LOVE.
Марина взяла тетрадку, положила на стол и задвинула ящик.
«…Чувств твоих рудоносную залежь, сердца тайно светящийся пласт…»
– вспомнила она любимые строчки и отворила Тетрадь.
Это была лаконичная летопись Любви – двадцать восемь вклеенных фотографий – по одной на каждой странице. Двадцать восемь женских лиц.
Мария… Маша Соловьева… Машенька… 7х9, красивое кабинетное фото на рифленой бумаге, черные блестящие волосы, полуоборот, полуулыбка… Мария была первой. Своими изящными пальцами, требовательными губами и эластичным телом она открыла в-Марине Розовую Дверь, открыла сильно и властно, навсегда впустив поток испепеляющих лучей.
Их любовь длилась полгода – муж увез Машу в Ленинград, тайные встречи на квартире ее подружки прекратились, а подружка осталась. Она была второй.
Марина перелистнула страницу.
Света… Света Райтнер… Светочка-Светланка… Светик-Семицветик… В то лето, когда бабушка все еще пеленала в Ленинграде бордового от крика Кольку, они с Мариной часто ставались ночевать у Светы – двадцатишестилетней, дважды разведенной, кудряво-черноволосой, с округлыми булками плеч, спелыми грушами грудей и пунцовыми капризными вишнями губ.
Обычно, после небольшой пьянки, она ложилась на кухне, и всю ночь бодрствующие любовницы слышали тоскливый скрип ее раскладушки.
Однажды ей надоело вертеться и под утро она появилась – полненьким шелковым призраком с черной шапкой на голове:
– Девочки, пустите меня третьей… там холодно…
В квартире, как и на улице, стояла жара, Маша с Мариной лежали голые на влажной простыне, отдыхая после продолжительной борьбы, закончившеюся обоюдной победой.
– Ложись, – усмехнулась Мария и подвинулась к стенке.
Зашуршала снимаемая рубашка, Света уложила свое белое прохладное тело меж двух смуглых, остывающих углей. Долго молчали, глядя в начинающий белеть потолок, потом Маша предложила накрыться простыней и вздремнуть.
Так и сделали.
Перекрахмаленная простыня хрустела и гнулась, как фанера, Мария быстро задремала, Марина тоже собиралась отправиться за ней, как вдруг Светина рука легла ей на гениталии.
Марина со вздохом сняла прохладную длань, отвернулась и заснула…
А потом через несколько месяцев они встретились. неожиданно узнав Друг друга в торопливой арбатской толпе.
У нее было белое еврейское тело с острым характерным запахом подмышек и гениталий. Она любила танцевать голой на столе под Шарля Азнавура, пить красное вино из горлышка, истерически хохотать, наряжаться и, изображая манекенщицу, стремительно входить из коридора в комнату, кружась и покачиваясь на высоких, вышедших из моды шпильках.
Света забирала в свои губы Маринин клитор и ритмично трогала его кончиком языка. Она была менее искусна, чем Мария, но более щедра, – уже через неделю у Марины появился дорогой югославский лифчик и духи «Камея».
Света смотрела с фотографии строго и вызывающе, совсем как тогда – после жестокой ссоры, грубых слов и гулкого хлопка дверью…
Ира… Иринка-муравейчик… Ирочка-Ирулька-нежная пиздулька…
Казенное фото 3х2 со срезанным уголком, приклеенное коричневой канцелярской бурдой, нещадно покоробившей лист. Мальчишеская челка, маленькие юркие глазки, тонкие губы, тонкие руки, тонкая талия, два девственных холмика на груди и один – потерявший девственность в общежитии циркового училища – внизу, меж худеньких бедрышек.
– Погладь, погладь меня вот так, – сбивчиво шептала она в темноте, показывая что-то невидной ладошкой…
Они встречались в узкой комнате ее подружек-студенток, наглухо завешивая окно одеялом. Больше всего Ирине нравилось касаться гениталиями, сильно разведя ноги…
На втором курсе ее отчислили за воровство и Марина провожала с Белорусского дождливым летним вечером.
– Приезжай к нам, Мариш, поживешь, мама сала даст, грибов, – бормотала она, торопливо целуя Марину и вырывая из ее руки мокрый блестящий чемодан, – У нас места – до чорта, отец ушел, приезжай. С ребятами путевыми познакомлю…
Свиноподобная проводница грозно лязгала откидным полом, Ирина чмокнула сухонькими губами в последний раз и застучала сандалиями по железным ступенькам:
– До скорого, Маришк!
Казалось, это крикнула ее синяя шерстяная кофта…
Сонечка Фазлеева… Прелесть с толстой косой до пояса, узкими глазками, крохотными губками, пухлыми бедрами и округлой попкой.
Она училась у Дробмана, поступив на год раньше.
– Бетховен груб, Марин, вот Скрябин – другое дело… – это был потолок ее татарского эстетизма.
Играла она ужасно, Дробман давно махнул на нее рукой, с директором она дважды переспала, завучу подарила хрустальную вазу.
Марина сама раскачала ее на розовые дела, – спелую, ленивую, томящуюся от сексуальной неудовлетворенности: в восемнадцать лет Сонечку грубо дефлорировал ее ровесник и с тех пор половые акты стали формальностью.
Сонечка долго и глупо кокетничала, слушая традиционное Маринино «какая ты красивая, мужчины не достойны тебя», но отдалась смело и легко, – поздней осенью они поехали на пустынную дачу и, включив обогреватель, целый день ласкались на холодной перине…
Их роман не мог продлиться долго. – Марине наскучила Сонечкина ограниченность. Соне – розовые дела.
Клара… Марина улыбнулась и вздохнула, вглядываясь в красивое породистое лицо сорокалетней женщины.
Клара была очень похожа на Вию Артмане.
– Красота дается по милости Божьей, – часто повторяла Клара, гладя Марину.
Она открыла Марине Бога, она умела любить, умела быть верной, преданной, бескорыстной. Умела не замечать свой возраст.
– Я такая же девчушка, как и ты, ангел мой, – шептала она утром, закалывая свои роскошные льняные пряди.
У нее был прелестный клитор в форме среднего каштана. Он выглядывал из бритых припудренных гениталий изящным розовым язычком.
– Поцелуй меня в тот ротик, – томно шептала она и покорно раздвигала белые полные ноги. Марина любила это белое, слегка переспелое тело с мягкими, необычайно нежными грудями.
Клара умела как-то незаметно доводить Марину до оргазма: легкие, необязательные прикосновения суммировались и неожиданно распускались жарким соцветием истомы. Марина беспомощно кричала, Кларины губы шептали:
– Покричи, покричи, девочка моя… сладенькая девочка моя… покричи…
Таня Веселовская… Вспыхнула тонконогой огнекудрой кометой и после двухнедельного любовного безумия пропала в круговерти каких-то подозрительных армян. Отчаянно кусалась своими мелкими зубками и повизгивала, зажимая ладонями рот, чтобы не услышали соседи по коммуналке…
Мила Шевцова…
Зина Коптянская…
Тоня Круглова…
Все трое были на одно лицо – худые неврастеничные наркоманки, крутившиеся возле иностранцев.
Богатые клиенты были их богами, феномин – жизненно необходимым стимулятором, ресторан – сакраментальным местом, лесбос – тайной слабостью.
Они одели Марину в фирменные тряпки, научили профессионально набивать папиросы с планом, уговорили «попробовать негра». Негр промучил ее часа полтора, залезая своим толстым членом куда только можно, потом, загнанно дыша и посверкивая в темноте белками, выпил из горлышка бутылку «Хванчкары» и захрапел…
Вика. Бедная, несчастная Вика… Огромные голубые глаза, светло-каштановые волосы, добрый, всегда улыбающийся рот. Они познакомились в душевой бассейна «Москва», поняв друг друга с полуслова.
Месяц, их медовый месяц на рижском взморье, осенняя Москва с мокрыми листьями на асфальте, ответ незнакомого голоса на Маринин звонок:
– Понимаете… Вики больше нет. Ее сбила электричка…
Марина даже не простилась с ней.
Новенькая ограда на Смоленском с еще липнущей к рукам серебрянкой, гранитный блок. неприжившиеся «анютины глазки»…
Милая Вика… Целовалась до помутнения в глазах, наряжала Марину в свои платья, читала «Камасутру», ласково просила, по-детски пришипетывая:
– Мариночка, а теперь всунь мне пестик…
Марина вынимала из-под подушки обтянутую презервативом стеариновую свечу, нежно вводила в раскрывшееся влагалище…
Электричка, говорят, рассекла ее надвое…
Сонечка Гликман…
Туська Сухнина…
Стандартные паспортные фото.
Обе учились в Строгановке, подрабатывая там же натурщицами.
– Девочки, надо новые ощущения искать, а то жизнь пройдет и не оглянешься, – говорила голая Туська, разливая дешевый портвейн в три фужера…
«Пятнистая лань», – называла ее Марина за частые синяки от поцелуев.
Однажды они «впустили четвертым» старого любовника Сонечки – черноволосого Ашота с детской улыбкой, мускулистым телом и длинным, слегка кривым пенисом. С ним часто играли в жмурки, – завязывали глаза богемным Сонечкиным шарфом, раскручивали и заставляли искать. Голый Ашот, улыбаясь, сомнамбулой ходил по комнате, а девочки, повизгивая, кусали его подрагивающий жезл.
Барбара Вениген…
Типичная восточная немка с черной стрижкой, мальчишескими чертами и вульгарными замашками.
Обычно Марина ждала ее возле Станкина, кутаясь в свою дубленку, потом они ехали в общежитие к Барбаре…
Она привезла ей кожаные брюки и пачку шведских противозачаточных таблеток…
Тамарка…
Анжелика…
Машутка Волкова…
Капа Чиркасская…
Наташка… Наташка Гусева. Это было что-то невероятное. Жирная, тридцатисемилетняя. Первый раз казалась вялой, но умело работала языком. Во второй – приехала со своим «тюфячком» – круглым валиком от дивана. На валик одевался чистый стиранный чехольчик, постанывая, голая Наташа зажимала его между ног и ложилась на кровать ничком, обреченно бормоча:
– Уже можно…
В комнату с ласковыми речами входила Марина, наматывая на кулак широкий офицерский ремень со срезанной пряжкой:
– Уже лежишь, киска… ну, лежи, лежи…
Жирная спина и ягодицы Наташи начинали подрагивать, она хныкала, просила прощения, ерзая на валике.
Марина ждала минуту, потом ремень со свистом полосовал эту белую желеобразную тушу.
Намертво зажав между ляжками тюфячок, Наташа дико вопила в подушку, голова ее мелко тряслась, шея багровела. Марина била, ласково приговаривая:
– Терпи, кисонька, терпи, ласковая…
Уходила она утром, с посеревшим лицом, морщась от боли, еле передвигая толстые ноги, унося до следующей субботы свое распухшее тело и вместе с ним – заветный тюфячок… Ее посадили за спекуляцию лекарствами…
Аня… Аня-Анечка… Мелкие светлые кудряшки до плеч, курносый носик в крапинках веснушек. Розовую Дверь в ней открыла Барбара, Марине оставалось лишь помочь ей усвоить и закрепить пройденное.
– Это так интересно. А главное – необычно… – говорила Аня и миловидное лицо ее приобретало таинственное выражение.
Ей нравилось часами сидеть с Мариной в ванне, ласкаясь при свете оплывшей свечи.
– Понасилуй меня, – шептала она, боязливо выбираясь из воды. Марина смотрела как исчезает за дверью ее мокрое тело, потом тоже вылезала и гналась, ловила в темноте, заламывая скользкие руки, тащила к кровати, наваливалась, подминая под себя хнычущую Аннет-Минет…
Тамара Ивосян… Черные угли глаз, непролазная проволока волос, неправдоподобно широкое влагалище, которое и толкнуло на лесбийский путь: мужчина был беспомощен в таком пространстве.
– Нэ родился еще мужик, каторый запэчатал бы этот калодэц! – гордо бормотала она. Похлопывая себя по буйно поросшим гениталиям.
Марина быстро нашла ключ к ее телу, и вскоре обессилившая от бесчисленных оргазмов Тамара плакала, по-детски прижимаясь к Марине:
– Джяна… ох… джяааана…
Каждый раз на рассвете она предлагала:
– Давай пакусаэм друг друга на память!
И не дожидаясь ответа, сильно кусала Маринину ягодицу. Марина кусала ответно, заставляя Тамару постанывать, скалить ровные белые зубы…
Две синенькие подковки оставались надолго, Марина изгибалась, рассматривая их, вспоминала пахучие Тамарины подмышки, проворные губы и жадные руки.
Ира Рогова… Милое круглое лицо, спокойные полуприкрытые глаза…
Чудесно играла на гитаре, но в постели была беспомощна. Панически боялась мужчин. Марина брила ее гениталии, научила восточной технике, «игре на флейте», «поцелую Венеры» и многому другому…
Маринка… Близняшка-двойняшка… Насмешливые губы, глубоко запрятанные под брови глаза, разболтанная походка, синие джинсы…
Муж ее «доматывал химиком» под Архангельском, ребенка нянчила мать. А сама Маринка беспробудно пила и трахалась, чувствуя нарастающий ужас, по мере того как таял мужнин срок. Ужас. Он и толкнул ее в умелые объятия тезки. Правда всего на три ночи…
Любка Барминовская…
Их глаза встретились в июльском переполненном троллейбусе и сразу все было ясно: притиснутая какой-то бабой к стеклу Люба провела кончиком язычка по верхней губке. Стоящая неподалеку Марина через секунду повторила жест. Они сошли на Пушкинской старыми знакомыми, в Елисеевском купили раскисающий тортик, бутылку белого вина, с трудом поймали такси и вскоре жадно целовались в темном, пахнущем кошками коридоре…
Да. Любушка-голубушка была настоящей профессионалкой – неистовой, умелой, чувственной… Марина вспомнила ее подвижную голенькую фигурку, присевшую на широкий подоконник.
– Я без девчонок просто жить не могу, – весело говорила она. потягивая невкусное вино из высокого узкого стакана, – Я ведь и в детстве-то только с девочками дружила…
Люба обладала невероятно длинным клитором, – напрягаясь, он высовывался из ее пухлых гениталий толстеньким розовым стручком и мелко подрагивал. Марина медленно втягивала его в рот и нежно посасывала, впиваясь ногтями в ерзающие ягодицы любовницы…
Любка научила ее играть в «сексуальный гоп-с-топ»: одевалась, входила в ванную, раглядывала себя в зеркало, в то время как Марина приникала к щели в нарочно неприкрытой двери. Люба раздевалась, посылая своему отражению воздушные поцелуи. Оставшись в одних трусиках, долго позировала перед зеркалом, оттопыривая зад, поглаживая груди и проводя языком по губам. Потом, стянув свои лиловые трусики, присаживалась на край ванны и начинала заниматься онанизмом: пальцы теребили поблескивающий клитор, колени конвульсивно сходились и расходились, щеки пылали румянцем. Так продолжалось несколько минут, потом движения ее становились лихорадочными, полуоткрытые губы с шумом втягивали воздух, колени дергались, и она вставала, давая понять, что желанный оргазм уже на пороге. Вместе с ним врывалась Марина и с криком «ах ты сука!» начинала бить ее по горячим щекам. Не переставая теребить свой стручок, Люба бледнела, бормоча «милая, не буду, милая, не буду…», дергалась, стонала и бессильно сползала на пол. Миловидное лицо ее в это мгновенье поражало удивительной красотой: глаза закатывались, губы наливались кровью, распущенные волосы струились возле белых щек. Сначала Марине было жалко бить, но Люба требовала боли:
– Мне же приятно, как ты понять не можешь. Это же сладкая боль…
Поняв это, Марина, уже не жалея, хлестала по белым щекам, сочные звуки пощечин метались в душной ванной. Люба благодарно плакала…
Фрида Романович… Чудовищное создание в розовых бермудах, джинсовой курточке и серебряных сандалиях. Беломорина не покидала ее огромных цинично смеющихся губ, проворные руки щипали, били, тискали. В метро, пользуясь всеобщей давкой, она прижимала Марину к двери, по-змеиному скользкая рука заползала в джинсы, пальцы раздвигали половые губы, один из них проникал во влагалище и сгибался.
– Теперь ты на крючке у Мюллера, – зловеще дышала ей в ухо Фридка, – Пиздец голубушке…
В своей грязной, заваленной бутылками каморке она включала магнитофон на полную мощь, поила Марину коньяком из собственного рта, потом безжалостно раздевала, валила на кровать…
Чувствуя бессмысленность всякой инициативы, Марина покорно отдавалась ее полусадистским ласкам, дряхлая кровать жалобно трещала, грозя рухнуть, магнитофон ревел, ползая по полу…
Нина… «Жрица любви»… «Племянница Афродиты»… «И не играю я, и не пою, и не вожу смычком черноголосым…»
Высокая, сухощавая, с ровной ахматовской челкой. Сперва она не нравилась Марине: чопорно-изысканные ухаживания с букетами роз, поездками в Абрамцево-Кусково-Шахматово и дачными пикниками, казалось, ни к чему не приведут. Но Фридка допекла Марину своими пьяными выходками, предлагая «попробовать дога», «сесть на бутылку из-под шампанского», «потискать пацана», измученное щипками тело запросило покоя: Фрида осталась в своей хазе допивать херес, Марина переехала к Нине.
Историк-лесбиянка-поэт…
Как все переплелось в этой худой умной женщине…
– В прошлом воплощении я была Жорж Занд, в позапрошлом – Жанной д'Арк, в позапозапрошлом – бродячим суфием ордена Кадири, а в позапозапо– за…, – она таинственно улыбалась и серьезно добавляла, – Я была Сафо.
– Ты это помнишь? – спрашивала Марина, разглядывая ее маленькие груди.
– Конечно, – кивала Нина и тонкий палец с миндалевидным ногтем упирался в просторную карту Лесбоса, – Вот здесь стояла вилла, тут служанки жили, здесь мы купались, там овцы паслись…