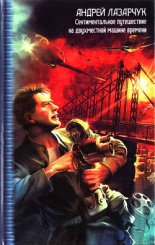Тридцатая любовь Марины Сорокин Владимир

Марина молча соглашалась.
Нина садилась на кровать, вздыхала, глядя в темное окно:
– Да… Меня Платон тогда десятой музой назвал…
Часто после ласк она нараспев читала свои переводы каких-то эллинских текстов, вроде:
Лоно сравнится твое разве что с мидией нежной, Пеной морскою сочась и перламутром дыша…
Роман с ней оборвался внезапно: к своему ужасу Марина узнала, что Нина знакома с Митей, который давно уже тешил всех рассказами о филологической лесбиянке, помешанной на Ахматовой и Сафо.
«Еще не хватало мне попасть Митьке на язык», – думала тогда Марина, набирая номер Нины. – Да, Каллисто, слушаю тебя, – с подчеркнутым достоинством пропел в трубке грудной голос.
– Нина, понимаешь… я люблю другую…
Минуту трубка чопорно молчала, затем последовало спокойное:
– Это твое дело. Значит тебя больше не ждать?
– Не жди. Я не могу любить двоих…
– Хорошо. Только верни мне Эврипида.
В тот же вечер Марина выслала потертый томик ценной бандеролью…
Милка… 9х12… почти во всю страничку…
Манекенщица. фарцовщица, алкоголик… Из весеннего пьяного вихря запомнилось одно: полуосвещенная спальня, перепутавшиеся смертельно усталые тела, бутылки и окурки на полу, Милкины руки, спускающие кожуру с банана:
– Солнышко, это банан нашей любви…
Все те же руки осторожно вводят его в переполненные слизью влагалища, и вот он – липкий, рыхлый, едва не сломавшийся – уже перед губами Марины:
– Ну-ка. ам и нет…
Марина кусает – мучнисто-приторное мешается с кисло-терпким…
Милка по-пеликаньи глотает оставшуюся половину и откидывается на подушку…
Наташа..
Райка…
Две жалкие неврастеничные дуры. Трудно что-либо вспомнить… какие-то вечеринки, пьянки, шмотки, слезливые монологи в постели, ночные телефонные звонки, неуклюжие ласки… чепуха…
А вот и она.
Марина улыбнулась, поднесла к губам еще не вклеенное Сашино фото и поцеловала.
Милая, милая…
Позавчера этот небольшой снимок протянули Сашенькины руки:
– Вот, Маринушка… Но я тут некрасивая…
Некрасивая… Прелесть голубоглазая, дивное дитя. Если 6 все так были некрасивы, тогда б исчезло и само понятие красоты…
Ангелоподобное лицо в ореоле золотистых кудряшек, по-детски выпуклый лоб, по-юношески удивленные глаза, по-взрослому чувственные губы.
Марина встретила ее после многомесячной нечленораздельной тягомотины с Райкой-Наташкой, оскомина от которой надолго выбила из розовой колеи в серую яму депрессии.
Как осветили тот монохромный зимний вечер золотые Сашенькины кудряшки! Она вошла в прокуренную, полную пьяно бормочащих людей комнату и сигарета выпала из оцепеневших Марининых пальцев, сердце дернулось: ЛЮБОВЬ!
Двадцать девятая любовь…
Сашенька не была новичком в лесбийской страсти, они поняли друг друга сразу и сразу же после вечера поехали к Марине домой.
Казалось все будет как обычно, – выпитая под тихую музыку бутылка вина, выкуренная на двоих сигарета, поцелуи – и ночь, полная шепота, стонов и вскриков.
Но – нет. Сашенька позволила только два поцелуя, легла на кушетке. В предрассветную темень осторожно оделась и ушла.
Три дня она не звонила, заставив Марину напиться до бесчувствия и плакать, распластавшись на грязном кухонном полу.
На четвертый – короткий звонок подбросил Марину с неубранной тахты. Запахивая халат и покачиваясь, она добралась до двери, отворила и ослепла от радостно хохочущего кудрявого золота:
– Вот и я!
Двадцать девятая любовь…
Марина вздохнула, достала из левого ящика тюбик с резиновым клеем, выдавила коричневатую соплю на тыльную сторону фотографии, бережно размазала и приклеила к листу.
В дверь позвонили.
– Это твой оригинал, – шепнула она фотографии, спрятала тетрадь в стол, – Иду, Сашенька!
Дверь распахнулась, они обнялись:
– Девочка моя…
– Маринушка…
– Кудряшечка моя…
Марина взяла ее прохладное лицо в ладони, покрыла порывистыми поцелуями:
– Ангелочек мой… золотце… деточка моя…
Саша улыбалась, гладя ее волосы:
– Ну дай же мне раздеться. Мариш…
Руки Марины расстегнули розовый плащ, помогли снять платок, растрепали кудряшки и скользнули вниз – к слегка забрызганным сапожкам.
– Ну. что ты, Мариш. я сама… улыбнулась Саша, но Марина уже принялась стягивать их:
– Ноженьки мои, где гуляли, откуда пришли?
– С ВДНХ.
– Господи…
– Мариш, есть хочу.
Поставив сапожки в угол, Марина снова обняла любимую:
– Я без тебя жутко скучаю..
– Я тоже ужасно.
– Ласточка, закрой глаза.
– Что?
– Закрой глаза и жди.
Сашенька повиновалась, спрятав лицо в ладошки. Марина сбегала в комнату, достала из стола серебряное колечко с каплей бирюзы, вернулась и, отняв одну из ладошек от милого лица. Надела колечко на Сашенькин безымянный палец:
– Теперь можно.
Черные крылышки ресниц колыхнулись, бирюзовые глаза с изумлением посмотрели на крохотного родственника:
– Ой… прелесть какая… Мариш… милая моя…
Сашенька бросилась ей на шею.
– Носи на здоровье… – бормотала Марина, гладя и целуя подругу.
– Душечка моя…
– Ласточка моя…
– Маринушка…
– Сашенька…
Сашенькины губы медленно приблизились, прикоснулись, прижались, раскрылись…
Они долго целовались, постанывая и тиская друг друга, потом Марина шепнула в раскрасневшееся Сашенькино ушко:
– Киса, ты полезай в ванну, я приготовлю все и приду…
– Хорошо… – улыбнулась Сашенька.
Марина смотрела на нее с нескрываемым обожанием.
Сашенька была прекрасна сегодня, как никогда: золотые кудряшки ниспадали на широкий ворот белого свитера, который свободно тек вниз, суживался в талии и наплывал на прелестные, стянутые джинсами бедра.
Марина восхищенно покачала головой:
– Ты… ты…
– Что я? – улыбнулась Сашенька и быстро прошептала, – Я люблю тебя…
– Я люблю тебя, – с придыханием повторила Марина.
– Я люблю тебя…
– Я люблю тебя…
– .Люблю…
– Люблю… люблю…
– Люблю-люблю-люблю…
Марина снова обняла эти дивные юные плечи, но Сашенька виновато зашептала:
– Маринушка… я ужасно хочу пи-пи…
– Прелесть моя, идем я тебе ванну приготовлю…
Обнявшись они зашли в совмешенку: узкие джинсы нехотя полезли с бедер, отвинчивающаяся пробка – с югославского флакона. Хлынули две нетерпеливые струи – белая, широкая – в ванну, тоненькая желтенькая – в унитаз…
Вскоре Сашенька блаженно утопала в облаках о чем-то неразборчиво шепчущей пены, а Марина, с трудом вытянув пробку из пузатенькой мадьярской бутылки, жарила обвалянных в яйце и муке цыплят, напевая «этот мир придуман не нами…»
– Клево как… – Сашенька бросила обглоданное крылышко на блюдо, облизала пальцы, – Ты просто волшебница…
– Я только учусь, – усмехнулась захмелевшая Марина, разливая остатки вина в фужеры.
Они сидели в переполненной ванне друг против друга, разделенные неширокой, покрытой вафельным полотенцем доской. На успевшем подмокнуть полотенце покоилось бабушкино серебряное блюдо с остатками цыпленка и фужеры с вином. Маленький грибообразный ночничок наполнял совмещенку голубым светом.
Марина поставила пустую бутылку на мокрый кафельный пол, подняла фужер.
– Твое здоровье, ласточка…
– Твое, Маринушка…
Они чокнулись, губы медленно втянули кажущееся фиолетовым вино.
Пена давно успела опасть, в голубоватой воде перемежались неторопливые блики, прорисовывались очертания тел.
– Ой, здорово. Как в раю… – Сашенька зачерпнула фужером воды и отпила глоточек, – Мариш, с тобой так хорошо…
– С тобой еще лучше.
– Я тебя так люблю…
– Я тебя еще сильнее…
– Нет, серьезно,… милая, красивая такая… – Сашенькина рука легла на плечо Марины, – У тебя грудь, как у Лолобриджиды…
– У тебя лучше.
– Ну, что ты, у меня крохотная совсем…
– Не скромничай, ласточка моя…
– Милочка моя…
Привстав и расплескивая воду, Саша поцеловала ее.
Фужер сорвался с края доски и бесшумно исчез среди голубых бликов.
Они целовались хмельными губами, пропитанные вином языки нещадно терли друг друга.
Переведя дыхание, Сашенька коснулась кончиком языка уголка губ подруги, Марина, в свою очередь, облизала ее губки. Проворный Сашенькин язычок прошелся по щеке и подбородку, потерся о крылышко носа и снова поразил Марину в губы.
Марина стала целовать ее шею, слегка посасывая нежную голубую кожу, Сашенька, постанывая, сосала Маринины мочки, лизала виски.
Вода плескалась от их порывистых движений.
Поцелуи и ласки стали более страстными, любовницы стонали, дрожащие руки скользили по мокрым плечам.
– Пошли, пошли, милая… – не выдержала первой Саша, забирая в ладонь грудь Марины.
– Идем, киса… – Марина с трудом стала извлекать из воды онемевшее тело, – Там простыня, Сашок…
Но Сашенька не слушала, тянула в черный прямоугольник распахнутой двери, пьяные глаза настойчиво молили, полураскрытые губы что-то шептали, вода капала с голубого тела.
Повинуясь Сашенькиной руке, они оказались в неузнаваемой прохладной тьме, разбрасывая невидимые, но звучные капли, с грехом пополам выбрались из коридора и, обнявшись, упали на кровать…
Догорающая спичка стала изгибаться черным скорпионьим хвостиком, огонек быстро подполз к перламутровым ногтям Марины, она успела поднести сигарету, затянулась и бросила спичку в пепельницу.
Прикурившая секундой раньше Сашенька, лежала рядом, слегка прикрывшись одеялом и подложив руку под голову.
Принесенный из ванной ночничок светился в изголовье на тумбочке.
Бабушкины медные часы на стене показывали второй час ночи.
Марина придвинулась ближе к Сашеньке. Та выпростала руку из-под головы и обняла ее:
– Мариш, а у нас выпить нечего?
– Заинька, больше нет…
– Жаль…
Марина погладила ее щеку, потом вдруг тряхнула головой:
– Так, постой, у меня же планчик есть!
– Правда?
– Точно! Вот дуреха! Забыла совсем!
Она села, забрала у Сашеньки сигарету:
– Хватит это дерьмо курить… сейчас полетаем…
Безжалостно расплющив головы сигарет о живот Шивы, она подошла к книжным полкам, вытянула двухтомник Платонова, из образовавшегося проема достала начатую пачку «Беломора» и небольшой кисет.
Сашенька приподнялась на локте, томно потягиваясь:
– Оооой… все-тки как у тебя уютненько…
– Хорошо?
– Очень. Кайфовый уголок. Здесь любовью заниматься клево. И ночничок уютненький…
– Ну, я рада… – Марина села за стол, включила настольную лампу, достала из кисета щепотку зеленоватого плана и костяной поршенек.
Ее голое красивое тело, таинственно освещенное бледно-желтым и бледно-голубым, казалось мраморным.
Откинув одеяло, Сашенька села по-турецки:
– Маринк, я тебя люблю офигенно.
– Заинька, я тебя тоже…
Марина выдула в пригоршню табак из гильзы и принялась смешивать его с планом.
– Набей парочку, Мариш, – шлепнула себя по бедрам Саша.
– Конечно, киса. Это крутой план. Из Ташкента.
– Мариша.
– Что, киса?
– А у тебя мужчин не было за это время?
– Нет, кошечка… а у тебя?
Сашенька тихо засмеялась, запрокинув голову:
– Был мальчик…
– Лешка твой?
– Неа. Другой… там, знакомый один…
– Бесстыдница.
– Ну я больше не буду, Мариш…
– Хороший мальчик?
– Ага. Нежный такой. Правда кончает быстро.
– Молодой еще.
– Ага. Ничего научится…
– Конечно…
Сашенька сняла трубку со стоящего на тумбочке телефона, набрала наугад номер.
– Опять хулиганишь, – усмехнулась Марина.
Саша кивнула, подождала немного и быстро проговорила в трубку:
– Радость моя, можно у тебя клитор пососать?
Марина засмеялась.
Сашенька захохотала, нажала на рычажки и снова набрала:
– Мудачок, ты когда последний раз ебался? А? Нет, что ты. У меня все дома. Ага… ага… сам ты дурак!
Ее пальцы придавили рычажки, голое тело затряслось от смеха:
– Ой, не могу! Какие кретины!
Бросив трубку на телефон, она изогнулась, потягиваясь.
Голубой свет нежно обтекал ее складную худенькую фигуру, делая Сашеньку более стройной и привлекательной.
Набивая вторую гильзу, Марина покосилась на любимую.
Заметив взгляд, Сашенька медленно приподнялась на коленях и изогнулась.
– Прелесть ты какая, – улыбнулась Марина, забыв о папиросе, – Только еще, еще вперед немного… вот так…
Саша изогнулась сильнее, небольшие грудки дрогнули, свет заискрился на беленьких волосиках пухлого лобка.
Томно прикрыв глаза и постанывая, она облизывала губы.
– Афродита…
Сашенькины руки скользнули по телу и сошлись в паху.
– Ты уже хочешь, киса? – спросила Марина. – Я всегда хочу, – прошептала Саша и вытянулась поверх одеяла, поглаживая свои .гениталии и делая Марине знаки языком.
– Сейчас, милая…
Марина закончила набивать, подошла, вложила папиросу в губы подруги, другую в свои, чиркнула спичкой.
Приподнявшись на локте, Сашенька прикурила, сильно затянулась, с коротким всхлипом пропустив глоточек воздуха. Она всегда курила план профессионально, – ни одна затяжка не пропадала даром.
Марина подожгла скрученный торец папиросы, легла рядом.
– Вуматной косяк… – пробормотала Саша, сжимая зубами папиросу и поглаживая себя по бедрам.
– Азия, – Марина жадно втягивала горьковатый дым, подолгу задерживая его в легких.
Над тахтой повисло мутное облако.
Когда папироса почти кончилась, Марина почувствовала первый «приход»: комната мягко качнулась, расширяясь, голые Маринины ноги потянулись к удаляющемуся окну.
Она засмеялась, прикрыла глаза. В голове ритмично пульсировали разноцветные вспышки.
– Ой, поплыли! – раздался рядом непомерно громкий голос Саши, – Косячок охуительный, Мариш! Набей еще по штучке!
Давясь от смеха, Марина посмотрела на нее.
РЯДОМ лежала огромная голубовато-белая женщина: ноги маячили вдалеке, грудь и живот сотрясались от громоподобного хохота, в толстых губах плясало тлеющее бревно.
Марина повернулась, ища пепельницу. Вместо нее на расползшейся во все стороны тумбочке зияла невероятная каменная лохань с горкой грязных березовых поленьев.
Хихикая, Марина бросила туда папиросу.
Что-то массивное пронеслось у нее рядом с виском и с громким треском расплющило тлеющее бревно о дно лохани.
– МАРИШ, ЧТО ТЫ ОТВЕРНУЛАСЬ?!! – загрохотало над головой и не понятно откуда взявшиеся мраморные руки сжали ее грудь.
Стало очень приятно, ново и легко.
Марина повернулась.