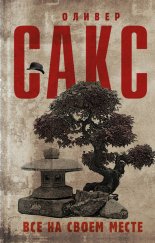Кроха Кэри Эдвард

– Величайшему из всех убийц, – подхватила я.
– Я слышала, что в Нанте он топил людей, – заметила Роз.
– А я слышал, что он вместе с Фукье-Тенвилем[22] приговаривал людей к казни, – добавил Наполеон.
– И еще я слышала, – продолжала Роз, – что после сентябрьской резни[23], раскаявшись в содеянном, он пришел, крича и рыдая, на Гревскую площадь, собрал вокруг себя толпу, и когда людей набралось несколько сотен, у всех на глазах покончил с собой, выстрелив себе в висок из пистолета. И как потом говорили, бездомные собаки много ночей спали на том самом месте.
– Это правда? Вот что с ним произошло? – изумилась я. – Бедный Жак.
– Тут нет ни слова правды, – возразил Наполеон. – Это все выдумка. Какое забавное имя: Жак Бовизаж. Такого человека никогда не было.
– О нет, сир, был. Я знала его. Он сначала жил у нас, сир, в Кабинете Куртиуса. Мы прозвали его нашим сторожевым псом. Мы росли вместе.
– Ваш рассказ – это вообще нечто новенькое. И не думайте, что я в него поверю.
– Мы долго его разыскивали. Но он ушел и не вернулся.
– Очередная небылица, придуманная в годы Революции, чтобы пугать детей и взрослых, – насмешливо отрезал Наполеон. – Вне всякого сомнения, так вы старались придать таинственности вашему предприятию. А какие у вас есть доказательства его существования? Вы хотя бы сделали его восковую фигуру?
– Нет, не сделали. Хотя он просил.
– Вот так-то. Вы закончили, гражданка?
– Поскольку у людей не ослабевает интерес к головам знаменитых людей, моей работе нет конца.
– Но сейчас вы получили то, что хотели. Всего вам хорошего!
– Благодарю вас, Первый консул, больше я вас не потревожу. Прощай, Роз, прощай, Фортуна!
Через год Фортуну растерзал английский бульдог повара Наполеона.
Итак, мы покинули покои Первого консула. В коридоре толпились другие люди в ожидании аудиенции. Похоже, то утро консул Бонапарт посвятил встречам с художниками. Там я встретила Давида, и старика Гудона в каких-то обносках, и молодого красавца, которого раньше никогда не видала. Интересно, подумала я тогда, кто из них будет принят первым. Позже Гудон создал бюст Наполеона в натуральную величину, но в этом творении не было ничего примечательного. Позже Давид написал «Коронование императора Наполеона I» на полотне размером 6,21 м на 9,79 м: они были прямо-таки рождены друг для друга – Давид и Наполеон. А молодой красавец, встретившийся мне в коридоре, изваял его великолепную мраморную статую в образе бога войны Марса, высотой более четырех метров. Имя мастера было Антонио Канова.
Именно эти двое, Давид и Канова, превратили в колосса мужчину ростом в пять футов семь дюймов[24]. И к тому моменту уже все художники Парижа наперебой изображали одну-единственную голову, так что весь город стал огромной фабрикой обожания. И кто же придет в дом восковых фигур, заполненный Наполеонами, когда эту самую голову можно было лицезреть в столице империи повсеместно, с любого ракурса, на каждой улице, в каждом помещении частного дома или общественного заведения? В пору апогея его славы говорили, что во Франции живут семь миллионов человек, и еще пять миллионов – скульптуры Наполеона. И какая выставка восковых людей могла бы процветать в таких условиях?
Глава семьдесят первая
Чтобы уже не вернуться
Имея в руках слепок головы Наполеона, я могла наконец раскрыть свой план. Не новый Обезьянник, нет. Нечто куда более крупное. В другой стране. В другом городе. Для переезда я выбрала Лондон. Париж был ненадежным. А Лондон – многообещающим. В Париже люди едва сводили концы с концами. В Лондоне они жировали. За Лондоном было будущее, а Париж был славен лишь прошлым. В Лондоне, как я выяснила, бывшие владельцы увеселительных заведений на бульваре дю Тампль устраивали показы изображений казней на гильотине с помощью волшебного фонаря, зарабатывая на этом приличные деньги.
У меня же было кое-что получше картинок. У меня были головы. Осязаемые, почти как живые. А теперь еще и Наполеон.
Я написала массу писем. Я отправила деньги. Я сняла помещение в театре «Лицеум». Я снова буду жить. Малыш Франсуа и малыш Жозеф вырастут и будут всюду совать свои носищи. Они непременно унюхают что-то хорошее в жизни. Они не пропадут.
– Лондон, – объявила я. – Лон-дон. Скажи: Лон-дон, малыш Эф.
– Лон-дон, – повторил он.
Я пообещала гражданину Тюссо, что вернусь, хотя сама не верила этим словам. Почему же он должен был им поверить? Это был человек, знавший только отрицательные числа, человек-вычитание, дырявый карман. Я решила оставить ему Обезьянник, чтобы у него был шанс чего-то добиться. Теперь он мог рассчитывать только на себя. Я распрощалась с этим домом. Прощайте все: вдова, доктор Куртиус и Эдмон. И Жак Бовизаж, который не вернулся назад, но чья история так и не завершилась, и легенды о ком никогда не будут позабыты. Даже и сейчас, как меня уверяли, на бульваре дю Тампль все еще ходят о нем байки. Родители стращают детей: засыпайте скорее, а не то за вами придет Жак Бовизаж. С этими легендами я тоже распрощалась.
– Я забираю детей в Англию, – сообщила я мужу. – Хочу там заработать для нас денег.
Гражданин Франсуа Тюссо, не совсем лишенный человеческих чувств, очень любил своих детей и боролся за них. Его сердце разрывалось от боли, и он тратил карманные деньги на адвокатов. Судьей, разбиравшим наше дело – вот каковы прихоти фортуны, – был Андре Валентен. Все с теми же глазами, один из которых глядел на восток, а другой на запад, преуспевший в жизни, упрямо карабкающийся вверх по карьерной лестнице.
– А, швейцарка. Все еще тут?
– Скоро уезжаю.
– И куда?
– В Лондон. Там иностранцам всегда рады.
Глядя одновременно на меня и на Тюссо, он постановил, что один ребенок вправе ехать с матерью, но другой должен остаться с отцом. Я ничего не могла поделать. Но у меня в груди билось сердце, задыхающееся, захлебывающееся от горя. Я была принуждена оставить Жозефа со своим мужем, принуждена к этому человеком, убившим моего Эдмона. Но как я могла воспротивиться решению судьи? Андре Валентен остался таким же, каким был и всегда, – вором.
– Ты присутствовал там? – спросила я. – Когда Эдмон выпал из окна? Думаю, что присутствовал. Ты был там?
– Не понимаю, о чем ты толкуешь.
– Что там случилось, прошу, расскажи.
– Мне что, конфисковать твои документы?
– Это ты? Или сам Эдмон?
– Так, гражданка, у меня есть дела помимо твоего. Подведем итог: один ребенок остается здесь. Другой ребенок едет туда.
Судно называлось «Кингфишер». Позднее оно затонуло, наскочив на рифы близ острова Сицилия, но до этого оно увезло нас в Англию, так что в темной пучине Английского канала нет восковых персонажей с косматыми бородами. На палубе я крепко держала малыша Эф, мое сокровище, мое будущее. В трюме находились люди из моего прошлого, спутники моей жизни, свидетели моей истории, восковые воплощения моей любви и ненависти, ерзающие в своих ящиках. Кукла, сделанная Эдмоном по моему подобию из дерева, волос и стеклышек. Витринный манекен, сшитый по его подобию. Я их не бросила в Париже.
Я привезла на Британские острова историю Франции, бережно уложив ее по ящикам и обернув ватой и тряпьем. Во время плавания у Вольтера отбился нос, Франклин потерял ухо, а Жан-Полю Марату вдавило грудь. Но все это можно было исправить. У меня же остались формы.
Я помахала рукой Парижу и всему, что с ним было связано. Я уплываю на остров. Нас будет разделять море. Не преследуй меня, даже никогда не пытайся.
И вот я стою на палубе корабля, рассекающего воды Английского канала, в сопровождении своих любимых, чтобы поведать англичанам наши истории. Вы же слыхали о Синей Бороде, Спящей красавице и Коте в сапогах? А вот новая сказка – о маленькой женщине, что тащила историю на своем горбу. Хотите крови? Это у меня есть. Дворцы? Ну, конечно. Лачуги? Еще бы! А монстры? Да, да, и монстры у меня есть. Приходите и смотрите! Только приходите – и вы увидите все своими глазами, я покажу вам, как все было, я расскажу вам, как умею, на что способен человек.
Но есть ли у вас там любовь?
Да! О, да.
Мы плыли прочь, малыш Эф и я. Франция оставалась далеко позади, превращаясь в полоску суши, пока и она совсем не исчезла. Никогда больше Андре Валентен не разобьет мне сердце. Я отвернулась от французского берега и указала малышу Эф вперед: смотри туда! Там, за проливом, находится Великобритания. А зачем мы ей? И зачем она нам? Там говорят по-английски – мы знаем английский? Жеорг Третий. Дуувр. Театр «Лицеум» Лон-дон.
– А мы вернемся домой, мамочка? Мы когда-нибудь вернемся домой?
– У нас будет новый дом, Эф, совершенно новый. И нам не захочется его покидать.
Послесловие
1802–1850
Дома
Мне восемьдесят девять лет.
Глава семьдесят вторая
Седьмая группа голов
И вот я тут. Наверху. В окружении моих вещей. Вон на стене висит мой портрет кисти Жака-Луи Давида. А там в ящике под стеклом посмертная маска дядюшки Куртиуса. Цела и изготовленная Эдмоном деревянная кукла, мое подобие, а рядом с ней манекен, изображающий мужчину, которого я некогда знала. Там же восковое сердце, а около него восковая селезенка-хандра, и там же моя восковая голова, вылепленная Куртиусом, когда мне было семь, и папенькина нижняя челюсть, не потерянная за все эти долгие годы, ну и наконец, вернее, самое главное – безликая кукла Марта, маменькин подарок. Все это со мной, и я с ними. А где мы все? Мы в Лондоне. Мы в богадельне? Нет. Разве у обитателей богадельни имеются дорогие им вещи? Мы в собственном доме, мы его владельцы, и мы весьма преуспели в жизни. Мы вскарабкались на верхотуру высшего общества Лондона, который представляет собой самую исполинскую кучу дерьма, какую довелось наложить человеку, уродливый нарост циклопических размеров. Должна, однако, признаться, что я сохранилась не целиком. Теперь я состою из трех частей. Мои зубы давно выпали, и их заменили новыми: я их вставляю, верхние и нижние, и щелкаю челюстью, как папенька. Когда я их вынимаю, мое лицо сморщивается, и нос свисает к подбородку, так что они едва не соприкасаются. Я ношу очки с толстенными стеклами, в круглой проволочной оправе. Без их помощи я никого и ничего не вижу ни вблизи, ни вдали.
Мой дом стоит на Бейкер-стрит[25], и это подходящее название, потому что в каком-то смысле мы здесь выпекаем людей. Наш дом очень большой, просто какой-то огромный слон, гигантский монстр. В этом здании хранится история. Мы демонстрируем наших людей, наших кукол, в первом и втором этажах и в подвале. У нас тут есть зал с королевскими особами и прочими важными персонами, где собраны все знаменитости последних лет. В третьем этаже располагается наш производственный цех, где ежедневно мы плавим воск и отливаем людей, а люди приходят, и люди уходят. А я наблюдаю за этим многолюдным цирком жизни. Всех их хлебом не корми – дай только прославиться. Наконец я в полной безопасности. Я вспоминаю, как вдова Пико считала себя в безопасности, прячась за крепкими воротами. Но ни один дом не обеспечит тебе безопасность, все дома норовят рухнуть. А внизу, в подвале, вдали от солнечного света, во тьме, мы держим совсем других людей, бесславных, тех, кто совершал дурные поступки. Всегда находятся такие. Сегодняшние негодяи в одной компании со вчерашними. Там наша Комната ужасов. Только вчера, когда я спустилась в подвал, какой-то юнец, из простонародья, стоял перед Жан-Полем Маратом в кровавой ванне и пялился на жалкое тело, вылепленное Эдмоном, и рану, которая до сих пор кажется совсем свежей, и этот самый юнец преспокойно жевал пирог со свининой.
Я постоянно совершаю такие обходы, инспектирую их всех, брожу вокруг старых фигур. Иногда осматриваю новые, но вообще-то меня тянет к прошлому. Я всех пережила. Я смахиваю пыль с Наполеона, расправляю парчовый камзол Людовика XVI. В карман ему я сунула карту острова Робинзона Крузо. В его лице я угадываю черты его младшей сестры.
Люди приходят сюда, чтобы потрогать меня. Одни именуют меня Дама-История, другие – Матушка-Эпоха. А многие называют Мадам Двойка Мечей[26]. Я прямо как общественное здание. Когда-то я рассказывала посетителям историю своей жизни. И они все гадали, правда ли это. Воск, уверяла я их, не умеет лгать.
Я больше не в силах сидеть за столом в вестибюле и взимать плату за входные билеты. Я такая хрупкая, что могу сломаться. Вместо меня деньги берут другие люди. Франсуа и Жозеф, приняв эстафету ремесла, сделали меня из воска. Иногда после обеда я прихожу в зал и ненадолго составляю компанию своему дубликату. Публике нравится смотреть на нас двоих рядышком. Это даже вдохновило мистера Крукшенка нарисовать карикатуру, озаглавленную «МАДАМ ТЮССО ВЫШЛА ИЗ СЕБЯ». По правде сказать, ему не удалось добиться точного сходства. Но зато я узнаю себя в восковой скульптуре, в этом сморщенном огрызке человеческого существования, в этом морщинистом дряхлом создании, смахивающем то ли на паука, то ли на жука или бескрылого мотылька, в этой сгорбленной фигуре, слепленной из праха и земли, одетой во все черное – от капора до ботинок. Вдова Пико, раз в квартал приходит человек и выдергивает волоски из моего подбородка. Перепуганные дети визжат при виде меня. Потом я им снюсь по ночам, они просыпаются и снова визжат. И детям – не взрослым – сегодня рассказывают всякие сказки, потому как сегодня эти сказки годны лишь для малышей. Дети распевают «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи» на мотив, впервые записанный в год моего рождения[27]. Я такая же древняя, как эта дурацкая мелодия.
Один за другим, кто-то второпях, а кто-то неспешно, все умерли. Луи-Себастьян Мерсье во сне, так и не сняв башмаков. Жак-Луи Давид в опале, в изгнании. Жозефина, Плакса-Роз, лишенная трона императрицы. Даже Наполеон – на своей скале посреди Тихого океана. Франсуа Тюссо-старший, муж, так и не расплатившись с долгами. И наконец, Андре Валентен, поднявшийся высоко по служебной лестнице и обвиненный в растрате государственных средств империи, был разрублен на два куска, которые разлетелись в разные стороны.
Обезьянник, давно опустевший, издал последний вопль бабуина, выплюнул облако пыли и рухнул, обратившись в груду щебня, который потом вывезли прочь.
Там теперь все застроено новыми домами.
Никто из живущих меня не понимает. Только мои куклы.
Меня иногда навещает мистер Диккенс, автор романов. Тот еще прохиндей. Я ему все рассказываю. Он записывает. У меня внизу, возле Марата, стоят Берк и Хэр, шотландские похитители тел, одного я вылепила с натуры, другого – после смерти. Герцог Веллингтон частенько наведывался в гости к моему восковому Наполеону. А теперь у меня восковой Веллингтон стоит.
Есть такое состояние между жизнью и смертью, называемое восковой фигурой. Я живу в верхнем этаже дома, занимая несколько комнат, со всем своим семейством. За дверью, на которой висит табличка ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН – НЕ ВХОДИТЬ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. Это моя спальня. Тут хранятся мои личные вещи, не предназначенные для посторонних глаз, не выставляемые напоказ публике. Моя личная коллекция, моя личная история.
И сюда он приходит каждый день, мой седьмой и последний врач, доктор Маркус Хили. Лысеющий мужчина, располневший, хотя он и пытается это скрыть, все обо мне заботится, хлопочет. Он передвигает меня, как будто я сама не могу двигаться, суетится, носится со мной, как ребенок с любимой игрушкой.
Сегодня мир стал механическим. Этот новый мир сделан из железа. Жизнь отяжелела, все приходится толкать – паром и поршнями. Вместо свечей люди освещают себя газом, который дает свет, лишенный загадочности. И еще признак почтенного возраста: люди больше не выглядят так, как прежде. Мужчины отращивают бакенбарды, так что в конце концов становятся больше похожими на спаниелей, чем на мужчин, а густую растительность на лице умащивают воском, придавая ей аккуратную форму. И еще кое-что новенькое. Франсуа боится, что оно может погубить наше предприятие. Эта новомодная штука называется дагерротип. Она запечатлевает разные жизненные ситуации, создает изображения людей на полированной серебряной пластинке. И эти картинки получаются гораздо быстрее, чем восковые изваяния. К тому же там гарантированно можно избежать ошибок. Вот, хотят сделать мое изображение с помощью этой машины. Еще чего! Только через мой труп!
Я лежу в постели, мне трудно дышать. Я отчетливо вижу свой конец – все случится в этой комнате. Мне восемьдесят девять лет. До девяноста я уже не доживу. Я – Анна-Мария Тюссо, урожденная Гросхольц. Крошка.
Теперь она уж никуда не денется.
Благодарности
Чтобы написать эту книгу, мне понадобилось пятнадцать лет – срок довольно долгий. При том, что сюжет основан на реальных событиях и биографиях реальных людей, иногда эти люди (к примеру, Мари Гросхольц и Филипп Куртиус) оставили нам весьма туманные, порой недостоверные, истории, поэтому я чувствовал себя вправе заполнить кое-какие лакуны. Я посвятил много времени изучению материала, и здесь величайшее удовольствие и пользу принесли мне сочинения Луи-Себастьяна Мерсье. Будучи кем-то вроде Генри Мейхью, летописца Лондона, и Джозефа Митчелла, бытописателя Нью-Йорка, Мерсье оказался лучшим гидом по Парижу восемнадцатого века, и я сделал его персонажем этой книги, постаравшись воспроизвести его интонации. Эта книга не могла быть написана, если бы не помощь и участие следующих людей и учреждений: музея «Мадам Тюссо» в Лондоне, который много лет назад дал мне работу, с чего все и началось; Кристофера Меррилла и Международной писательской программы; Патрика Девилла и парижского «Дома иностранных писателей и переводчиков»; Сорена Линда и библиотеки «Дома Брехта»; Клаудии Вулгар и Фестиваля искусств Килкенни; Брэдфорда Морроу и «Конджанкшнз»; Пола Лисицки и журнала «Стори куотерли»; Юна Ли и «Паблик спейс»; Арно Наувелса, давшего мне советы по изготовлению четырехфутовой деревянной женщины (в подробностях) и Элизабет Маккрэкен, которая помогла сделать для нее волосы; Даны Бертон, проявившей терпение и точность, Чарлза Ламберта, проявившего щедрость; Элизабетт Сгарби, которая в нужный момент была всегда рядом; Майкла Тэкенса, который помог разобраться во многом, и всех сотрудников замечательного и вдохновляющего издательства «Гэллик букс», особенно Джейн Эйткен, Мэдди Аллен и Эмили Бойс, которые первыми приняли у меня мое детище, и всех сотрудников великолепного издательства «Риверхед букс», кто всегда верил в эту книгу, в том числе во всех смыслах исключительных, Джинн Мартин, Дженнифер Хуанг и Глори Плата, и в особенности потрясающего гения Калверта Моргана, чей ум и мудрость, тонкое чувство стиля и поразительно зоркий глаз помогли наконец привести эту книгу в порт назначения и кого я не устану благодарить; и всех в агентстве «Блейк Фридман», в том числе великой Кэроли Блейк, ныне покойной, а также Тома Уиткома, Джеймса Пьюзи, Эмануэлы Энекоум и особенно моего любимого агента Изобел Диксон, которая перечитала эту книгу во всех возможных формах и форматах и отдала ей времени и душевных сил больше, чем кто-то другой; и наконец, более всего, Элизабет и Гаса с Матильдой, маленьких и могучих.
Перевод Олега Алякринского