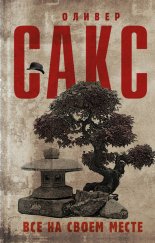Кроха Кэри Эдвард

И затем, не дожидаясь моего ответа, отправил предложенную мне порцию пирога себе в рот, пожевал, сглотнул и в восторге послал в пустоту воздушный поцелуй.
– Теперь, вероятно, – заметила я, – вас стошнит.
– Но мне это нравится! Нравится! – воскликнул он, любовно поглаживая себя по выпирающему животу. – А мне это запрещено. «Только один кусок в день, говорит она. Не больше одного!» – и добавил шепотом: – Но я ее обманываю. Конечно, я обманываю. Я стал таким коварным! – Он замолчал с довольным видом, а затем стал возиться с выкованным им замком, то запирая его, то отпирая, любуясь своей работой и, удостоверившись, что все детали замка хорошо пригнаны, смазал его маслом и отполировал. Наконец он нагнулся, приблизив ко мне лицо, и я заметила, что его большие голубые глаза внимательно меня изучают.
– Ну что, голубушка, установим его вместе?
– Да, месье, давайте.
Ухватив пухлой ладонью мою руку, а в другой сжимая новый замок, он вывел меня из мастерской в длинный коридор. Мы зашли за угол и остановились у приоткрытой двери без замка. Сквозь зияющее отверстие я смогла увидеть то, что творилось за дверью: большая зала, хорошо освещенная, с огромным расписным потолком и гигантским зеркалом, занимающим одну стену, словно повторяя такое же исполинское окно на другой стене; зала была заполнена изысканно разодетыми дамами и господами, поглощенными беседой друг с другом. Я никогда еще не видела такого блистательного общества: все в зале сияло ослепительным блеском.
– Там королева? – спросила я у слесаря. – Кто из них она?
Я же должна была сделать слепок лица королевы – вдова наказала мне привезти частичку этого блистающего великолепия и поместить ее в унылую грязь бульвара дю Тампль. Мой вопрос заставил слесаря слегка подпрыгнуть, он заглянул в залу, прищурился и покачал головой.
– Нет, королевы тут нет. Только декорации.
Декорации – он имел в виду придворных дам – не обратили на нас никакого внимания. Слесарь разложил платок на полу и опустился на колени. Я встала на колени рядом с ним и принялась доставать из карманов его фартука разные гвозди и железки, а потом держала их наготове, чтобы передать ему, когда они понадобятся. Слесарь аккуратно вставил замок в дверь. Замок встал как влитой и выглядел, о чем я не преминула ему сообщить, очень мило.
– Думаешь? Я его сам сконструировал. Да, мне тоже нравится.
Я услышала за спиной движение, обернулась и увидела нескольких лакеев, а между ними старую даму Мако. Она знаком приказала мне следовать за ней, и по этому жесту я поняла, что она ужасно недовольна. Я распрощалась со слесарем, который все еще стоял, коленопреклоненный, на носовом платке и глядел в замочную скважину.
– Значит, уже уходишь? – произнес он. – Желаю здравствовать!
– Я вернусь, обещаю, – прошептала я.
Глядя на свои бесчисленные отражения во множестве зеркал, я казалась себе такой нелепой и чужеродной, что невольно подумала, как бы не упасть в одно из зеркал и не утонуть в нем. Я медленно приблизилась к мадам Мако, которая вытолкала меня из роскошной залы и повела по коридору. Она уверяла, что от моей наглости буквально лишилась дара речи, но сейчас он к ней вернулся, потому как всю дорогу до покоев мадам Елизаветы она злобно повторяла, что мне следует знать свое место. На мои поиски, по ее словам, отправилось немало лакеев, и им доложили, что низкорослая незнакомка суется подряд во все двери, которая она не вправе открывать.
– Этот дворец построили не для твоих забав, – шипела она, цепко ухватившись костлявой рукой за мою шею. А потом я оказалась в знакомой мне пугающей комнате – хотя комната уже не могла меня испугать, теперь-то, когда я побывала в той великолепной зале с зеркалами, – и там была Елизавета.
– Ку-ку! – произнесла она, хотя и безо всякого энтузиазма. А потом обратилась к старой даме:
– Она моя приближенная, а не ваша, мадам Мако.
– Ее нашли…
– Отпустите ее немедленно! – приказала Елизавета, и в ее голосе лязгнуло железо.
Моя шея оказалась на свободе.
– Может, тебя снова наказать? – задумчиво произнесла Елизавета.
Я вытянула обе руки.
– Отошлите ее прочь, – посоветовала Мако. – Но сначала ей надо всыпать.
– Ты не поедешь домой до тех пор, пока не научишь меня всему!
– Она нарушила правила! – вскричала Мако.
– Я очень хочу… – с приятной моему слуху твердостью сказала Елизавета, – Я очень хочу, чтобы мы опять поиграли в прятки.
– Нам пора повзрослеть, – пробурчала старая дама.
– Но на сей раз я решила, дорогая моя Мако, – продолжала принцесса, – что вам выпадет удовольствие прятаться. А мы сосчитаем до ста.
– Но я никогда не прячусь.
– Уже давным-давно настала ваша очередь. Один… два… три… бегите, Мако, прячьтесь! Вы же знаете правила: бегите со всех ног! А мы пойдем вас искать. Идите и прячьтесь, да так, чтобы вас трудно было найти. Иначе я очень осерчаю.
Мако, вся в сомнениях, вышла из комнаты.
– Садись, – произнесла Елизавета. – Я хочу тебе кое-что сказать.
– Вы очень умно поступили, – улыбнулась я.
– Благодарю. Сама удивилась. Это ты меня вдохновила. Взять и сбежать! Но только никогда больше так не делай, душенька моя, мой двойник!
– Не буду! Обещаю!
И мы, похожие как две капли воды крошки-девушки, сели рядышком на диване, предназначенном для куда более крупных людей, и завели беседу.
Глава тридцать пятая
– Я расскажу тебе о моих людях, – начала Елизавета. – О людях, которых я собираю и размещаю здесь. – Она держала в руках красивый том в кожаном переплете.
Это ее брат, король, надоумил принцессу собирать людей в книге. Он вечно все записывает, сообщила Елизавета, он очень любит составлять всякие списки. Версальский «Альманах» он знал чуть ли не наизусть. Он записал, сколько ступенек на лестнице, ведущей в апартаменты королевы, и сколько окон во всем дворце, и сколько раз их дед посылал за ним (не так уж много, вспомнила она). Он знал точное количество секунд, часов, дней и лет, прожитых их братом, герцогом Бургундским, прежде чем того поразил туберкулез костей, и точное количество лет, дней, часов и минут, протекших с момента его рождения и до смерти их матушки. Король, казалось, считал все и вся и все записывал. У него скопилось множество томов разных списков.
– Я решила, что мне стоит делать так же, – доверительно призналась она мне. – И я начала составлять список людей. Помимо дворца есть много домов, жутких, отвратительных мест, где я тоже встречаюсь с людьми. Как же они меня печалят… И я записываю свои посещения, я даю им немного денег и говорю им, что я, Елизавета Французская, буду за них молиться. Вот что это за записи, понимаешь? Почитай.
И она передала мне длинный список людей с указанием их недугов и невзгод. Барс, Рено: сломанная нога. Грюлье, Мадлен: боли в животе. Жибье, Агнес: головные боли. Билинже, Жан: мизинец, нос у дочери. Эндерлен, Одиль: почки. Роже, Ролан: мать кричит не переставая. Пинсон, Роз: обесцвеченная кожа на спине. Парлан, Альфонс: голод. Мулен, Доминик: снова беременна. Левек, Пьер: умер сын. Сальвия, Югетта: шпоры на ногах, зубная боль, слепота. Венсан, Франсуа и Оливия: не могут зачать ребенка. Кютар, Аделина: угри.
– Я за всех них молюсь, – сообщила она.
И тут у меня возникла идея.
– Можно поступить еще лучше.
– Посоветуй, мой двойник, предложи!
– Вы могли бы вылепить их болезни.
– Вылепить?
– Ну да! Представьте себе: самые печальные людские болезни, запечатленные в воске.
– Миниатюрные изваяния? В воске? – Она немного поерзала на стуле, точно вообразила, как держит в руке чей-то недуг. – О, мы можем потом отнести их в церковь! Боже мой! Мы же можем! Мы могли бы сделать из них вотивные дары, ведь так? Они же будут очень жизнеподобные? Тогда Господь наверняка прислушается. И увидит, как много добра мы делаем. О, двойник мой, хотя у тебя довольно грустное лицо, ты, несомненно, очень умна. Да! О да!
Не зная, что сказать, я потянулась с намерением взять ее за руку.
– Нет! Назад! Не приближайся. Но какая чудесная идея!
В тот день мы так и не пошли искать мадам Мако. Спустя несколько часов ее обнаружила стоящей за гобеленом одна из фрейлин королевы. Когда та объяснила, что прячется от юной Елизаветы, фрейлина спросила, почему – уж не боится ли она принцессы? Рассказ быстро облетел весь дворец, став всеобщим достоянием, так что, когда старая дама появлялась на людях, на нее глядели с печальными улыбками. Ее авторитет растаял, и она постепенно начала спасаться от всех, обернувшись покровом воображаемых хворей.
На следующее утро, еще до рассвета, меня разбудил громоподобный стук в дверцы моего буфета. Во тьме я оделась, и меня препроводили в комнату, где раньше по стенам были развешаны рисунки мадам Елизаветы – теперь они все исчезли. На середину комнаты был выставлен стол, заваленный инструментами и кусками воска и глины. Я пробежалась пальцами по инструментам, потрогала глину. А напоследок поднесла к носу восковой слиток.
– Я буду звать тебя, – проговорила Елизавета, разминая мягкую глину, – я буду звать тебя «сердце мое»! – И через неделю преподнесла мне сей предмет, вылепленный из воска – грубовато, но все же узнаваемо. Я попросила разрешения дотронуться до ее тела, что она запретила: мол, мне об этом даже помыслить нельзя! Но меня переполняла радость, я не удержалась и снова попросила дозволения. И она снова ответила «нет», но как-то тихо и не вполне уверенно. И я поняла, что надо будет попробовать как-нибудь еще. В другой раз я даже просить не стала, а просто обвила руки вокруг ее талии и почувствовала, как ее голова прижалась к моему плечу. И еще я ощутила ее аромат – глубокий, теплый, чуть напоминающий запах спелой капусты. И только когда откуда-то снаружи раздался голос мадам Мако, Елизавета поспешно отпрянула и вернулась к работе. А я опустила восковое сердце в карман передника и с тех пор всегда хранила его среди своих вещей.
По моему предложению, нам с кухни принесли требуху разных животных, чтобы мы могли их изучать, разрезать и зарисовывать, – так моя ученица могла лучше понимать их местоположение и назначение. Коровье сердце, овечьи легкие, мочевой пузырь свиньи. Поначалу не испытывая никакого энтузиазма, Елизавета в конце концов принялась охотно погружать пальцы в их нутро. Из библиотеки доставили тяжеленные фолианты, изумительные тома с вклеенными иллюстрациями, которые раскладывались гармошкой и изображали строение человеческого тела. Это было отличное учебное пособие: сначала мы тщательно все изучали, а затем приступали к работе. По мере изготовления восковых муляжей мы все с большей охотой откровенничали друг с другом. Я показала ей Марту, а она поведала мне свои секреты. Более всего Елизавета мечтала выйти замуж. А самым большим ее страхом было остаться старой девой, как ее тетушки. Она рассказала, что однажды ее руку обещали португальскому инфанту, но по какой-то причине их союз распался, не свершившись. Инфант португальский был объявлен «неподходящим». Король при этом заявил, что кого-нибудь подходящего обязательно найдут, что Елизавете следует набраться терпения, и она набралась терпения, и хотя она довольно часто виделась со старшим братом, более ее брак не обсуждался.
– Не хочу повторить судьбу тетушек Аделаиды и Виктуары, – призналась Елизавета. – Они только и знают, что жалуются весь день, едят, пьют и говорят о бесполезных вещах. Они просто проживают свои дни, один за другим, и все в их жизни одно и то же, все повторяется снова и снова, и так будет до того дня, когда они просто лягут и умрут. Больше надеяться им не на что. Ох, сердце мое, я чувствую себя куда увереннее с тех пор, как ты здесь. Я не хочу себе такого будущего, как у тетушек. Господи всемогущий, сделай милость, спаси меня от такой судьбы!
Мадам Елизавета сама составляла график своих визитов вне дворца, в поисках своих нуждающихся, и всякий раз, когда она возвращалась, мы вылепляли новые анатомические дары. Как-то я попросила ее взять меня с собой. Она на мгновение нахмурилась, но затем с радостью согласилась. Хотя ее бедняки и страдальцы жили не слишком далеко от дворца, сказала она, их жилища никто не замечал. Страдальцы скрывались за деревянными стенами жалких лачуг, пребывавших в состоянии полного обветшания. Мы отправились туда в карете, в сопровождении двух стражников. Я спросила, зачем они нам.
– Для защиты, – ответила Елизавета. – Иногда простолюдины слишком несчастны и не всегда скрывают свои чувства.
Заслышав стук колес нашей кареты, люди выходили из лачуг. Первое, о чем я подумала при виде их, что их лица и туловища кажутся частью унылой архитектуры. Они с любопытством подходили к карете. Елизавета попросила меня опустить стекло.
– Здравствуйте, доброго вам утра, – поприветствовала она народ.
Ей кланялись, срывали шляпы с голов.
– Как поживаете? Как ваши дела?
И потом один за другим они стали подходить к принцессе и делиться с ней своими невзгодами, а иногда и демонстрируя свои заболевания. Только поговорив с ними и узнав про их горести, Елизавета давала им монетку.
– Ну не поразительны ли они, сердце мое? – обратилась ко мне принцесса.
– Они голодают?
– Не уверена. А ты что думаешь?
– Как они дошли до жизни такой, проживая вблизи от дворца?
– Им привозят еды.
– Но явно недостаточно.
– И я их навещаю.
– Мне вот интересно, как там у них внутри, в домах?
Тут она явно пришла в замешательство.
– Внутри? Я даже не думала об этом.
– А вам не любопытно?
– Пожалуй, да, любопытно.
– Тогда давайте заглянем.
И я распахнула дверцу кареты. Люди бросились врассыпную, давая мне пройти. Елизавета устремилась следом. Мы подошли к покосившемуся домишке, и я спросила дряхлую старуху на его пороге, можем ли мы войти. Она что-то прошамкала, я не вполне разобрала, что, но потом она пожала плечами, и я толкнула дверь. Внутри было темно, так что нашим глазам потребовалось некоторое время, чтобы рассмотреть сумрачное жилище, хотя оно было совсем крошечное. Земляной пол. Лежанка на кирпичах. Замызганное одеяло, колом вздыбившееся на кровати. Стены, почерневшие от плесени. Пара щербатых горшков. Табурет, не раз чинившийся. В доме воняло требухой полусгнившего животного, в воздухе витал дух отчаяния и безысходности. Больше в доме не было ничего, за исключением привязанного к табурету худющего пса, единственного утешения в жизни одинокой старухи. Оба обитателя этой лачуги, видно, питались из одной миски. При взгляде на пса можно было отчетливо увидеть все особенности его скелета. При виде непрошеных гостей пес ощетинился и, глядя на нас с нескрываемой злобой, обнажил гнилые зубы, а потом зашелся лаем, и теперь его уже было не угомонить. Елизавета в страхе прижалась ко мне. Если псу удастся сорваться с привязи, не сомневалась я, мы тотчас станем его первой мясной добычей за всю его жалкую собачью жизнь.
– Ужас! – выдохнула Елизавета.
Тут с нами заговорила старуха, но на чудном языке, которого я в жизни не слыхала. Невразумительные горловые звуки, вперемежку с ворчанием и мычанием, и на протяжении всего ее монолога – это меня поразило более всего – ее рот, смахивающий на рваную рану, оставался неподвижным. Она произносила невнятные слова, всхлипывая и сглатывая, и не ртом, а вроде как всем своим телом. Ее исхудалое тулово испускало возгласы, словно невольно нас браня. Казалось, к нам обращен приглушенный голос беспомощного духа, прозябающего в опустошенных недрах несчастной страдалицы. А потом она вся пришла в движение, внезапно подавшись вперед и согнувшись пополам, и мы торопливо бросились вон.
Пробыв в той лачуге, наверное, с полминуты, мы выбежали наружу, жадно вдыхая свежий воздух. Я потом не могла забыть жалкую лачугу, и тощего пса, и его престарелую хозяйку.
Не в силах видеть эту хибару, я отвела от нее взгляд. За деревенскими домишками стояла небольшая часовня и располагалось обширное кладбище с несколькими свежевырытыми могилами.
Мы вернулись в карету.
– Как могла эта женщина так опуститься? – запальчиво воскликнула Елизавета.
– Ясное дело, не в одночасье.
– Ей можно чем-то помочь, как думаешь?
– Не знаю. В иных случаях смерть – единственная помощь.
– Я должна ей помочь. Боже, сердце мое, ну что она за человек?
– Просто женщина.
– О! Это ужасно! Что я могу сделать? Что я могу сделать для нее? Вотивные дары! Больше даров! Мари, ты должна мне с этим помочь.
Когда мы вернулись во дворец, мир, похоже, вновь обрел живые краски. Я и не думала, что все вокруг может так быстро меняться.
После каждой подобной экскурсии стены часовни церкви Сен-Кир неподалеку от дворца постепенно заполнялись восковыми человеческими органами. Поначалу мало кого волновали эти прибавления, никто не думал, как быстро возрастет их число. Мы приносили почки и мочевые пузыри, легкие и руки, глаза и сердца, печень и желудки. Передавая друг другу восковые и глиняные муляжи, мы пару раз соприкасались руками и, думаю, чувствовали свою дружескую связь, великую свою близость – среди нагромождения частей человеческого тела.
Так прошло три месяца. Мне предстояло возвращаться в Обезьянник. Но уезжать мне совсем не хотелось. Я бы с радостью осталась с Елизаветой. Когда я ей в этом призналась, она ответила, что нет ничего проще: кто-нибудь напишет им в Париж, что я нужна во дворце. От моего хозяина последовал ответ – или, возможно, его написала вдова, – что в таком случае им должны выплатить компенсацию за мое отсутствие. Это было в ее духе. Я никогда этого письма не видела. Но была очень рада, что мне не нужно никуда ехать. Я не хотела туда возвращаться – в тот момент, во всяком случае. Это было бы невыносимо. Чем дольше я жила в версальском буфете, тем легче я могла забыть о своей жизни в других местах.
Глава тридцать шестая
Мы с Елизаветой проводили все больше времени вместе, вылепливая муляжи человеческих органов. Я входила к ней в опочивальню, как только она пробуждалась. Она посвящала меня в свои дела на грядущий день и постоянно интересовалась, довольна ли я. Очень довольна, говорила я, очень. И это было правдой. Вскоре мое присутствие сочли обладающим благотворным влиянием на королевского отпрыска, и днем за мной посылали в разное время. А потом мне настрого вменили ни под каким видом не удаляться от моего буфета. Ибо я в любой момент могла понадобиться принцессе. Если же я в чем-либо нуждалась, мне следовало вызвать лакея, который тотчас же появлялся у моего обиталища. Порой я просто сидела в углу комнаты с враждебной ко мне обстановкой, покуда принцесса со своими фрейлинами были заняты вечерней трапезой. Бомбу, как я выяснила, на самом деле звали маркиза де Бомбель, Ярость – маркиза де Режкур, а Фурию – маркиза де Монсье-Меринвиль. Это были три милые девушки, соученицы принцессы; они приветливо улыбались мне, угощали шоколадом, или пирожным, или кусочком сахара, и гладили по голове. Если Елизавете нужно было провести какую-то официальную аудиенцию, меня размещали поблизости, я стояла с прямой спиной, не шелохнувшись, и знание, что я нахожусь рядом и готова перехватить ее взгляд, производило на принцессу особенный эффект: она избавлялась от обуревавшего ее ужаса. Иногда лакей оставлял меня в самых странных местах, например, за экранами каминов в больших залах, чтобы Елизавета за вечер могла бы разок-другой мельком взглянуть на меня, ущипнуть за нос или ухватить за подбородок и таким образом снять душевное напряжение.
Как-то ранним вечером один из лакеев Елизаветы, облаченный в голубую ливрею, отвел меня на крышу дворца и приказал ждать там в определенном месте, пока меня не позовут. И я стояла, прильнув к балюстраде, между двух каменных вазонов, прямо над покоями мадам Елизаветы, – и оттуда открывался вид на дорогу к церкви Сен-Кир, не говоря уж о большом канале дворцового парка, простиравшегося до горизонта, точно он служил наглядным пособием для изучения законов перспективы. Хотя я и обитала в тесном шкафу, подобные просторы меня уже не изумляли. Мне было наказано занимать позицию на крыше, чтобы Елизавета, отправляясь в экипаже на очередную аудиенцию, могла бы опустить окно и увидеть меня наверху, что бы ее, несомненно, обрадовало. И я стояла там неотлучно, как мне и приказали, и наблюдала, как волны людей перекатывались по бескрайнему парку. Начал накрапывать дождь, но я все стояла, согласно данным мне указаниям. Вскоре сгустились сумерки, и я уже не различала в полумраке ни канала, ни парка, а вскоре уже ничего не слышала, кроме разве что взрывов хохота, веселых вскриков откуда-то из дворца да кошачьего мяуканья внизу. Я уже почти не сомневалась, что обо мне попросту забыли, как вдруг услыхала чьи-то шаги на крыше – они приближались.
Кто бы это ни был, он остановился невдалеке и облокотился о балюстраду, держась за один из каменных вазонов и глядя вниз. Человек стал возиться с чем-то вроде длинного прута. А последовавший затем грохот едва не заставил меня спрыгнуть с балюстрады и дать деру по брусчатке: мой сосед по крыше поднял ружье и выстрелил прямо по кошкам внизу. Я услыхала громкий взрыв, увидела язык пламени, и затем раздался дикий визг, который я приняла за кошачий. Потом, очень быстро, грохнул еще один выстрел, но за ним не последовало никакого визга. Боясь быть подстреленной, если бы он по ошибке принял меня за кошку, я крикнула:
– Прошу вас, сударь, прошу вас, здесь я. Не стреляйте в меня! Не стреляйте!
– Кто вы? Кто здесь?
Стрелок бросился ко мне, и я по мере его приближения различила во мраке большое белое лицо. Это был мой старый знакомец – слесарных дел мастер, одетый в просторную куртку.
– О, это вы! – с облегчением проговорила я. – Очень рада! Мне жаль, что я не захватила для вас пирога, я весьма занята.
– А, – произнес он, оказавшись от меня достаточно близко, чтобы хорошенько рассмотреть. – А, все в порядке.
– Что вы делаете?
– Не надо их жалеть. Их тут полным-полно, – объяснил он. – Кошки повсюду, куда ни глянь. Шерсть, вонь – по всем углам дворца. И у меня время от времени возникает желание справиться с этой напастью. Иди сюда, садись, – слесарь похлопал по скату крыши.
– Начинается дождь, – заметила я. – Может быть, мне лучше спуститься вниз?
– Перестань, только чуть-чуть покапало. Я все оботру. Вот. Давай, садись, садись. Я настаиваю!
Я присела рядом с ним, и меня обдало волной тепла от его крупного тела. Он накинул на меня полу своей объемистой куртки, и так мы сидели рядышком в кромешной тьме.
– Тебе тут нравится? – спросил он и продолжал: – А я вот что скажу. Мне здесь нравится! Я частенько сюда прихожу. Эта крыша, так мне иногда кажется, единственное спокойное место во всем дворце, ну разве что когда я не стою возле своего горна. Как же я люблю такие моменты покоя! Ах!
– Ах! – повторила я, подражая его вздоху.
– Хорошо тут. На крыше.
– На крыше, – повторила я. – И вокруг никого! Можно притвориться, что, кроме нас, вообще никого нет. И во дворце внизу ни души. Только мы и ночь!
– Чудесная идея! Думаю, мне было бы проще, если бы меня не окружали люди. Я человек практический. С умелыми руками. Полагаю, если бы я очутился на необитаемом острове, я бы прекрасно справился с тяготами жизни. Я бы точно знал, чем заняться. А тут вечно люди. И конца им нет. Есть одна замечательная книга о жизни на необитаемом острове. Я много раз ее перечитывал. Ты ее знаешь?
– Не думаю.
– Она называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим»
– Очень длинное название.
– Но книга изумительная.
– Давайте вообразим, что, кроме нас, тут, на крыше, больше никого нет, – пустилась я фантазировать, – а мир погиб при потопе.
– Прелестно!
– Правда?
– Правда.
– Ни законов, ни войн, ни аудиенций, ни этикета.
– О таком и Ной не мог бы мечтать!
– Но остались бы только пироги, да?
Так мы сидели вдвоем на крыше, в полном одиночестве, и беседовали о необитаемых островах, о муке, масле и яйцах, из которых готовится тесто, а еще о замках и пружинах, пока лакей в голубой ливрее на нарушил наш безмятежный покой, принеся нам зонтик. Сначала я решила, что он пришел за мной, чтобы увести внутрь, но это был другой лакей, и он не вступил с нами в беседу и даже старался отводить взгляд, а просто раскрыл над нами зонтик. Мне сие показалось странным, но вскоре я и думать про него забыла, покуда мы со слесарем продолжали нашу беседу. Мы просидели на крыше уже часа два, когда появился лакей Елизаветы. Поглощенная беседой, я и не заметила возвращения ее кареты. Я распрощалась со слесарем и оставила его сидеть на крыше, в компании лакея в ливрее и зонтика. Напоследок я подумала, какой это был в общем приятный вечер, если не считать пропущенного мной приезда кареты принцессы.
Глава тридцать седьмая
Все больше людей во дворце замечали благодетельное влияние Елизаветы на простой народ. В то же время старая мадам Мако все чаще оставалась в постели, ссылаясь на многочисленные болезни, не мешавшие ей, впрочем, поглощать столь ею любимые миндальные пирожные. Однажды мы с Елизаветой навестили старую даму в ее затхлых покоях в третьем этаже. Она поприветствовала принцессу, назвав ее «мое чудесное преданное дитя», и поблагодарила за то, что та не забывает «старого друга», но мне не сказала ни слова. Когда же Елизавета поинтересовалась, где у нее болит, та сконфузилась и толком не смогла объяснить.
– Везде болит! – только и ответила она, причем весьма запальчиво. Елизавета записала ее слова в реестр, а потом мы вылепили из воска миниатюрную мадам Мако и оставили ее в часовне рядом с прочими дарами. После чего вернулись к Мако, так как Елизавета пожелала сообщить ей об этом благодеянии, но старая дама лишь стонала в постели, повернувшись к нам спиной.
– Болезнь, – заявила она, – не знает правил приличия.
В то лето Елизавета обрела почти полную свободу. Тирания Мако подходила к концу. Все последние недели она шмыгала носом и потела, неизменно обещая вернуться на службу, но постель обладала для нее слишком притягательной силой. Тяжелый матрас взял тело старой дамы в гостеприимные объятья, служа надежной опорой ее дряхлым костям, и она уже не мыслила себе жизни без него. Матрас вбирал, впитывал ее в себя – точно так же, уверена, он поглощал жир из ее дряхлого тела, так что когда старая дама совсем разболелась, матрас заметно поздоровел, раздавшись вширь и став пухлее. Этот хищный матрас, точно гигантская пиявка, высасывал из старой дамы жизнь. В отсутствие Мако, покуда та постепенно сдавалась на милость матрасу, мы продолжали выезжать с визитами за пределы дворца, после чего изготавливали все больше и больше даров для местной церкви. Как-то испросив дозволения войти в бедняцкую хижину, мы получили отказ у жившего там противного юноши.
– Верно, ему стыдно, – предположила Елизавета. – Вот в чем причина.
– А может быть, – предположила я, – ему просто не хочется видеть нас у себя.
– Не хочется? Отчего же? Чем мы ему не угодили?
– Это его дом. Он там хозяин.
– Дом принадлежит моему брату.
– Неужели?
– Несомненно.
– Тогда твоему брату следует его отремонтировать.
– Моему брату надо заботиться о всей стране. Я езжу в деревню. Ты ничего в этом не смыслишь. Это не твое дело.
Она была весьма раздражена. Ей всегда с трудом удавалось найти наилучший способ отреагировать на увиденное. Обнаруживалось так много противоречий между тем, что она слышала от других, и тем, что видела собственными глазами, что ей приходилось двигаться по жизни ощупью, не полагаясь на свое положение или знание. Она была девушкой, стремящейся найти место в жизни на свой страх и риск. Да мы обе были такими.
В наших отважных поисках недужных и увечных мы нашли во дворце, помимо мадам Мако, еще одного пациента. Однажды днем Елизавета сама открыла дверцы моего буфета:
– Де Ламбаль! Идем быстрее, сердце мое! Де Ламбаль снова упала в обморок!
– Иду! А кто такая де Ламбаль?
– О, да ты никого не знаешь, что ли! Это милая дама, но очень хрупкая. Ее муж умер молодым, и она с тех пор постоянно падает в обморок. Однажды она лишилась чувств, унюхав запах фиалок. А в другой раз, можешь себе представить, увидев омара на картине! А когда Антуанетта пожаловалась на головную боль, она тут же лишилась чувств, наверное, из сострадания к Антуанетте. То есть она падает в обморок по любому поводу. Разве это не ужасно?
– А королева будет с ней, как думаете?
– Конечно, будет. Ламбаль ее фаворитка. Бедняжка…
Лишившуюся чувств даму мы нашли в одном из дворцовых салонов – все еще в глубоком забытьи. Придворные дамы окружили ее, бледную, лежащую в нелепой позе, о чем-то перешептываясь. Я огляделась.
– А где королева, мадам Елизавета? Какая из них королева?
– Королева, сердце мое? О, я нигде не вижу королеву.
Стая врачей хлопотала вокруг обмякшего тела: бедняжке уже пустили кровь. Мы с Елизаветой медленно протискивались вперед, а когда один из врачей отошел в сторону, быстро заняли его место. Дама была, безусловно, жива, ее плоская грудь вздымалась и опускалась. Я нагнулась, чтобы получше ее рассмотреть. Это была приближенная королевы. Я увидела кровь Марии-Терезы де Ламбаль в небольшом фарфоровом сосуде, в который заглядывал врач.
– Где таится ее недуг? – спросила у него Елизавета.
– В нервах, мадам. Ее нервы очень легко возбудимы.
– Благодарю вас, – ответила Елизавета и поспешила прочь. – Теперь мы все знаем.
– Прошу прощения, – прошептала я, обратившись к врачу, – а королева скоро появится?
– Королева? Что вам за дело?
– Я с мадам Елизаветой, и ее юное высочество просило узнать, – соврала я.
– Королева желала остаться, – ответил врач, – но я не мог ей этого позволить. У несчастной дамы случились судороги, а судороги, как известно, провоцируют выкидыши, поэтому королева, будучи в известном положении, немедленно была уведена.
– Давно?
– Минут пять назад.
– Всего пять минут!
– Пойдем, сердце мое! – позвала меня Елизавета.
Мы вылепили восковой мозг для мадам де Ламбаль, которая после этого довольно быстро пришла в себя. Когда мы оставались наедине, Елизавета спрашивала меня про мужчин и их тела. Я рассказывала ей все, что знала, и делала для нее муляжи, чтобы она лучше понимала предмет, кроме того, из библиотеки были принесены анатомические атласы для наглядности. Я снова вспомнила Эдмона, хотя его тело представлялось мне слишком далеким и безжизненным, как кусок холста. Наверное, я очень чувствительная, говорила я себе; так уж я была воспитана, мне нужно попытаться пережить боль. Как-то мы отправились посмотреть на кобеля и суку, помещенных вместе в один загон, но увиденное зрелище совсем не понравилось Елизавете, да и у меня это вызвало неприятие и раздражение. Тем не менее, по словам принцессы, ей надо было готовиться к бракосочетанию, которое, как она всегда уверяла меня, состоится очень скоро.
– А ты выйдешь замуж, сердце мое? – спросила она.
– Нет, мадам, я очень в этом сомневаюсь.
– Да я и не думала. Я просто так спросила, из вежливости. Когда я выйду замуж, я за тобой пошлю. Ты ведь всегда будешь при мне.
Она попросила меня нарисовать для нее пару мужских губ, чтобы она могла практиковаться их целовать.
– Нет, – сказала я, – не так. Вы все делаете неправильно. Вы клюете, мадам. Вы разве раньше не целовали никого?
– Ну, конечно, а как же! Ну, нет… не так. А ты?
– Я, можно сказать, да, целовала.
– О, сердце мое! Это правда? Кого-то вроде тебя?
– Да. Я вас научу.
Губы для практических занятий
Я поцеловала ее.
– Ты меня поцеловала!
– В учебных целях!
– Очень хорошо!
Я поцеловала ее еще раз, крепче.
Губы мадам Елизаветы
– Вот как это делается!
– Ты уверена?
– Более чем уверена.
– Это ужасно!
– Нет-нет, ничего подобного.
– Тогда давай попробуем еще раз.
И мы попробовали. И потом, как только подворачивался удобный случай, мы практиковались снова и снова – за плотно закрытыми дверями. А иногда, кроме того, мы нежно указывали и поглаживали то или иное место на наших телах, где располагались наши органы.
– Покажите мне, мадам, где у меня сердце. Дотроньтесь!
– Покажи мне, сердце мое, где у меня легкие, а где чрево.
Это было королевское тело, и я, практически ее близнец, находила радость в том, что могла до него дотрагиваться. И наши сердца, сердца двух маленьких женщин, когда мы оставались наедине, наигрывали друг другу одну и ту же мелодию.
Настал день, когда мадам Мако наконец нашли бездыханной на ее вспучившемся матрасе. И уже после того, как покойницу унесли, матрас, казалось, продолжал какое-то время пульсировать в такт ее сердцебиению, пока в конце концов не ужался и не обмяк, лишившись одутловатости и вновь обретя нормальный вид, после чего его сожгли на заднем дворе.
И из лета, прошедшего под знаком неизлечимой болезни мадам Мако, мы вступили в ужасающую осень мадам Гемене. Гемене-розга, Гемене-зануда, Гемене – вестница несчастий, почти лишенная подбородка – и отсутствие подбородка, вероятно, объясняло ее свирепый нрав, отчего злобная гримаса никогда не слезала с ее лица, придирки никогда не истощались, а взгляд всегда оставался осуждающим. Тут уж нам было не до приятных забав. Елизавете пришла пора стать женщиной, и этот процесс, как сразу выяснилось, обещал быть болезненным. Игрушки – на выброс! Скакалки, мячики, левретки и карликовые лошадки – отныне все оказалось под запретом.
– Держи спину прямо! Сиди прямо! – таков был девиз тех осенних дней. Глупышке-Бомбе запретили появляться в апартаментах принцессы. Елизавета, застигнутая за перешептыванием с ней за дверью, выслушала целую лекцию о недопустимости подобного поведения. С вечно ухмыляющейся Яростью отныне дозволялось видеться лишь раз в неделю. Флегматичная Фурия могла оставаться при условии, что хранила молчание, да так оно и было: ведь именно в этом заключалась ее роль – всегда молчать. Мой конкурент, гипсовый Иисус Христос, вынимался из коробки и почти все время оставался на виду. Когда же Елизавета выходила из себя, а поначалу это происходило довольно часто, Гемене дозволяла ей стучать ногой по полу и пинать предметы мебели, но саму даму без подбородка бить запрещалось. Эта розга в женском обличье распахивала окна пошире и предлагала принцессе высунуться наружу и звать на помощь, но никто никогда не приходил ей на выручку. Елизавета, с распухшим от гнева лицом и несчастным выражением глаз, не имела иного выбора кроме как притихнуть. Однажды, когда она куснула Гемене, та отвесила ей шлепок.
– Я же принцесса! – вскричала Елизавета.
– Ну так и ведите себя соответственно!
Гемене вытряхнула из Елизаветы всю ее жизнерадостность и заменила привычкой сидеть с прямой спиной и держать язык за зубами. И очень скоро Елизавета уже с трудом могла поддерживать беседу, боясь получить очередное замечание. Запертая в буфете и все реже вызываемая оттуда, я как-то приноровилась к новым строгостям той осени, всегда одетая в чистое платье и всегда отвешивая низкий реверанс при виде Гемене, и мне позволили остаться при Елизавете, хотя мы с принцессой долго опасались, как бы меня не отослали домой. В те осенние дни ее последних протестов и в течение зимы ее смирения Елизавета ни на минуту не оставалась одна. Около нее всегда кто-то сидел, делая замечания по поводу манеры держать чашку, привычки много есть и осанки. Но временами, если я соблюдала осторожность, мне удавалось подержать ее за руку или торопливо запечатлеть на ее щеке мимолетный поцелуй, пока мы были в скульптурной мастерской. Я все повторяла, что никуда от нее не уеду, ведь я ее приближенная, ее второе тело. И в доказательство этого я обнаружила свое имя напечатанным в новом издании «Альманаха», в самом низу списка ее учителей и наставников:
М-м ле Ру, библиотекарь мадам Елизаветы
М-ль Пайан, чтица
М-м Симон, мастерица игры на клавесине
М-м Бойи, мастерица игры на арфе
М-ль Гросхольц, мастерица по воску
Эту страницу я изучила особенно тщательно. В минуты одиночества я читала ее себе вслух. А вскоре после того, как появилась эта книга, мне наконец выпала возможность оказаться рядом с королевой.
Глава тридцать восьмая