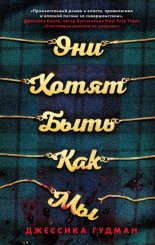Грязная работа Мур Кристофер
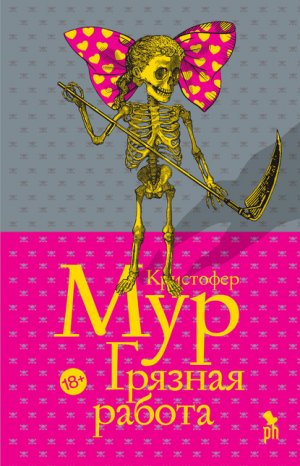
Christopher Moore
A Dirty Job
© 2006 by Christopher Moore
© Максим Немцов, перевод, 2008, 2020
© Андрей Бондаренко, оформление, 2020
© “Фантом Пресс”, издание, 2020
Эта книга посвящается Патрише Мосс, которая в своей смерти была так же щедра, как и в жизни, и работникам и волонтерам хосписов всего мира
Часть первая. Дела прискорбные
“Эпос о Гильгамеше”[1]
- Гильгамеш! Куда ты стремишься?
- Жизни, что ищешь, не найдешь ты!
- Боги, когда создавали человека, —
- Смерть они определили человеку,
- Жизнь в своих руках удержали.
- Ты же, Гильгамеш, насыщай желудок,
- Днем и ночью да будешь ты весел,
- Праздник справляй ежедневно,
- Днем и ночью играй и пляши ты!
- Светлы да будут твои одежды,
- Волосы чисты, водой омывайся,
- Гляди, как дитя твою руку держит,
- Своими объятьями радуй подругу —
- Только в этом дело человека!
1. Коль я за Смертью не зашел, Она пришла за мной…
Чарли Ашер ходил по земле, как муравей по воде: малейший неверный шаг – и его засосет в глубины. Благословенный воображением бета-самца, в жизни он по большей части вглядывался в будущее, дабы успеть засечь, каким манером мир сговаривается его прикончить. Его самого; Рейчел; а теперь и новорожденную Софи. Но, невзирая на всю внимательность, паранойю, беспрестанную суету с того дня, когда Рейчел выписала на тесте беременности синюю полоску, и заканчивая тем днем, когда Рейчел вкатили в послеродовую палату Больницы имени Св. Франциска, – Смерть все-таки вкралась.[2]
– Она не дышит, – сказал Чарли.
– Отлично она дышит, – ответила Рейчел, поглаживая кроху по спинке. – Хочешь подержать?
В тот день Чарли уже подержал младенца Софи несколько секунд – и поспешно вручил медсестре, заявив, что пальчики на руках и ногах должен считать более квалифицированный специалист. Сам он пересчитал дважды и оба раза дошел до двадцати одного.
– Все делают вид, будто ничего особенного не про-исходит. Мол, все будет прекрасно, если у ребенка минимум десять пальцев на руках и десять на ногах. А вдруг лишние? А? Неучтенка с пальчиками? Что, если у ребенка хвост?
(Чарли был уверен, что в шесть месяцев опознал хвост на сонограмме. Пуповина, щас! Распечатку он сохранил.)
– У нее нет хвоста, мистер Ашер, – терпеливо сказала сестра. – И пальцев десять и десять, мы всё проверили. Может, вам пойти домой отдохнуть?
– Я все равно ее люблю, даже с лишним пальчиком на руке.
– Она вся – нормальная.
– Или ноге.
– Мистер Ашер, мы правда знаем, что делаем. У вас красивая здоровая девочка.
– Или с хвостиком.
Медсестра вздохнула. Она была приземиста, широка в кости, и на правой икре у нее сквозь медсестринский чулок виднелась татуированная змея. По четыре часа каждый рабочий день медсестра массировала недоношенных, продев руки в отверстия люцитового инкубатора, как будто в нем помещалась радиоактивная искра. Медсестра с ними разговаривала, ласково их увещевала, рассказывала, какие они особенные, и чувствовала, как внутри у них трепещут сердечки не больше свернутой в комок пары спортивных носков. И плакала над каждым, и верила, что слезами своими и касаньем переливает в их тельца капли своей жизни, – что вполне ее устраивало. Ей не жалко. Неонатальной медсестрой она работала уже двадцать лет и ни разу не повысила голос на свежего папашу.
– Черт бы вас подрал, нет у нее никакого хвостика, обалдуй! Ну сами посмотрите! – Медсестра отвернула одеяльце и нацелила попку младенца Софи на Чарли так, словно собиралась дать залп какашками оружейного класса такой мощи, что простодушному бета-самцу и не снилась.
Чарли отпрыгнул – вот вам поджарый и проворный тридцатник в чистом виде, – а затем, сообразив, что младенец не заряжен, огладил лацканы твидового пиджака жестом праведного негодования.
– Может, вы удалили его в родильном отделении, и мы так и не узнаем. – Сам-то наверняка он не знал. Из палаты его выдворяли сначала акушер-гинеколог, а под конец – сама Рейчел.
– Он или я, – произнесла она. – Кто-то из нас тут лишний.
В палате Чарли сказал Рейчел:
– Если ей удалили хвост, я хочу его забрать. Вдруг понадобится, когда она повзрослеет.
– Софи, твой папа вообще-то не спятил. Он просто пару дней не спал.
– Она смотрит на меня, – сказал Чарли. – Она смотрит на меня так, будто я на скачках спустил все деньги на колледж и перед тем, как пойти на физфак, ей придется идти на панель.
Рейчел взяла его за руку.
– Милый, я думаю, глаза у них так рано еще не фокусируются, а кроме того, ей рановато переживать, надо ли ей по пути на филфак заходить на панель.
– Физфак, – поправил Чарли. – В наши дни они взрослеют рано. К тому времени, как я разыщу ипподром, она может и вырасти. Господи, твои родители меня возненавидят.
– И что изменится?
– Другие поводы. Теперь я сделал их внучку шиксой.
– Она не шикса, Чарли. Мы это уже проходили. Она моя дочь, а потому – тоже еврей.
Чарли опустился на одно колено у кровати и двумя пальцами взял Софи за крохотную ручку.
– Прости папу, что сделал тебя шиксой. – Он поник головой, спрятав лицо в лощинке, где младенец смыкался с материнским боком. Рейчел провела ногтем по узкому лбу Чарли, очертив вдоль волос резкий разворот.
– Тебе надо поехать домой и выспаться.
Чарли пробормотал что-то в простыни. А когда поднял голову, в глазах его стояли слезы.
– Она теплая на ощупь.
– Она и есть теплая. Ей так положено. Она млекопитающая. Грудное вскармливание. Ты чего плачешь?
– Какие вы прекрасные, ребята. – Он разложил темные волосы Рейчел на подушке, одним длинным локоном обвил головку Софи и стал укладывать его в детский паричок. – И если волосы у нее не вырастут, это ни-чего. Была же такая сердитая лысая певица где-то в Ирландии – и ничего, симпатичная[3]. Если у нас будет хвостик, можно с него пересадить.
– Чарли! Иди домой!
– Твои родители скажут, что я во всем виноват. Что их лысая внучка шикса, на панели зарабатывает себе на физфак – и все из-за меня.
Рейчел схватила звонок с одеяла и воздела так, будто он подсоединен к бомбе.
– Чарли, если ты сейчас же не поедешь домой и не ляжешь спать, клянусь – я вызову сестру, и тебя отсюда вышвырнут.
Говорила она строго, но при этом улыбалась. Чарли нравилось смотреть, как она улыбается, – он всегда это любил: одновременно походило на одобрение и дозволение. Дозволение быть Чарли Ашером.
– Ладно, поеду. – Он пощупал ей лоб. – У тебя жар? Ты не устала, нет?
– Я только что родила, бабуин!
– Я просто беспокоюсь за тебя. – Он не был бабуином. Она упрекает его за хвостик Софи, потому и назвала бабуином, а не обалдуем, как все остальные.
– Миленький, езжай. Ну? А я немножко отдохну.
Чарли взбил подушки, проверил кувшин с водой, подоткнул одеяло, поцеловал Рейчел в лоб, поцеловал младенца в голову, взбил младенца, после чего стал поправлять цветы, присланные его матерью: лилию-звездочет вперед, подчеркнуть веточками бабьего ума…
– Чарли!
– Иду, иду. Господи. – В последний раз окинув палату взглядом, он попятился к двери. – Тебе привезти чего-нибудь из дому?
– Ничего не надо. По-моему, ты собрал весь комплект. Вообще-то, я думаю, огнетушитель мне уже не пригодится.
– Лучше перебдеть, чем недобдеть…
– Иди! Я отдохну, доктор проверит Софи, а утром мы увезем ее домой.
– Что-то быстро.
– Так принято.
– Нужен еще пропан для походной печки?
– Попробуем сэкономить.
– Но…
Рейчел замахнулась звонком так, будто последствия будут суровы, если ее требованиям не пойдут на-встречу.
– Я тебя люблю, – сказала она.
– Я тоже тебя люблю, – ответил Чарли. – Вас обеих.
– Пока, папочка. – Кукловод Рейчел помахала ему ручонкой Софи.
К горлу Чарли подкатил комок. Никто раньше не звал его “папочкой” – даже куклы. (Он, правда, однажды за сексом осведомился у Рейчел: “Кто твой папочка?” – на что она ответила: “Сол Голдстин”, отчего на неделю Чарли стал импотентом и у него возникли разно-образные вопросы, задавать которые не очень хотелось.)
Чарли попятился из комнаты, ладонью прикрыл за собой дверь, затем направился по коридору и мимо стола, из-за которого неонатальная медсестра со змеей на ноге косвенно ему улыбнулась.
Чарли ездил на минифургоне-шестилетке, унаследованном от отца вместе с лавкой старья и зданием, где та располагалась. В минифургоне всегда попахивало пылью, нафталином и потом, несмотря на целый лес благоухающих рождественских елочек, которые Чарли развешивал по всем крючкам, ручкам и выступам в салоне. Он открыл дверцу, и его омыл аромат нежеланного – этим товаром и торгуют старьевщики.
Не успев даже вставить ключ в зажигание, Чарли заметил компакт-диск Сары Маклахлан[4] на пассажирском сиденье. Да, Рейчел его будет не хватать. Ее любимый диск – а она приходит в себя после родов без него; такого Чарли не потерпит. Он схватил диск, закрыл фургон и кинулся обратно в палату.
К его облегчению, медсестра покинула свой пост, а потому Чарли не пришлось выдерживать ее ледяной укоризненный взгляд – ну, во всяком случае, он рассчитывал на лед укоризны в этом взгляде. Мысленно подготовил краткую речь о том, что хороший муж и отец предугадывает нужды и потребности жены, а это, в свою очередь, означает и доставку ей музыки… Ладно, речь пригодится и на обратном пути, если его окатят ледяной укоризной.
Дверь в палату он открыл медленно, чтобы не испугать жену. Он предвкушал ее теплую улыбку неодобрения, но Рейчел, судя по всему, спала – а у кровати ее стоял очень высокий черный человек, одетый в мятно-зеленое.
– Что вы тут делаете?
Человек в мятно-зеленом, вздрогнув, обернулся.
– Вы меня видите? – Он ткнул в свой шоколадного цвета галстук, и Чарли – всего лишь на секунду – вспомнил тоненькие мятные пастилки, которые кладут на подушки в тех отелях, что получше.
– Конечно, вижу. Что вы тут делаете?
Чарли подступил ближе к кровати Рейчел, поместив себя между незнакомцем и своей семьей. Младенца Софи черный дылда, похоже, заворожил.
– Это нехорошо, – сказал Мятный.
– Вы ошиблись палатой, – произнес Чарли. – Уходите отсюда. – Он потянулся назад и потрепал Рейчел по руке.
– Это очень и очень нехорошо.
– Сэр, моя жена пытается заснуть, а вы ошиблись палатой. Уйдите, пожалуйста, пока я…
– Она не спит, – сказал Мятный. Голос его был мягок и звучал немного по-южному. – Простите.
Чарли повернулся и посмотрел на Рейчел, рассчитывая увидеть ее улыбку, услышать, как она велит ему успокоиться, но глаза жены были закрыты, а голова скатилась с подушки.
– Милая? – Чарли выронил диск и бережно потряс жену. – Милая?
Младенец Софи заплакала. Чарли пощупал лоб Рейчел, взял ее за плечи и потряс сильнее.
– Милая, проснись. Рейчел. – Он приложил ухо к ее сердцу – и ничего не услышал. – Сестра! – Пошарил по постели и схватил звонок, выпавший на одеяло. – Сестра! – Он заколотил по кнопке, затем развернулся к человеку в мятно-зеленом. – Что здесь…
Тот исчез.
Чарли выбежал в коридор, но там никого не было.
– Сестра!
Через двадцать секунд явилась медсестра со змеей на ноге, а еще через тридцать – бригада реаниматоров со своей экстренной каталкой.
Медицина оказалась бессильна.
2. Тонкая грань
У новой скорби тонкая грань, она режет нервы, отсекает реальность – острое лезвие милосердно. Лишь со временем, когда оно затупляется, приходит подлинная боль.
Поэтому Чарли едва ли осознавал, как вопил в больничной палате Рейчел, как ему кололи успокоительное, как в тот первый день все окутывала пленкой электризованная истерия. После – воспоминания из прогулки лунатика, сцены, снятые из глазницы зомби: он, живой труп, пробирается сквозь объяснения, обвинения, приготовления и церемонию.
– Это называется тромбоэмболией сосудов головного мозга, – сказал ему врач. – При родах в ногах или почечной лоханке образуется сгусток, затем он перемещается в мозг и перекрывает кровоток. Очень редко, но случается. Медицина бессильна. Если бы даже реаниматоры сумели ее оживить, ущерб для мозга был бы обширен. Боли она не почувствовала. Вероятно, ей просто захотелось спать, и она скончалась.
Чтобы не закричать, Чарли прошептал:
– Человек в мятно-зеленом! Он ей что-то сделал. Он что-то ей вколол. Он там был, он знал, что она умирает. Я его видел, когда вернулся с диском.
Ему показали пленки службы безопасности, и все – медсестра, врач, администраторы и юристы – посмотрели черно-белые кадры: вот Чарли выходит из палаты Рейчел, вот пустой коридор, вот Чарли возвращается в палату. Никакого черного дылды в мятно-зеленом. Даже компакт-диск не нашли.
Недосып, сказали все. Галлюцинации, вызванные измождением. Травма. Ему дали что-то для сна, что-то от тревожности, что-то от депрессии и отправили домой с малюткой-дочерью.
Когда на второй день Рейчел отбормотали и похоронили, малютку Софи держала на руках Джейн, старшая сестра Чарли. Он не помнил, как выбирал гроб, как все улаживал. Больше походило на сон сомнамбулика: взад-вперед шаткими призраками перемещались ее родственники в черном, извергая малоадекватные клише соболезнований:
– Нам очень жаль. Она была так молода. Какая трагедия. Если мы чем-то можем помочь…
Отец и мать Рейчел обнимали Чарли, соприкасаясь с ним головами в вершине треножника. Сланцевый пол похоронного зала был испятнан их слезами. Всякий раз, когда плечи тестя сотрясались от рыданий, сердце Чарли разрывалось вновь. Сол сжал лицо зятя ладонями и сказал:
– Ты не представляешь, потому что я не представляю.
Но Чарли представлял, ибо он был бета-самцом и на нем лежала проклятая печать воображения; он представлял, потому что потерял Рейчел, а теперь у него дочь – эта крохотная незнакомка, что спит у его сестры на руках. Он представлял, как и ее забирает человек в мятно-зеленом.
Чарли посмотрел на пол в пятнах от слез и сказал:
– Вот почему большинство похоронных залов застелено коврами. А то кто-нибудь поскользнется.
– Бедный мальчик, – произнесла мать Рейчел. – Мы, разумеется, посидим с тобой шиву.
Чарли пробрался через зал к сестре; на той был его двубортный костюм из темно-серого габардина в тонкую полоску, и от сочетания суровой прически поп-звезды восьмидесятых и младенца в розовом одеяльце сестра смотрелась не столько андрогинной, сколько попутанной. Чарли считал, что на ней костюм сидит гораздо лучше, чем на нем, но все равно могла бы и спросить разрешения.
– Я так не могу, – сказал он. И дал себе рухнуть вперед, пока отступающий клин его темных волос не уперся в ее склеенный гелем платиновый чубчик имени “Стаи чаек”[5]. Ему казалось, что для скорби это лучшая поза – вот так бодаться: вроде как пьяно стоишь у писсуара и падаешь, пока не воткнешься головой в стену. Отчаяние.
– Ты отлично держишься, – сказала Джейн. – Так редко у кого получается.
– Что такое, нахуй, “шива”?
– Мне кажется, это такой индусский бог со всякими руками.
– Что-то не то. Голдстины собираются со мной на нем сидеть.
– Рейчел что, не научила тебя быть евреем?
– Я не обращал внимания. Думал, у нас еще есть – время.
Джейн переместила малютку Софи в позу мяча в руке полузащитника, а свободную ладонь положила Чарли на загривок.
– У тебя все будет хорошо, братишка.
– Семь, – сказала миссис Голдстин. – “Шива” означает “семь”. Раньше мы сидели семь дней, оплакивали покойных, молились. Так делали ортодоксы, теперь же большинство сидит всего три.
Шиву они сидели в квартире Чарли и Рейчел, выходившей на линию канатной дороги на углу Мейсон и Вальхо. Здание это – четырехэтажное, эдвардианское (архитектурно – не вполне кутюр роскошной викторианской куртизанки, но все равно вульгарных оборок и хлама довольно, чтобы наскоряк оприходовать морячка в переулке) – построено было после того, как землетрясение и пожар 1906 года смели с лица земли целый район, ныне ставший Северным пляжем, Русским холмом и Китайским кварталом. Когда четырьмя годами ранее умер отец, Чарли и Джейн унаследовали здание вместе с лавкой старья, занимавшей первый этаж. Чарли достались дело, просторная спаренная квартира, где прошло их детство, и стоимость содержания развалюхи, а Джейн – половина дохода от аренды и одна из квартир на верхнем этаже с видом на мост Бей-бридж.
По распоряжению миссис Голдстин все зеркала в доме затянули черной тканью, а на кофейный столик посреди гостиной водрузили здоровенную свечу. Сидеть полагалось на низких скамеечках или подушках, в доме ни того ни другого не нашлось, поэтому Чарли впервые после смерти Рейчел спустился в лавку за чем-нибудь подходящим. Из кладовой за кухней черная лестница вела на склад, где Чарли среди ящиков товара, который еще предстояло рассортировать, оценить и вынести в лавку, устроил себе кабинет.
Внутри было темно, если не считать того света, что сочился в витрину от уличных фонарей на Мейсоне. Чарли остановился у подножия лестницы, не снимая руки с выключателя, – просто смотрел. Среди полок с безделушками и книгами, башен старых радиоприемников, вешалок с одеждой – все темное, сплошь бугристые тени во мраке – что-то тлело красным, чуть ли не пульсировало, словно бились сердца. На вешалках – свитер, в горке с антиквариатом – фарфоровая лягушка, у самой витрины – старый поднос “Кока-Кола”, пара башмаков. Все это рдело.
Чарли щелкнул выключателем, флуоресцентные трубки зажглись, сперва помигав, жизнью, и вся лавка осветилась. Красное сияние погасло.
– Таааак, – сказал себе Чарли – спокойно сказал, точно теперь все было в полном порядке. Выключил свет. Горящая красная хрень. На стойке неподалеку тускло светилась латунная визитница, отлитая в виде американского журавля. Секунду Чарли к ней присматривался – просто убедиться, что на нее не падает жуткий – отсвет какого-нибудь красного фонаря сна-ружи. Шагнул в темную лавку, вгляделся в латунного журавля пристальнее, склонив голову набок. Не-а, красным явно пульсировала сама латунь. Чарли развернулся и рванул вверх по лестнице изо всех сил.
Влетев в кухню, он едва не сшиб Джейн, которая нежно укачивала малютку Софи на руках, что-то ей при этом тихонько воркуя.
– Что? – спросила Джейн. – Я же знаю, у тебя внизу валяются какие-то здоровые подушки.
– Не могу, – ответил Чарли. – Я удолбался. – И он рухнул на холодильник так, словно брал его в заложники.
– Я принесу. На, подержи ребенка.
– Не могу, я обдолбан. У меня галлюцинации.
Джейн разместила младенца в изгибе правой руки, а левой обняла младшего брата за плечи.
– Чарли, ты принимаешь антидепрессанты и успокоительные, а не трескаешь кислоту. Посмотри – вокруг, здесь же все на чем-нибудь сидят. – Чарли – послушно – выглянул в кухонный проход: женщины в черном, большинство – средних лет или старше, качают – головами, мужчины держатся стоически, рассредоточились по периметру гостиной, у каждого в руках – по солидному стакану, все пялятся в пространство. – Видишь, всем пиздец.
– А маме? – Чарли показал подбородком на мать, выделявшуюся из прочих седовласых дам в трауре. Она была обвешана серебряными украшениями навахо и так загорела, что, делая глоток “старомодного”[6], вся будто утекала в стакан.
– Маме особенно, – ответила Джейн. – Схожу по-ищу, на чем сидеть шиву. Не знаю, почему нельзя на диване. Бери дочь.
– Не могу. Мне доверять ее не стоит.
– Бери, сука! – рявкнула Джейн прямо в ухо брату – но как бы шепотом. Между ними уже давно решилось, кто в доме альфа-самец, – им был не Чарли. Джейн сунула ему в руки малютку и направилась к лестнице.
– Джейн, – воззвал к ее спине брат. – Ты там оглядись, перед тем как зажигать свет. Может, какую жуть заметишь.
– Ну да. Жуть.
Джейн оставила Чарли в кухне – он внимательно осматривал дочь: ну, может, голова чуть продолговатая, а так немножко похожа на Рейчел.
– Твоя мамочка любила тетю Джейн, – сообщил он малютке. – Они вместе разбивали меня в “Риск”… и в “Монополию”… и в спорах… и на кухне у плиты. – Спиной он сполз по холодильнику на пол, уселся, раскинув ноги, и зарылся лицом в одеяльце Софи.
В темноте Джейн шваркнулась лодыжкой о деревянный ящик со старыми телефонами.
– Да это просто дурь какая-то, – сказала она себе и щелкнула выключателем. Никакой жути. Затем – потому что Чарли бывал кем угодно, только не психом – опять выключила свет: ничего не пропустила? – Жуть, ага.
Никакой жути в лавке не наблюдалось – за исключением самой Джейн, которая стояла в торговом зале и потирала лодыжку. Но, не успев снова зажечь свет, Джейн заметила, как снаружи кто-то заглядывает в витрину – ладонями защищает глаза, чтобы пробиться взглядом сквозь отражения фонарей. Пьяный турист или бездомный, решила она. Прошла по темной лавке между минаретами комиксов и укрылась за вешалкой с пиджаками, откуда хорошо просматривалась витрина, вся в гроздьях дешевых фотоаппаратов, уставленная вазами, усыпанная ременными пряжками и прочим барахлом, кое Чарли почитал достойным покупательского – интереса, но не достойным того, чтобы раскокать стекло и стибрить.
Мужик был вроде высок ростом и не бездомен – одет прилично, только отчасти монотонно, в светлое. Джейн показалось – в желтое, но под уличными фонарями не угадаешь. Может, и светло-зеленое.
– Мы закрыты, – сказала она громко, чтоб ее услышали сквозь стекло.
Человек снаружи оглядел всю лавку, но Джейн не – заметил и отошел от окна. И впрямь дылда. Очень дылда. Свет поймал линию его скулы, когда он повернулся. А кроме того, очень худ и до крайности черен.
– Я ищу хозяина, – сказал дылда. – Надо ему кое-что показать.
– В семье горе, – ответила Джейн. – Мы будем закрыты всю неделю. Можете прийти через неделю?
Дылда кивнул, оглядывая всю улицу слева и справа. Качнулся на одной ноге, будто собирался задать стрекача, но все время останавливал себя – как спринтер, напрягшийся у стартовой колодки. Джейн не шелохнулась. На улице всегда кто-нибудь есть, к тому же еще даже не слишком поздно, только мужик все равно какой-то дерганый.
– Послушайте, если вам нужно что-нибудь оценить…
– Нет, – оборвал он. – Нет. Просто передайте ему, что она… нет, скажите, пусть ждет бандероли почтой. Пока не знаю, когда придет.
Джейн сама себе улыбнулась. У мужика что-то есть – брошка, монета, книга, – и штуковина эта, считает мужик, принесет ему какие-никакие деньги; выкопал, наверное, в бабушкином чулане. Такое Джейн видела десятки раз. Ведут себя при этом так, словно отыскали потерянный город Эльдорадо, – приходят, запрятав вещицу под курткой или обернув в тысячу слоев папиросной бумаги и обмотав клейкой лентой. (Чем больше ленты, как правило, тем никчемнее оказывается предмет, – наверное, соотношение можно рассчитать по какой-нибудь формуле.) В девяти случаях из десяти – наверняка дрянь. Джейн наблюдала, как отец искусно пытался не обидеть такого клиента и мягко низвести его до разочарования, убедить, что от воспоминаний вещь бесценна и он, презренный старьевщик, даже не станет пытаться ее оценить. Чарли же просто говорил им, что ничего не понимает в брошках, монетах или что у них там, и за дурными известиями отправлял к кому-нибудь другому.
– Ладно, передам, – сказала Джейн из укрытия пиджаков.
На этом дылда удалился огромными шагами богомола, скрылся с глаз. Джейн пожала плечами, отошла от – витрины и зажгла свет, после чего нырнула за подушками в кучи старья.
Заведение было немаленькое, оно занимало – почти весь нижний этаж здания, к тому же порядка здесь не наблюдалось почти никакого, ибо каждая система, разработанная Чарли, через пару недель рушилась под собственной тяжестью, и в сухом остатке выходило не лоскутное одеяло благоустройства, а заросший сад несочетаемых куч. Лили, девушка-готка со свекольными волосами, работавшая у Чарли три дня в неделю, говорила, что если им вообще удается здесь что-либо находить, это просто лишнее доказательство теории хаоса, – после чего, бормоча себе под нос, удалялась в переулок курить гвоздичную папироску и прозревать Бездну. (Хоть Чарли как-то и заметил, что эта самая Бездна до ужаса напоминает обычный мусорный контейнер.)
Навигация по проходам заняла у Джейн минут десять; она отыскала три подушки, вроде бы широкие и толстые, в самый раз для сидения шивы, а вернувшись в квартиру, брата своего обнаружила на полу – тот свернулся зародышем вокруг малютки Софи и спал. Остальные плакальщики совершенно о нем забыли.
– Эй, обалдуй. – Носком она потыкала ему в плечо, и Чарли перевернулся на спину, не выпустив из рук младенца. – Эти сойдут?
– Ты видела свет?
Джейн уронила подушки на пол.
– Чего?
– Свет. Красный. Ты видела в лавке такое, что светилось бы – ну как бы пульсировало красным?
– Нет. А ты?
– Вроде как видел.
– Бросай.
– Что?
– Колеса. Давай их сюда. Очевидно, они гораздо лучше, чем ты меня уверял.
– Но ты же сама сказала, что это просто успокоительные.
– Бросай колеса. Я присмотрю за ребенком, пока ты шивишься.
– На колесах ты не можешь присматривать за моей дочерью.
– Это ничего. Сдавай короеда и иди сиди.
Чарли передал младенца Джейн.
– Маму тоже близко не подпускай.
– Без колес – не смогу.
– Они в аптечке. Нижняя полка в ванной.
Он теперь сидел на полу, растирая лоб так, словно хотел натянуть кожу на свою боль. Сестра пихнула его коленом в плечо.
– Эй, братишка, ты меня извини, ну? Само собой, ну?
– Ну. – Слабенькая улыбка.
Она подняла малышку повыше и взглянула на нее с обожанием, как Богоматерь.
– Что скажешь? Мне такое тоже надо, а?
– Можешь мою одалживать, когда понадобится.
– Не-а, мне бы своего. Мне и так уже стыдно, что я у те-бя жену одалживала.
– Джейн!
– Шутка! Господи. Иногда ты такой задрот. Иди сиди шиву. Иди. Иди. Иди.
Чарли собрал подушки и отправился в гостиную скорбеть вместе с родней; он нервничал, – потому что помнил единственную молитву – “День прошел. Иду ко сну”[7], – только не был уверен, получится ли растянуть ее на три дня.
Про дылду из лавки Джейн рассказать забыла.
3. Под автобусом номер сорок один
Из дому Чарли вышел только через две недели – добрел до банкомата на авеню Колумба, где впервые и убил человека. Орудием убийства он избрал автобус сорок первого маршрута, шедший от автовокзала “Транс-Бей”, по Бей-бридж и к Пресидио мимо моста Золотые Ворота. Если вы нацелились попасть под автобус в Сан-Франциско, выбирайте сорок первый: с хорошей точностью, вид на мост у вас будет замечательный.
В то утро Чарли вообще-то не собирался никого убивать. Он намеревался раздобыть двадцаток для кассы в лавке, проверить баланс, ну и, может, захватить в гастрономии белой горчицы. (Черную он не переваривал. Черная горчица – это приправа, равносильная затяжным прыжкам с парашютом, годится для профессиональных гонщиков и серийных убийц, а Чарли для остроты жизни вполне хватало прекрасных – образцов английской белой.) После похорон друзья и родственники оставили в холодильнике Чарли гору мясной нарезки – ею он и питался эти две недели, однако теперь сохранились только ветчина, темный ржаной хлеб и готовая молочная смесь “Энфамил”, а без белой горчицы все это было невыносимо. Желтоватый пластиковый горшочек он раздобыл, и теперь, когда горчица лежала в кармане пиджака, Чарли стало как-то надежнее. Но парня сбил автобус, и она совершенно вылетела у Чарли из головы.
Стоял теплый октябрьский день, воздух над городом по-осеннему смягчился, летний туман прекратил свои неуклонные ежеутренние поползновенья из Залива, а ветерка дуло ровно столько, что несколько яхт, рассыпавшихся по водной глади, выглядели так, словно позировали для художника-импрессиониста. Ту долю секунды, за которую парень сообразил, что его давят, он, быть может, и не радовался такому событию, но лучше денька для смерти все равно бы не выбрал.
Жертву звали Уильям Крик. Тридцать два года, работал рыночным аналитиком в финансовом районе, куда и направлялся в то утро, когда решил остановиться у банкомата. На нем был легкий шерстяной костюм и кроссовки, а полуботинки для работы болтались под мышкой в кожаной сумке на ремне. Из бокового кармана высовывалась ручка складного зонтика, она-то и привлекла внимание Чарли – по виду сделана под ореховый кап, но пылала тускло-красным, будто ее раскалили в кузнице.
Чарли стоял в очереди к автомату, стараясь не замечать, стараясь выглядеть незаинтересованным, – но не пялиться не мог. Она, блядский ужас, пылает, не-ужели никто не видит?
Суя карточку в банкомат, Уильям Крик глянул через плечо, перехватил упорный взгляд Чарли и попробовал силой воли растопырить полы пиджака в огромные крылья ската-манты, чтобы Чарли не увидел, какой код он вводит. Потом выхватил из автомата кар-точку, – собрал отхаркнутую наличку, повернулся и быстро зашагал прочь, к перекрестку.
Чарли не выдержал. Ручка зонтика запульсировала красным, как трепетное сердце. Когда Крик дошел до самого бордюра, Чарли окликнул его:
– Простите. Прошу прощения, сэр. – Крик обернулся, и Чарли сказал: – Ваш зонтик…
В то же мгновенье, миновав перекресток Колумба и Вальехо, к остановке со скоростью около тридцати пяти миль в час подкатывал сорок первый автобус. Крик глянул на сумку у себя под мышкой, и пятка его кроссовки столкнулась с бордюром. Он стал терять равновесие – какой день ни возьми, все мы тоже так умеем: идем, скажем, по городу, споткнемся о неровность тротуара и для равновесия делаем пару быстрых шажков. Но Уильяму Крику удался лишь один. Шажок назад. С тротуара.
Тут уж пилюлю никак не подсластить, правда? Сорок первый долбанул его прежестоко. Добрых пятьдесят футов летел Уильям Крик по воздуху, пока не вписался в заднее стекло “СААБа” наподобие огромного габардинового мешка с мясом, после чего отскочил на мостовую и начал истекать разными жидкостями. Пожитки его – сумка, зонтик, золотая заколка для галстука, часы “ТАГ-Хойер” – поскакали по улице, – рикошетом – отлетая от шин, ботинок, крышек люков, и что-то упокоилось, преодолев чуть ли не квартал.
Чарли стоял на обочине, стараясь продышаться. Он слышал какой-то писк, словно кто-то дул в свисток детского паровоза, а больше не слышал ничего, и тут на него кто-то налетел. Чарли понял, что ритмично поскуливает сам. Парня – парня с зонтиком – только что стерло с лица земли. Понабежал народ, люди столпились вокруг, человек десять что-то рявкали в мобильники, водитель автобуса едва не расплющил Чарли, несясь по тротуару к луже крови. Чарли качнулся за ним следом.
– Я просто хотел спросить у него…
На Чарли никто не смотрел. Сестра так его убеждала выйти из квартиры, он наконец собрался с духом – и вот на тебе?
– Я просто хотел сказать ему, что у него зонтик горит, – произнес Чарли, словно оправдываясь перед обвинителями. Хотя вообще-то его никто не обвинял. Все бежали мимо – кто-то к телу, кто-то прочь, – и Чарли пихали, затем озирались, точно столкнулись не с человеком, а с сильным сквозняком или призраком. – Зонтик, – сказал Чарли, ища глазами вещественное доказательство. И тут заметил его – почти на следующем перекрестке: зонтик лежал в кювете и по-прежнему пульсировал красным, как перегорающая неоновая вывеска. – Вон! Видите! – Однако люди собрались широким полукругом возле мертвого тела, все прижимали руки ко рту, и никто не обращал внимания на перепуганного задохлика, который у них за спиной нес какую-то околесицу.
Чарли пробился сквозь толпу к зонтику, ему очень хотелось удостовериться, а происшедшим его ушибло так, что он даже не испугался по-настоящему. Когда до зонтика оставалось шагов десять, он осмотрелся, прежде чем ступить на проезжую часть, – не едет ли еще какой-нибудь автобус. Снова к зонтику он обратил свой зор как раз в тот миг, когда из ливнестока змеей скользнула хрупкая черная рука, схватила зонтик и утащила под землю.