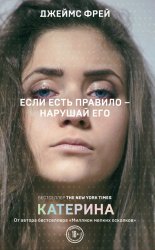Второй взгляд Пиколт Джоди

Но все эти древние животные, и так называемое низшее травоядное, и свирепый хищник, вымерли в результате произошедших на нашей планете климатических изменений. По крайней мере так рассказывал Спенсер. В конце концов оказалось не важно, кто из них более умный, сильный и плодовитый. Единственное, что имело значение, — губительный климат, на который они никак не могли повлиять.
До меня долетает мерный гул. Догадываюсь, что это всплеск аплодисментов, сопровождающий выступление Спенсера.
Поворачиваюсь к Руби, — разумеется, она следует за мной по пятам.
— Давай прогуляемся, — предлагаю я.
Розабель, отвечай, говори, молись; отвечай, смотри, говори, отвечай; отвечай, говори.
Код, изобретенный Гарри Гудини и его женой на основе традиционных телепатических методов. С помощью этого кода Гудини намеревался доказать, что после смерти вернулся в мир живых в качестве духа.
Летом Нью-Йорк мало чем отличается от ада. Тяжелый дух потных тел смешивается с запахами маринованных овощей, которыми торгуют на каждом углу. Толпы людей, напирающих и при этом смотрящих сквозь тебя, крики газетчиков, продающих катастрофы за пять центов, облака выхлопных газов от такси, беспрестанно шныряющих туда-сюда, — все это превращает город в настоящий филиал преисподней. По-моему, каждый, кто здесь оказался, немедленно начинает метаться в поисках выхода. Спасение приходит к нам с Руби в облике потрепанной женщины, живущей под тентом вместе с маленькой дочкой. Засунув за ухо свернутую в трубочку долларовую купюру, которую я ей протянула, женщина провожает нас к красному кирпичному особняку. Он находится в трех кварталах от отеля. На дверях медная табличка с гравировкой: «Гедда Барт, медиум».
Нам открывает женщина крошечного роста. Она даже ниже Руби, ее длинные светлые волосы рассыпаются по плечам.
— Добрый день, милые дамы, — говорит Гедда Барт, главный медиум столетия. — Чем я могу вам помочь?
Сама должна знать, если она действительно ясновидящая. Я уже хочу повернуться и уйти, но Руби тихонько меня толкает.
— Уйти мы еще успеем, — едва слышно шепчет она.
Я прочла множество газетных статей, посвященных мадам Гедде. Она была конкуренткой Гудини; она общалась с духом покойного двоюродного дедушки мэра Уокера. Но я и вообразить не могла, что у меня появится возможность оказаться здесь и встретиться с ней лично.
— Мы бы хотели провести с вашей помощью спиритический сеанс, — говорю я.
— Но никакой предварительной договоренности насчет этого не было, — замечает дама-медиум.
— Не было, — соглашаюсь я.
Вздергиваю подбородок в точности так, как это делает отец. Рассчитываю показать ей, что отсутствие договоренности — это ее просчет, а не мой. Видимо, мне это удается; по крайней мере, она отступает в сторону, пропуская нас в дом.
Вслед за хозяйкой мы поднимаемся по лестнице. Протянув руку, Гедда открывает дверь. Любопытно, заметила ли Руби, что медиум не коснулась дверной ручки даже кончиками пальцев, и та повернулась словно сама собой.
В темноте мне удается разглядеть шестиугольный стол.
— Мы еще не решили вопрос с оплатой, — говорит Гедда.
— Деньги для меня не проблема, — отвечаю я.
Медиум приказывает нам сесть и соединить руки. Пристально смотрит сначала на меня, потом на Руби.
— Вы обе много страдали, — изрекает она.
Однажды я читала критическую статью, посвященную различным магическим практикам. Там рассказывалось, как один парижский ученый спрашивал у случайных прохожих, под каким знаком зодиака они родились, и предлагал им прочесть гороскоп, якобы составленный для этого знака. Девяносто четыре процента опрошенных заявили, что гороскоп чрезвычайно точно описывает особенности их характера. На самом деле всем им был предложен один и тот же гороскоп, некогда составленный для одного из кровавых убийц-маньяков.
Мы верим в то, во что хотим верить; мы слышим то, что хотим слышать. О том, что мы много страдали, догадаться нетрудно. Будь это иначе, зачем бы мы сюда пришли?
Внезапно стол начинает дрожать и вертеться, встает на дыбы, подобно взбесившемуся жеребцу. Взгляд Гедды становится непроницаемым, губы ее чуть приоткрыты. Не знаю, что делать, и смотрю на Руби. Но она еще меньше моего представляет, как следует вести себя на спиритических сеансах.
— Ma poule, — раздается чей-то голос, более высокий, чем голос Гедды, слегка шепелявый.
Сердце мое бьется где-то во рту, ребенок колотит ножками так, словно хочет выскочить наружу.
— Симона? — шепчет Руби, голос ее едва слышен, должно быть, от потрясения у нее перехватило дыхание.
— Дорогая, скажи своей подруге, что бояться совершенно нечего. Мы все здесь ждем ее, — произносит голос.
Вспоминаю, где я слышала подобный акцент. Так говорит Руби, когда устает или забывается. Так говорят во Французской Канаде.
— Это моя сестра, — дрожащим шепотом сообщает Руби, — Симона. На всем свете только она одна называла меня так — ma poule, мой цыпленок. Моя маленькая курочка.
Та самая старшая сестра, которая умерла от дифтерии… Но смысл ее слов остается туманным. Что означает «мы все здесь ждем ее»? Ждут, когда я вступлю в контакт с матерью? А может — когда я покину этот мир и присоединюсь к ним?
Ребенок у меня в животе замирает, руки мои бессильно падают вдоль тела. Чувствую во рту горький привкус ужаса. Наверное, человек ощущает нечто подобное за мгновение до того, как его автомобиль врезается в дерево. Вижу белое свечение, ощущаю, как граница между мирами беззвучно растворяется.
То же самое когда-то чувствовала моя мать.
В голове моей вихрем вертятся вопросы. Смогу ли я увидеть своего сына, или я не заслуживаю подобного счастья? Будет ли он меня помнить? Больно ли мне будет умирать? Пойму ли я, что смерть уже близка? Но я молчу. Достаточно и того, что я убедилась: интуиция меня не обманывала.
Мадам Гедда медленно выходит из транса. В левом уголке ее рта скопилась белая слюна в форме запятой. Кладу на стол десятидолларовую купюру. Придется сказать Спенсеру, что я потеряла деньги.
— Возвращайтесь, — говорит Гедда на прощание.
Догадываюсь, речь идет о возвращении из иного мира.
Прежде всего, всеобъемлющие евгенические исследования должны выявить, какого рода проблемы существуют в государстве; если это возможно, они должны также выявить причину этих проблем.
Из письма директора Евгенического архива Г. Г. Лафлина Гарриет Эббот, 8 октября 1925 года
Смотровой кабинет доктора Крейга, гинеколога, находится на Парк-авеню. Застегнув блузку, бросаю взгляд в окно на улицу, которая пытается казаться парком. Но эти деревья никого не могут обмануть. Сколько бы их здесь ни сажали, город остается городом, местом, где траве не пробиться сквозь асфальт. Доктор вытирает руки полотенцем. После осмотра он избегает встречаться со мной глазами. Точно так же, как и я с ним.
— Миссис Пайк, когда вы оденетесь, будьте добры, пройдите в приемную, — говорит он ровным, бесцветным голосом.
Вернувшись в музей, где Спенсер упивался похвалами своих коллег, я, разумеется, не сказала ему о своем визите к медиуму. Когда муж сообщил, что поведет меня на прием к знаменитому гинекологу, одному из лучших в стране специалистов по беременности с высокой степенью риска, я не стала возражать. Ясно как день, что от моего решения ничего не зависит. Я точно знаю, что должно случиться, но не могу изменить свою участь.
Когда я была маленькой, отец пригласил на обед главного судмедэксперта штата. Разрезая куриную грудку, тот рассуждал об ощущениях, которые испытывает утопающий. В тот момент, когда в легкие попадает вода, человек испытывает ужас, пронзительный, как удар ножом под ребра. Но потом задыхается, и его охватывает полное безразличие. Человек прекращает биться, скрывается под водой и безропотно идет ко дну.
Я уже достигла дна. Лежу на песке и сквозь толщу воды любуюсь закатом.
В кабинет заглядывает медсестра:
— Миссис Пайк, вас ждут.
— Да-да, я уже готова, — отвечаю с фальшивой улыбкой.
Сестра провожает меня к приемной.
— Приятно на вас смотреть, — говорит она. — Вы так и сияете.
Должно быть, все беременные сияют, вне зависимости от того, будет ли им дарована радость материнства. А может, все беременные думают, что непременно умрут от родов.
В приемной доктора Крейга стены обшиты темными панелями, что придает комнате брутальный вид и делает ее похожей на каюту клипера. Кают-компания, затянутая сигарным дымом, — это нечто вне времени.
— Вчера у Гомеса было несколько классных подач, — говорит доктор, обращаясь к Спенсеру. — В этом году он, несомненно, лучший игрок. Лефти, Рут и Гериг не идут с ним ни в какое сравнение.
Спенсер совершенно не интересуется бейсболом, однако, к моему удивлению, отвечает со знанием дела:
— Да, «Атлетикс» снова стала одной из сильнейших команд.
— И кто бы мог подумать, учитывая, как Гериг завершил прошлый сезон. Сто восемьдесят четыре очка… — Доктор осекается, увидев меня. — О миссис Пайк. Садитесь сюда, здесь вам будет удобно.
Опускаюсь на стул рядом со Спенсером. Он берет меня за руку, и мы оба смотрим на доктора выжидающе, как школьники, которых вызвали к директору.
— У меня для вас отличная новость, — провозглашает доктор Крейг. — Я в жизни не встречал такой здоровой беременности, как у миссис Пайк.
Чувствую, как Спенсер расслабляется.
— Вот видишь, Сисси? — поворачивается он ко мне.
— Знаю о печальной судьбе вашей матери и понимаю, что у вас есть основания для беспокойства. Но, основываясь на медицинских данных относительно ее беременности, которые мне любезно предоставил ваш супруг, могу с уверенностью утверждать: причиной тяжелых родов было ее хрупкое сложение. При этом ребенок был крупным. Что касается вас, миссис Пайк, то, по моим предположениям, плод не столь уж велик. Впрочем, будь иначе, это не представляло бы для вас никакой угрозы — поверьте, ваши бедра созданы для деторождения. По всей вероятности, вы пошли в отцовскую породу.
Перед глазами у меня встает отец, с его длинным, узким, худым телом. Ну ничего общего со мной. Тем не менее я благодарно улыбаюсь.
— Не сомневаюсь, что роды пройдут без всяких осложнений и вы произведете на свет здорового малыша, — продолжает доктор Крейг. — Надеюсь, в скором времени вы привезете его в Нью-Йорк, и у меня будет возможность с ним познакомиться.
Любопытно, сколько Спенсер заплатил ему за такую откровенную ложь?
Мы встаем и, завершив ритуал прощальных рукопожатий, выходим из кабинета. Спенсер помогает мне спуститься по лестнице.
— Крейг считается прекрасным акушером, — говорит он. — Его имя, без преувеличения, известно всей Америке. Стоит сказать «беременность», кто-нибудь добавит: «Крейг». Его словам можно доверять. Так что нам с тобой не о чем тревожиться.
Он касается губами моей щеки, одна его рука гладит мой живот, другая распахивает дверь. Мы выходим на улицу, и огромный город тут же глотает нас. Солнце такое яркое, что слепит глаза. Прикладываю ладонь козырьком ко лбу и протягиваю свободную руку Спенсеру, позволяя ему вести меня, куда он считает нужным.
Мы знаем, что слабоумие существует; подобный диагноз мы можем с полным основанием поставить всем индивидуумам, которые не могут приспособиться к своему окружению, соблюдать принятые в обществе условности и совершать разумные действия.
Генри Годдард. Слабоумие: причины и последствия, 1914
Единственное, чего я хочу, — чтобы это произошло в хорошо знакомой обстановке. В поезде при мысли о том, что мне предстоит, голова начинает слегка кружиться.
— Я знал, что поездка пойдет ей на пользу, — говорит Спенсер папе, который делит с нами отдельное купе.
Когда мы приезжаем домой, уже почти полночь. Ночные птицы встречают нас пением, бродячая кошка, сидящая на крыльце амбара, наблюдает своими желтыми глазами, как я выхожу из «паккарда». Спенсер открывает дверь дома, и мне кажется, я слышу звук срываемой печати.
— Руби, ты можешь разобрать вещи утром, — говорит Спенсер, когда мы поднимаемся на второй этаж. — Дорогая, ложись скорее, — обращается он ко мне.
— Мне надо принять ванну, — отвечаю я. — Несколько минут побыть в одиночестве и немного расслабиться.
Руби смотрит на меня, и в глазах у нее стоит вопрос, который я не позволяю ей задать вслух.
— Ты слышала, что сказал профессор? — бросаю я.
После нескольких недель доверительной дружбы эти сухие резкие слова — самое надежное средство избавиться от ее общества. Руби, понурив голову, бредет наверх, в комнату для прислуги. Бедняжка, ей никак не взять в толк, чем она вызвала мое недовольство.
В спальне достаю из шкафа аккуратно сложенную ночную рубашку и халат. Жду, когда Спенсер выйдет из ванной комнаты.
— Я набрал ванну, — сообщает он и добавляет, с беспокойством глядя на мой живот: — Ты уверена, что сможешь выбраться самостоятельно?
Пытаюсь сохранить в памяти его улыбку, очертания его плеч. Моя любовь к Спенсеру внезапно превращается в ком, который стоит у меня в горле, не давая произнести ни слова.
— Не переживай обо мне, — наконец выдавливаю я. — Не переживай обо мне, что бы ни случилось, хочу я сказать.
Дом затихает медленно, словно толстяк, который долго ворочается в постели и никак не может уснуть. По стенам и половицам пробегает нервная судорога, потолок тихонько постанывает. Но вот дом в последний раз тяжко вздыхает — и наступает тишина. В ванной комнате стоят клубы пара. Раздеваюсь и ощущаю всей кожей прикосновение влажного горячего воздуха. Мое сердце бьется так сильно, что кажется, будто его трепетание видно сквозь кожу. Однако разглядеть что-нибудь в запотевшем зеркале невозможно. Вместо того чтобы протереть стекло, прижимаю к нему ладони, оставляя отпечатки. Пальцем пишу одно-единственное слово: «Помогите». Представляю, как меня обнаружат, неподвижную и бледную, будто мраморная статуя. Наверное, каждый, кто меня знал, постарается сказать обо мне что-нибудь хорошее; все будут смотреть на меня с жалостью и любовью.
К часу ночи вода остывает. Я по-прежнему лежу в ванне, живот поднимается из воды, как утес, руки упираются в поднятые колени. На полочке под зеркалом лежит бритва Спенсера.
Осторожно беру ее и провожу по коже чуть пониже локтя. Появляется кровь, я трогаю ее пальцем и потом провожу по губам, точно это помада. У крови горько-солоноватый вкус. Если лизнуть пенни, вкус будет примерно такой же. Неудивительно, что я насквозь пропитана горечью.
Когда порез перестает болеть, я вновь провожу по коже бритвой, на этот раз чуть ниже.
Две параллельные линии. Моя жизнь и жизнь моего сына. Его должны спасти. Достать из моего живота. Его жизнь должна быть куда счастливее моей. Если я останусь жить, то с момента появления на свет он все равно будет принадлежать другим людям: Спенсеру и моему отцу. И со временем станет относиться ко мне так же, как они; для него я буду человеком, неспособным понять силу и могущество науки, наивной дурчкой, имеющей глупость верить, что эфемерное вещество, называемое любовью, сильнее всех видов оружия, изобретенных человечеством.
А если вопреки ожиданиям родится девочка? Это еще хуже. Я буду чувствовать себя виноватой, потому что Спенсер хотел мальчика. К тому же мне придется смотреть на то, как он воспитывает нашу дочь. Вряд ли он будет обращаться с ней лучше, чем со мной. Впрочем, это еще полбеды. Ведь она наверняка повторит мои ошибки! Влюбится в мужчину, а тот будет обожать вовсе не ее, а то положение, которое она занимает. Выйдет замуж, надеясь спастись от одиночества, и вскоре поймет, что стала еще более одинокой. Забеременеет, сознавая, что не сможет стать такой матерью, которая нужна ребенку.
На моей коже появляется еще одна красная линия, потом другая… Кровь смешивается с водой, окрашивая ее в розоватый оттенок. Теперь на моей руке — подобие железнодорожных шпал. Я отправляюсь в путь, потому что здесь мне больше нечего делать.
Последний порез, на запястье, самый глубокий. Теперь осталось совершить еще один: разрезать мой живот и извлечь оттуда ребенка. Доктора завершат работу, которую начала я, они вскроют меня и спасут моего сына. А потом будут озадаченно чесать голову, потрясенные пустотой, которая обнаружится у меня внутри.
В ушах у меня шумит, держать голову над водой становится все труднее. Мое тело, большое и неповоротливое, тонет, и голова медленно погружается…
Дверь распахивается настежь, в ванную вбегает Руби и, взглянув на меня, заходится пронзительным визгом. Она хватает меня и пытается вытащить из ванны. Каким-то непостижимым образом ей это удается. Я, голая и окровавленная, лежу на полу, а Руби, вся измазанная моей кровью, зовет на помощь Спенсера. Через несколько минут он появляется в дверях.
— Господи, Сисси, нет! — слышу я его голос.
Он перетягивает мою руку полотенцем, и оно мгновенно пропитывается кровью насквозь. Спенсер, белый как мел, куда-то убегает.
— Оставайся с ней, поняла? — на бегу приказывает он застывшей от ужаса Руби.
Слышу, как Спенсер кричит в телефонную трубку, сообщая о случившемся доктору.
Собрав оставшиеся силы, хватаю Руби за подол рубашки и заставляю ее нагнуться ко мне.
— Спаси ребенка, — умоляю я, едва двигая губами.
Но Руби только всхлипывает и трясется, явно ничего не понимая. Здоровой рукой обнимаю ее за шею и целую в губы, чтобы она ощутила мою боль.
— Обещай, что спасешь ребенка! Обещай! — требую я.
Руби кивает, глядя мне прямо в глаза:
— Обещаю.
— Вот и хорошо, — шепчу я и позволяю красной волне накрыть меня с головой.
Права индивидуума не могут быть гарантированы в полной мере до тех пор, пока общество требует, чтобы он поддерживал своих психически отсталых, дегенеративных, морально ущербных и преступных сограждан.
Г. Ф. Перкинс. Опыт евгенического исследования в Вермонте. Первый ежегодный доклад, 1927
Все вокруг белое. Потолок, свет лампы, повязка, покрывающая мою руку от локтя до запястья, такая тугая, что я чувствую биение пульса под кожей. Пульса, который напоминает мне, что я жива. Жива, несмотря ни на что.
В спальне ужасно жарко. Окно здесь никогда не открывается, иногда мы включаем электрический вентилятор. Но сейчас даже он не спасает. Сбрасываю одеяло и только тут замечаю, что в дверях стоят Спенсер и доктор Дюбуа.
— Джозеф, — говорит Спенсер, — надеюсь, то, что здесь произошло, останется между нами.
Доктор Дюбуа — самый лучший врач в Берлингтоне. Когда-то он принимал роды у моей матери, и, конечно, именно он поможет появиться на свет моему ребенку.
— Но, Спенсер… — бормочет Дюбуа.
— Прошу тебя. Прошу как друга.
— Ты же знаешь, в нашей стране есть заведения, где ей будет обеспечен должный уход. Я говорю сейчас не об Уотербери, а о частных клиниках с комфортабельными палатами и тенистыми парками…
— Нет. Я не могу так с ней поступить.
— Ты думаешь сейчас о Сисси? Или прежде всего о себе? — Доктор Дюбуа качает головой. — Сейчас не время думать о себе, Спенсер, — говорит он и выходит из комнаты.
Муж опускается на край кровати и пристально смотрит на меня.
— Прости, — шепчу я. — Я так перед тобой виновата…
— Ты виновата не передо мной, а перед своим ребенком, — отвечает он.
Несмотря на то что в комнате жарко, по спине моей пробегают мурашки. Спенсер задел мое самое уязвимое место.
Вопрос: Что представляет собой негативная евгеника?
Ответ: Эта отрасль занимается исследованием генетически неполноценных элементов общества. В сферу ее деятельности входят также стерилизация, работа с иммигрантами, выработка законов, запрещающих генетически неполноценным индивидуумам вступать в брак, и т. д.
Американское евгеническое общество. Евгенический катехизис, 1926
Целую неделю Спенсер не сводил с меня глаз и только сегодня решился оставить меня под присмотром Руби. Его ждут в университете, где он читает курс лекций.
— Звони мне в любое время, когда захочешь, — говорит муж, пока я завтракаю в кухне. — Может, сегодня вечером сходим в кафе поесть мороженого? Конечно, если у тебя будет желание.
Ясно, что подразумевается другое. Он хочет сказать, что надеется увидеть меня живой и здоровой, когда вернется домой.
— Конечно сходим, — отвечаю я.
Какой он красивый с гладко зачесанными назад волосами! Летний костюм отлично сидит на нем, галстук-бабочка безупречен, как весы правосудия… Спенсер не отрываясь смотрит на нож, которым я намазываю масло на рогалик. Наверняка думает о том, не собираюсь ли я вскрыть этим ножом себе вены. Облизываю лезвие под пристальным взглядом мужа — проверяю, как он отреагирует.
— Я пришлю к тебе Руби, — бросает Спенсер и выходит прочь.
Руби, которая всю неделю старательно меня избегала, застывает в кухонных дверях. Слышно, как во дворе Спенсер заводит машину.
— Миз Пайк… — бормочет Руби.
— Да, мисс Уэбер?
— Если мы с вами подруги, вы должны были сказать мне о том, что задумали! — выпаливает Руби. Взгляд ее устремлен на мое забинтованное запястье.
— Но тогда ты помешала бы мне сделать это, — отвечаю я.
Шум, доносящийся с улицы, избавляет меня от необходимости продолжать.
— Похоже, еноты явились, — говорит Руби и отправляется за дробовиком, который мы держим за дверью кладовки именно для таких случаев.
— Они что, взбесились? Прежде они никогда не приближались к дому средь бела дня, — пожимаю я плечами и спешу вслед за Руби.
Мы выходим через заднюю дверь и оглядываемся по сторонам. Никого, лишь две стрекозы играют в пятнашки.
Руби стучит по земле прикладом дробовика.
— Кто бы это ни был, он успел смыться, — говорит она.
Я уже готова с ней согласиться, но тут замечаю, что дверь ледника распахнута настежь. Эта постройка сохранилась еще с тех времен, когда в доме жила моя бабушка. Зимой туда складывают глыбы льда, вырезанные на озере Шамплейн. Они хранятся, обложенные опилками, и время от времени мы откалываем лед для холодильника, который стоит в кухне. Спенсер строго следит, чтобы дверь ледника всегда была плотно закрыта. «Для виски мне нужен лед, а не вода, — говорит он. — Воду я могу налить из крана».
Забираю у Руби дробовик.
— Стой здесь, — говорю я, но, разумеется, она идет за мной.
Мы поднимаемся на крыльцо ледника и проскальзываем внутрь. Там темно, но через несколько мгновений глаза наши привыкают к сумраку. Чувствую, что в амбаре есть кто-то, кроме нас.
— Выходи! — кричу я смело, хотя на самом деле у меня трясутся поджилки.
Тишина.
— Я сказала, выходи!
Воображаю, что в темноте притаились грабители, убийцы, насильники. Но мне терять нечего, поэтому я поднимаю дробовик и стреляю в ближайшую глыбу льда. Она раскалывается на части, Руби визжит, и я слышу мужской голос:
— Черт!
Из своего укрытия выходит Серый Волк. Руки его подняты, как в кино. На лице застыло странное сочетание испуга и гордости.
— Что вы здесь делаете?
Руки мои трясутся мелкой дрожью. Руби преграждает путь к дверям.
— Не бойся, — поворачиваюсь я к ней. — Я его знаю.
— Вы его знаете?.. — Руби открывает рот от удивления.
Вполне вероятно, он пришел с целью что-нибудь украсть. А может, убить или изнасиловать меня. После встречи в лагере джипси ему ничего не стоило меня выследить. Но если он грабитель, кто мешал ему вломиться в дом, пока мы все были в Нью-Йорке? И зачем грабителю оставлять мне крошечные мокасины? Не сомневаюсь, это его рук дело.
Хотя ситуация, мягко говоря, странная, мне совершенно не хочется проявлять враждебность по отношению к этому человеку. Напротив, хочется доказать, что все обвинения, которые он возвел на меня тогда, на берегу озера, не имеют никаких оснований.
— Серый Волк, познакомьтесь, это Руби, Руби, позволь тебе представить Серого Волка, — произношу я тоном английской аристократки, которая знакомит гостей на балу.
Вопросительно смотрю на Серого Волка, ожидая разъяснений.
— Пойду позвоню профессору, — шепчет Руби.
Хватаю ее за локоть:
— Не надо.
Сжимаю ее руку, пытаюсь передать частицу доверия, которое испытываю к этому человеку.
Но Руби не зря живет в доме убежденного приверженца евгеники. Конечно, происхождение у нее достаточно темное, однако представитель индейского племени джипси стоит значительно ниже уроженки Французской Канады.
— Миз Пайк… — лепечет она, шаря глазами по лицу Серого Волка. — Он… он…
— Думаю, он голоден, — подсказываю я. — Может, принесешь нам что-нибудь из кухни?
Руби проглатывает слова, вертевшиеся у нее на языке, кивает и бежит к дому. Когда мы остаемся одни, Серый Волк подходит ко мне ближе и проводит пальцем по повязке на моей руке.
— Вы повредили руку, — говорит он. — Попали в аварию?
Отвожу взгляд в сторону и качаю головой.
Он по-прежнему смотрит на повязку, явно расстроенный:
— Я принес вам кое-что, защищающее от всех опасностей. Но вижу, опоздал.
Он достает из кармана кожаный мешочек, затянутый длинным шнурком. От мешочка исходит легкий аромат лета и запах самого Серого Волка.
— Черный ясень, болиголов, желтый венерин башмачок, — поясняет он. — Хорошо и для вас, и для него, — добавляет он, глядя на мой живот.
Он подходит ко мне и вешает мешочек мне на шею. На мешочке бисером вышита черепаха. Прячу его под платье. Мне кажется, что он жжет кожу.
— Кизи нд’аиб нидали, — произносит Серый Волк.
— Что это значит?
— Я здесь был.
Смотрю в лицо Серого Волка и верю каждому его слову. Его глаза внушают доверие, хотя взгляд их непроницаем. Когда все краски мира исчезнут, останется только черный цвет, цвет его глаз.
— Как на вашем языке «спасибо»? — спрашиваю я.
— Влиуни.
— Влиуни, — повторяю я и прикасаюсь к черепахе, вышитой на мешочке. — Как вам удалось меня найти?
Вопрос заставляет Серого Волка улыбнуться.
— Кто же в Берлингтоне не знает, где живет ваш муж?
— Это вы оставили на крыльце маленькие мокасины?
— Да. Для ребенка.
Он прислоняется к балке, поддерживающей крышу. Его темные волосы рассыпаются по плечам.
— Вам не следовало сюда приходить, — замечаю я.
— Почему?
— Это не понравится моему мужу.
— Я пришел не к нему, Лия, — усмехается Серый Волк. — Я пришел к вам.
Пытаюсь придумать удачный ответ, но в этот момент краешком глаза замечаю Руби, которая вынесла на крыльцо дома поднос с лимонадом и булочками. Мы идем к дому, мешочек с сушеными травами болтается у меня под платьем. На всем свете только мы с Серым Волком знаем о его существовании. Любопытно, почему он вот уже два раза назвал меня Лией, хотя я представилась другим именем?
Социальная жизнь так называемых старых американцев задает тон во всем обществе. Они являются столпами общества, и правила, которые они устанавливают, определяют социальные отношения и правила, которым следуют все прочие.
Элин Андерсон. Мы — американцы: изучение причин раскола в одном американском городе, 1937
Вилки звенят, касаясь тонких фарфоровых тарелок, нежный перезвон хрустальных бокалов подобен ангельскому пению. Мы с папой и Спенсером сидим за лучшим столиком в клубе Итана Аллена[11]. Согласно общему мнению, именно отсюда удобнее всего любоваться закатом. Выглядывая из-за огромного букета роз, стоящего в центре стола, наблюдаю, как папа любезничает с женой Аллена Сайзмора, декана факультета естественных наук.
— Ну и когда же ожидается великий день? — с улыбкой спрашивает у меня Аллен.
Не сразу понимаю, что он имеет в виду роды.
— Думаю, еще не очень скоро, — замечает его жена, окинув оценивающим взглядом мой живот. — Помню, в конце срока я раздулась, как клещ, присосавшийся к собаке.
Мне нравится миссис Сайзмор, которая называет вещи своими именами. Она протягивает через стол руку и гладит мою ладонь:
— Не переживайте, Сисси. Все закончится быстрее, чем вы успеете испугаться.
— Закончится? — смеется ее муж. — Ты хочешь сказать — все только начнется? Спенсер начнет клевать носом на лекциях, потому что ночи напролет ему придется менять пеленки. Что касается Гарри, думаю, ему стоит повесить на дверях кабинета табличку: «Дедушка» — чтобы посетители сразу понимали, с кем имеют дело.
— Уверен, это будет идеальный ребенок, — заявляет папа. — Он унаследует мозги своего отца, а это означает, что у него хватит ума спокойно спать по ночам. А от мамы ему достанется красота, и, проснувшись, он очарует свою усталую няню.
— Няню? — поворачиваюсь я к Спенсеру.
Он бросает на папу сердитый взгляд:
— Предполагалось, что это будет для тебя сюрпризом.
— Но мне не нужна никакая няня!
— Дорогая, она будет нянчить не тебя, — шутит Спенсер.
За столом все смеются. Только я сижу потупившись, расстроенная и обиженная. Поднимаю глаза на Спенсера и нарочно протягиваю руку к бокалу так, чтобы рукав платья слегка задрался, обнажив повязку.
— О Сесилия… я вижу, вы поранились? — Как я и ожидала, миссис Сайзмор заметила бинт у меня на запястье.
— На самом деле… — начинаю я, но Спенсер поспешно перебивает.
— Сисси случайно обожглась о плиту, — сообщает он, взглядом приказывая мне не спорить. — Увы, порой она бывает очень неосторожна.