Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
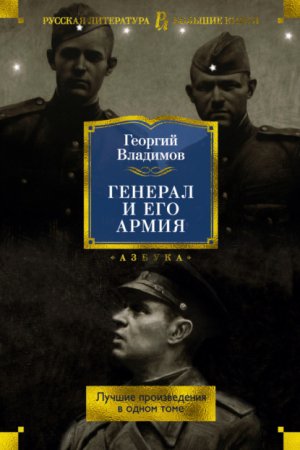
Она взглянула на меня холодно из-под опущенных наполовину век, затем ее взгляд переместился куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько задержался ниже пояса и ушел в сторону. Больше ее взгляд не останавливался на мне никогда.
Неторопливым округлым движением она сняла свой десантный беретик и положила на журнальный столик, рядом с двумя папками моей диссертации, едва удостоив вниманием гордое ее заглавие: «Опыт анализа онтологических основ древнетамильского эпоса сравнительно с изустными произведениями на пракритах».
– Столик мне подойдет, – сказала она, ни к кому, собственно, не обращаясь. – А это они уберут.
– Ну-с, мне пора, – сказал мордастый.
Мы с папой провожали его до дверей. Проходя коридором мимо стеллажа, он задержался как раз против полки, где у меня… Ну, вы сами понимаете, что у меня там могло стоять, обернутое в белую кальку, еле прозрачную, так что можно и не заметить, но при желании – кое-что интересное прочитать на корешках. Новейший Аксенов, Фазиль в полном виде, первая часть «Чонкина», «Верный Руслан», Липкина «Воля» и кой-какой Бердяев, «Зияющие высоты», три-четыре журнала. Не могу не сказать – золотая полочка, чуть не каждая из этих духовных ценностей обошлась мне в полстоимости джинсов.
– Зачем это держать? – спросил мордастый с укором во взгляде.
Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с таким же укором.
– А если мне-е… – Я отчего-то заблеял. – Если это нужно мне для работы?
– Не нужно вам для работы, – сказал мордастый уверенно (и, впрочем, со знанием дела). – Незачем голову забивать. И вообще…
Он стоял перед полкой, заложив руку за борт пиджака, задрав голову, отставив ногу, вылитый «маленький капрал», которому ужасно хочется в Бонапарты.
– И вообще, я вам скажу, некоторые этапы нашей истории пора бы уже забыть. Они нас только сбивают, а ничего не дают для понимания.
– Да-а? Это интересно. Какие же этапы?
– Вы сами знаете какие.
О, этот их прелестный пуленепробиваемый ответ! «Вы сами знаете». Супруга нашего визави, как мне рассказывал папа, все-таки пошла – тайком от мужа – выяснять, за что им отключили телефон. «Вы сами знаете за что». – «Но в чем выразилось наше нарушение?» – «Вы сами знаете в чем». Что они – языка лишились? Почему не смеют назвать? Значит, ведают, что творят?
– Но Бонапарт, – сказал я, – все-таки дал бы команду, что надлежит забыть, а о чем помнить.
Мордастый этого просто не услышал.
– Александр! – сказал папа, вдруг опять раздражаясь. – Я же тебе говорил тогда, если помнишь: «Выбрось эту сомнительную литературу». И ты же со мной согласился, что она сомнительная. А почему-то держишь на самом виду.
– Вот именно, – подхватил мордастый. – Кто-нибудь почитать попросит – вы ж ему не откажете? А это уже будет считаться не только «хранение», но и «распространение».
Покачав головою, уничтожив меня долгим взглядом, он вышел на лестницу.
– Родственников не обижайте, – пошутил он с серьезным видом. – А сынок у вас хоть и тридцать два года, а очень еще незрелый.
Я себя почувствовал мальчиком, которого на первый случай избавили от розог.
– Он задумается, – сказал папа. – Я, наконец, сам приму меры.
– Значит, договорились – я пока ничего не видел.
Мама нас встретила в коридоре, держа в обнимку, как бочку, мою свернутую постель.
– Где у нас раскладушка? Достаньте мне ее немедленно.
– Где-то в кладовке, – сказал папа. – Но, Аня, сейчас только девять утра.
– Я должна позаботиться о нашем сыне. Я не хочу, чтоб он ютился как бедный сирота. Он должен где-то отдыхать и иметь уединение для работы.
– Хорошо, где ты хочешь, чтоб он имел уединение?
– В кухне, – сказала мама. – Кухня – это моя территория. Если вы свою кому-то уступили, то я уступать не намерена ни пяди. Только своему сыну. Кровать будет стоять на кухне все время.
– Но, может быть, людям захочется сварить себе кофе или я не знаю что…
– Ничего, – сказала мама. – Захочется – перехочется.
– Аня! – Папа очень страдал оттого, что дверь в мою комнату осталась полуоткрытой. – Но ты посуди: где мы сами будем есть? Где ты будешь готовить?
– Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем питаться в столовке.
– Аня, что ты говоришь, я не знаю! Так же не будет. Ты же нам не позволишь питаться в столовке.
Она посмотрела на папин выпуклый животик, на его напряженное, несчастное лицо – красное, под белым встопорщенным ежиком, – и на то, как он нервно теребит подтяжки, и сразу устала держать в обнимку постель.
– Возьми же у меня, долго я буду так стоять? Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, как всегда, а потом мы с тобой пойдем гулять и там, на воздухе, все обсудим. Как нам дальше строить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.
– Что нам такого обсуждать? – глухо отвечал папа из кладовки. – Нам же объяснили, что это – временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться дома.
– Ни в коем случае, – сказала мама. – Я тебя вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это может кончиться плохо.
– Почему это я взбудоражен? – спросил папа, задвигая шпингалет. – Ну, хорошо, я взбудоражен. Но у Александра сегодня библиотечный день. Мы же не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?
– А никак, – раздался из моей комнаты голос долговязого.
– Что вы? – Папа подошел к двери. Заглянуть туда он почему-то не решился.
– С ключами – как устраивались до сих пор, так и дальше.
– Но у нас только два комплекта. Вдруг вам понадобится выйти?..
– Ну, значит, выйдем.
– Да, но кто же вам потом откроет?
– Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей Григорьевич, против лома – нет приема.
Папа к нам повернулся очень сконфуженный. Мама посмотрела на него почти брезгливо, но промолчала.
В эту ночь мне совсем неплохо спалось на новом месте. Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяснилось, на кухню родственники наши не претендовали, зато мою комнату не оставляли без присмотра. Из квартиры они уходили по очереди и входили без звонка; у меня было впечатление, что замок сам собою открывается при их приближении. В семь утра Коля разбудил меня, когда прошел в ванную в трусах и в майке и шумно там плескался и фыркал, напевая довольно недурным баритоном: «Капррызная, упрра-мая, вы сотканы из роз. Я старше вас, дитя мое, своих стыжусь я слез». Как сказывают, это любимая песня нашего генсека, а вовсе не «Малая Земля». Не знаю, у Коли я спросить не решился. Выходя, он заботливо спросил меня: «Как спалось?» – и удалился, не дожидаясь ответа. Маму потом волновало, каким полотенцем он утирался и вытер ли за собою на полу (у нас, вы знаете, хорошо протекает вниз к соседям). Насчет полотенца не знаю, но что прибрал за собой аккуратно, могу свидетельствовать.
В следующую ночь было дежурство моей десантницы – и как жестка показалась мне раскладушка! Только представить себе – в моей комнате, в каких-нибудь пяти шагах от меня, на моем законном ложе, раскинулось (лучше даже – «разметалось») прелестное таинственное существо, неприступно гордое и для меня пока безымянное, а на моих стульях разбросаны в милом беспорядке неизъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно, никакие эти пышные слова – «покровы», «одеяния», «ложе» – не приходили мне на ум и на язык при обстоятельствах вполне реальных, с моей долголетней невестой Диной, которая, впрочем, давно уже не невеста мне, а жительница города Бостона, штат Массачусетс, США. Гордая и неприступная занимала ванную с восьми и предпочитала душ. Я слушал, как хлещут шипучие струи с разными оттенками шума – оттого, что сначала одна, потом другая прелести подставлялись для омовения, – и, кажется, начинал постигать смысл затрепанного поэтического образа: я хотел бы быть этими струями, которым позволено… et cetera, et cetera. Когда она выходила, освеженная, встряхивая длинными прядями и застегивая на груди свое джинсовое платье с погончиками, я как-то не осмелился обратиться к ней – хоть с тем же самым: «Как спалось?» – а только попытался поймать ее взгляд, но, как я уже сказал вам, это мне ни разу не удалось.
Папки с моей диссертацией тоже перекочевали в кухню – и, право, обнаружилось даже некоторое удобство, что можно, не отрываясь от работы, заваривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои библиотечные дни старики могли побыть дома, и мама готовила обед, а в остальные – они уходили на долгие свои прогулки – включавшие в себя, естественно, стояние в очередях, – и я мог поработать над моими тамильскими преданиями. Однако ж поработать – это сильно сказано, вы не знаете, что такое наша квартира. Когда-то нам очень нравилось, что наш кооператив – самый дешевый в Москве, теперь эта наша «пониженная звукоизоляция» мне выходила боком. Из любой точки нашей квартиры слышен неумолимый ход времени, отбиваемый папиными часами, – о, вы не знаете, что такое папины часы! У него их накопилось штук тридцать: луковицы, каретные будильники, нагрудные – в виде лорнета – и даже знаменитый, воспетый Пушкиным, «недремлющий брегет», ходики с кукушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда бегают глаза; часы, которые держит над головою голенькая эфиопка, и часы, на которые облокотились полуодетые Амур и Психея; часы корабельные – с красными секторами молчания – и часы, охраняемые бульдогом. Кое-что досталось папе в наследство, остальное он прикупал, когда еще прилично зарабатывал в своем конструкторском бюро, а в последние годы, на пенсии, он собирал уже просто рухлядь, которую выбрасывали или продавали за символический рубль, и возился с нею месяцами, покуда не возвращал к жизни. Все это богатство каждые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, дзиньканьем, блямканьем и урчанием – притом не одновременно, а в замысловатой очередности. Один бог знал, которые из них поближе к истинному времени – его все равно узнавали по телефону, – да папа к точности и не стремился; наоборот, соревнование в скорости тоже составляло для него очарование хобби, и по этой причине останавливать их не позволялось. Мы с мамой давно притерпелись ко всей этой папиной музыке, даже перестали замечать, просто в последние дни слух у меня обострился – от звуков иных, непривычных.
– Валера! – слышался Колин металлический баритон. Против обещания, телефон они надолго забирали к себе – как они объясняли, «чтоб вам же не мешать». – Спишь там? А бельгиец-то – прошел… Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.
– С Ивонкой, – подсказывала моя десантница.
– Точно, с супругой. Уже десять минут, как прошли, а ты не сообщаешь… «Не успел», пивко небось глотал… Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, стекла подняли? А то ведь на нас потом скажут… На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детишкам своим. Прямо, значит, из своего валютного… Это и мы заметили, что с пакетом. Поглядим, с чем выйдут. Ну, иди, глотай свое пивко, только о работе не забывай.
Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже было не до моей бедной диссертации. Мне слышались – или чудились – кошачье мурлыканье, смешки, шлепки по телу, в общем, подозрительная возня. В эти минуты – кто сказал бы мне? – стояла ли она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, лежала – на моем диванчике? Я чувствовал себя спокойнее, когда они включали мой магнитофон и Коля с воодушевлением подхватывал:
- Ах, ничего, что всегда, как известно,
- Наша судьба – то гульба, то пальба.
- Не обращайте вниманья, маэстро,
- Не убирррайте ладони со лба!..
– Поставь лучше Высоцкого, – просила дама капризно и томно. – Ты же знаешь, я Высоцкого люблю неимоверно!
– Много ты понимаешь! Булат же на порядок выше.
– Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему. – Голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую мое сердце ревностью к обоим бардам. – А Высоцкий – это моя слабость.
– И как ты его любишь? – спрашивал Коля игриво.
– Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и не в музыке. Просто он весь меня трогает сексуально.
– Но-но, я па-прашу не выражаться! – Колин голос певуче взвивался и тотчас, без перехода, исторгался низким рокотом:
- Моцарт отечество не выбирррает,
- Просто игррает всю жизнь напррролет!
– Погоди, Моцарт. – В голосе ее слышалась насмешка, но почти любовная. – Моцарт мой милый, ты про общественные поручения не забыл?
– Когда Коля чего забывал? Просят – всегда сделаю. Но только после обеда. Сегодня у нас кто первый по плану? Дочкин просил «Железную леди» побеспокоить. Но она просит – до двух ей не звонить. Работает, третий том про Ахматову пишет. Не могу даме навстречу не пойти.
С двенадцати до двух они по очереди удалялись обедать – наверно, в хорошее место, поскольку успевали там же и отовариться; по приходе он сообщал ей: «В заказах икра сегодня красненькая, четыре банки взял…» Или она ему: «Сегодня ветчина югославская, ты б тоже взял, твоя Нина мне спасибо скажет».
После обеда следовал звонок от Валеры – о замеченных изменениях, затем Коля-Моцарт – как я его мысленно прозвал, вслед за моей дамой, – приступал к общественным поручениям.
– Але, можно Лидию Корнеевну?..[95] Ваш почитатель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам конверты перепутали? Но письма-то – дошли. Не ошибается тот, кто ничего не делает… Как это так – не делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам жить пока не мешаем. Воздухом дышите? Дачку еще пока не отобрали?
Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижался, говорил озабоченно, с теплотою:
– Голос у ней сегодня чего-то усталый. Спит плохо, мысли невеселые. Да, ей много пережить пришлось…
– А всей стране – легче было? – возражала дама.
– За всю страну болеть – это Колиной головы не хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну[96] болит… Але, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто говорит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто ж тебе, Натуля, еще звонить может? Большому кораблю – большое плаванье… Чего звоню? Удивлен я, Натуля, безобразным поведением твоего сожителя… А надолго ли он тебе муж? Я так думаю – ненадолго. Ты уже могла убедиться на примере некоторых твоих друзей, что за подобные штучки, что он вытворяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, не образумишь своего красавца – будем вместе скорбеть о безвременной потере кормильца… Але, куда ты там делась? Телефон небось бегала замерять? Давай замеряй. Делать тебе не хрена, Натуля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мятой ходит, нехорошо, Натуля…
Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это объяснял с той же заботливой теплотою:
– Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!
У дамы на этот счет было свое мнение:
– А потому что все девочку из себя строит. Холесенькую! А уж за сорок давно.
Коля-Моцарт уже набирал другой номер:
– Але, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. Корпишь, говорю, тетеря глухая?! Бросай ты эти дела богословские, ты ж все равно не докажешь, что Бог есть, а в психушку сядешь… Да не, из какого там «кей-джи-би», все тебе «кей-джи-би» мерещится. Просто твой почитатель тайный, хочу тебя предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься – лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут специально записано. Что все твои писания – вторичны… Вторичны! Сколько тебе повторять, уши прочисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, поэтому в статьях драматургия не чувствуется… Да не у него, а у тебя… Ну, не знаю какой. Центральной нету… Драматургия? Ну, значит, должна быть, раз говорит, что у тебя не чувствуется. Вот так. Задумайся.
– Поверил? – спрашивала дама.
– Не поверил, но огорчился.
– Хорошо у тебя получается. Лучше всех в отделе.
– Выматываюсь потому что, всю душу вкладываю. Ну, на сегодня хватит.
Тем временем главный объект наблюдения тоже заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, считает и складывает отпечатанные листки, потом стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши окна – и не видя их, точно смотрит куда-то в туманную перспективу. Если б я даже подал ему знак (какой, не подскажете?), он бы его не заметил. Как мне было ему посоветовать, чтоб он хотя бы завесил окно? В сущности, это ребячество, без которого можно обойтись, – эта его привычка поглядывать время от времени, отрываясь от своих писаний, на зелень, на верхушки кленов, ив, тополей. Я понимаю, он сам их когда-то сажал – больше, чем кто другой в доме, – и ему, наверно, любопытно смотреть, как они вытянулись и разрастаются с каждым летом, поднялись уже к пятому этажу. Его это, наверно, вдохновляет, но надо же учесть и 12-этажник, что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику можно, пожалуй, и прочитать, что он там пишет. Или он думает, что если сам он в чужие дела не лезет, то и другим нет дела до него? Но когда он, по своему расписанию, спускается во двор и бродит между домами, кому-то названивая из разных автоматов, не может же он не чувствовать на себе десятки взглядов – любопытствующих, осуждающих, а то даже испепеляющих, – ведь отчего-то он каменеет лицом, проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быстрее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в беседках, и все детишки в песочницах, и даже собаки – в соответствии с настроением хозяев – натягивают поводки в его сторону. Такой вот микроклимат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с тех пор, как его исключили из Союза писателей, к нему исправно каждые три месяца является участковый и снимает допрос, на какие средства он живет, а однажды у всех на виду нашу знаменитость вывели под руки и, усадив в желто-голубой «Москвич» с синим фонарем на крыше, повезли в отделение – за два квартала, откуда он, правда, вернулся через час пешком.
С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяемся, и я тогда спросил у него:
– Что, выселять будут – как тунеядца?
– Тунеядец-то он тунеядец, – сказал дядя Жора с досадой, разглядывая носок сапога, – да у него книжки печатаются – в Америке, в Англии, в Швеции и хрен знает где еще. Кроме как у нас. Сигналы на него поступают, а как на них реагировать? Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень-то подступишься.
– Трудный случай? – спросил я.
– Весь ваш район трудный. И чего я из Коминтерновского сюда перевелся? Хотя там тоже писателей этих до едреной фени.
Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу с детства. И я помню, как этот наш тунеядец был некогда в большой моде, его печатали в «Новом мире», и по его сценариям снимали фильмы, и вот в этой самой квартирке пел громоподобно, услаждая весь двор, покойный теперь артист Урбанский. И тогдашняя восходящая звезда Л. Л. привозила дорогого автора со съемок на своей машине, и оба наших дома наблюдали, как она ему на прощанье протягивает цветы. И эти старушки, бывшие еще только зрелыми дамами, домогались его автографа. Да все, кто теперь воротят от него носы, старались попасться ему на глаза, удостоиться пятиминутного разговора.
Я не знаю, что такое случилось с ним – да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к молодым, любили целое поколение, которое почему-то называлось «четвертым», и он входил в эту плеяду, «надежду молодой литературы», считался в ней «одним из виднейших». Потом у всей плеяды что-то не заладилось с их новыми книгами, не так у них стало получаться, как от них ждали, к тому же они имели глупость «нехорошо выступать» и что-то не то подписывать и до того довыступались и доподписывались, что их стали выкорчевывать всем поколением сразу. Теперь и не прочтешь нигде, что было такое – «четвертое поколение», а плеяда рассеялась по всему свету, остались только те, кому удалось сохранить любовь к себе, – и вот такие, как он, двое или трое, которым, как говорят, «терять уже нечего». Да, все почему-то не получается у нас – оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик Толя, семи лет, которому он заметил, что нехорошо царапать гвоздем чужую машину, может ему ответить с достоинством хозяина жизни: «А вы тут вообще на птичьих правах».
Впрочем, еще один персонаж осмеливается говорить о его статусе во всеуслышание – наша районная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полгода, ей приходит пора ложиться в больницу, а врачи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: «А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он за мине по „Голосу Америки“ заступится!» Вот два полюса его невероятного положения: и «на птичьих правах», и можно – когда все исчерпано – ему пожаловаться, и он «заступится». Так говорят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые и нормальные, знаем: и то и другое – правда. А может быть, все это, непостижимое, не с ним случилось, а с нами? Может быть, он остался, каким был всегда, а мы переменились вместе со временем? Что же с нами со всеми произошло? Те самые люди, что по вечерам припадают к транзисторам и ловят сквозь ревы глушилок сообщения о нем или куски из его последней книжки, те же самые люди растят детей, которые выучились и смотреть ему вслед насмешливо, и вытаскивать из его почтового ящика письма, чтоб порвать и бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как будто все реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя люди компетентные – как наш сосед по лестничной площадке, бывший дипломат в Норвегии или в Дании, славный тем, что провалил в этой стране всю нашу разведку, – говорят, что, наоборот, пишут со всех концов страны и из других стран, но всю корреспонденцию забирает на почте особый человек по «доверенности номер один».
А теперь, кажется, подступились к нему вплотную – и как мне его предупредить? Можно дождаться, когда он вынесет свою мусорную корзину с обрывками черновиков, и подоспеть со своим ведром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхиваемого содержимого, сказать потихоньку. А он мне поверит? Не сочтет за провокатора, которому как раз и поручили воздействовать на него психически? Он помнит, конечно, как я по его книгам писал дипломную «Об использовании бытового и производственного жаргона в произведениях имярек» и донимал его расспросами, но помнит он и другое – все мы переменились, и каждый мог стать кем угодно.
Пожалуй, я бы все-таки решился, но этот таинственный Валера… Черт бы его побрал! Где он прячется? Откуда следит? Может быть, он изображает алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, опохмеляется пивом «из горла»? Или на лавочке обжимается со своей подружкой, тоже топтуньей? Или стоит на углу с газетой, свернутой в трубку? – вон даже махнул кому-то, знак подал. А может, он как раз уминает мусор в контейнере – и собирает эти самые обрывки? Я даже такой странный разговор слышал – между Колей и дамой: «Кто у нас сегодня Валерой? Вроде бы Дергачев со Жмачкиным?» – «Не со Жмачкиным, – отвечала она, – а с этим… новеньким, с Ларьковым». – «То-то, я слышу, голос какой-то не родной…» Так он, этот Валера, не один? Так их – двое? А может, их даже пятеро или шестеро, а только один звонит? Нет, я не осмелюсь. У меня диссертация, и через полгода – защита. С опозданием на семь лет, после моего жалкого и ненавистного мне учительства в школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому профилю, но с такой темочкой, от которой нашему строю ни горячо, ни холодно и за которой можно как-то пересидеть, если не рыпаться. У меня папа и мама, которым эти мои тамильские предания и пракриты лишь потому не кажутся чепухой собачьей, что они привыкли уважать всякое чужое дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нем понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надежды? Смею ли рассчитывать на их негенеральские пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, продаст свою коллекцию? Ну и, наконец, вот что… Положа руку на сердце, строго между нами, как на духу… Ведь когда он становился за черту, он тоже не смел рассчитывать, что кто-то из-за него станет подкладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он их уж слишком разозлил – иначе б не стали тут держать пост, это все-таки дорогое удовольствие. И почему же кто-то другой должен разделить его грехи или ошибки, к тому же – беззащитный, о котором никакой «Голос», никакая «Волна» и никакое там Би-би-си словечка не скажут? Не знаю, не знаю…
Покуда я размышлял таким манером, писатель уже возвращался из своих странствий, я опять видел его в окне, и возвращались с прогулки мои старики. Мы обедали в кухне – и в основном молчали. Я отчего-то догадывался или читал на их лицах, что для своих прогулок в Филевском парке они выбирали такие дорожки, сидели на таких лавочках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже теоретически невозможно.
Ровнехонько в пять звонил в дверь мордастый, отвешивал молча головной поклон и направлялся к моей комнате.
– Ну-с, как успехи?
Докладывал Коля-Моцарт, дама вставляла отдельные реплики. Успехи наблюдателей были скорее успехами наблюдаемого, но они, странным образом, считали их как бы своими.
– Четвертую главу закончили, с божьей помощью. С этой главой были трудности – наверно, придется кой-чего перебелить. Пока начали перепечатку пятой. Да над финалом тоже придется покорпеть.
– Ну, это уже небось готово, – говорил авторитетно мордастый. – Хорошие писатели финал пишут загодя.
– Еще предисловие будет к зарубежному читателю, – уточняла дама. – Пока только наброски.
– Ну что ж, – говорил мордастый довольным голосом, и я почти видел, как он потирает руки или бьет кулачком в ладонь, – числу к тридцатому, пожалуй, запремся в ванной?
Я уже знал, что писатель свои манускрипты переснимает на пленку и делает это в ванной.
– Пленка уже имеется, – сообщала дама, – «Микрат-300».
– Молодец, хорошую пленку достает! – хвалил мордастый. – Узнать бы, с какого объекта ему тащат, да задать тому деятелю по загривку – за соучастие. Ну уж ладно, конец – делу венец. Готовимся, значит, к операции «Передача»?
Мы в кухне, замерев, слушали его булькающий смешок.
– А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не устоит?
– В каком смысле? – спрашивал Коля-Моцарт.
– Договор заключит без промедления. В прошлый раз сколько тянули? Года четыре?
– С половиной, – уточняла дама.
– Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не выдержала, не говоря об итальянцах…
– Ну, итальянцы – те что ни попадя переводят, – вставляла дама.
– А эти-то долго, англичане, держались. Привередливые! Но с тех пор-то мы выросли! С прошлой книжечкой не сравнишь, романище мирового класса. Ребята в фотоотделе куски почитывали – прямо так хвалят! Если мы тогда на аванс в две тыщи фунтов согласились, так теперь и с четырьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуемся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и больше с них содрать. – Слышалась искренняя гордость возросшим талантом наблюдаемого и затем – вздох почти горестный. – Да-а… И почему это я романы не пишу? Все – статеечки, статеечки на злобу дня.
– Кто-то же должен и на злобу, – утешал Коля-Моцарт. – Вы не менее важное делаете.
Мордастый, однако же, на лесть был не падок и коротко перебивал:
– Бельгиец был?
– Час проговорили с четвертью, – ответствовал Коля. – Мы едва успели кассету сменить.
– Что-нибудь вынес?
– Отчетливо сказать нельзя.
– А какая у нас техника? – жаловалась дама. – Одно мучение!..
– Да, и этот черт бельгийский берет так ловко, что и не зафиксируешь. А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого по-крупному опорочить!
– А Хельсинки? – спрашивал Коля. – За письма его ж не выдворишь.
– Что Хельсинки? Его на иконах надо подловить. Большой любитель нашей старины! Кто еще был?
– Из посольства Франции – на машине с флажком.
– Один шофер или кто поважнее?
– Шофер.
– Ну, это он приглашение привозил – на четырнадцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял для передачи, французы – они осторожные. Кто еще?
– Ахмадулина приезжала на такси.
– Беллочка? – оживлялся мордастый. И опять вздыхал печально. – Да, слабаки эти официалы, только она его и посещает. Луч света в темном царстве. О чем говорили?
– Хозяина не застала, с женой поболтали полчаса. Все насчет приглашения: на дачу в Переделкино, в субботу.
– Ясно. Стихи новые почитаем. И напитки, конечно, будут – умеренно. По уму.
– Сапожки немодные у нее, – вставляла моя дама тоном сожаления, но отчасти и превосходства. – Наши таких уже сто лет не носят. И шапочка – старенькая.
– Так ведь когда у нее Париж-то был! Пять лет назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.
Черт бы побрал эти деревья, из-за которых не видно стало подъезда! Была Ахмадулина – и я прозевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей последнюю ее книжку для автографа, не высказал, что я о ней думаю. А если и правда, что «поэт в России – больше, чем поэт», то, может быть, наше безвременье назовут когда-нибудь временем – ее временем, а нас, выпавших из летоисчисления, ее современниками? Но про меня – кто это установит, где будет записано? Мы себе запретили вести дневники, мы искоренили жанр эпистолярный, по телефону лишь договариваемся о встрече, а встретясь, киваем на стены и потолки, все важное – пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжигаем в пепельницах. Господи, что же от нас останется? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они – даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, увиливаем, петляя, «раскидывая чернуху», неутомимые эти труженики наши, ревнивые следопыты, проделывают за нас же всю необходимую работу, собирают нашу историю – по крохам, по щепоткам, по обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и целыми кипами бумаг – при удачном обыске. Плетя свою паутину, они связывают в узлы разорванные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то могли потерять – у них ничего не потеряется! Все будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третьего тысячелетия, и прошу у тебя прощения! Когда все это будет разложено по музейным папкам, из которых ты любую сможешь востребовать по простому абонементу, ты мог бы – выбеги я к подъезду! – услышать наши голоса, а то и увидеть покадровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слегка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книжку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Ахатовна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я стараюсь покрепче держать в руках. И поскольку возникло бы подозрение, что я через нее предупредил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное дело, умонастроения. И ты б тогда составил полную картину, что же собою представлял я, не пошевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, когда нам дадут прочесть нашу собственную историю.
– Даю оперативку, – прерывал мои размышления мордастый. – Вечером у хозяина слет ожидается. Надо полагать – с водочкой.
– Три поллитры куплено «Старомосковской», – подтверждал Коля-Моцарт. – Валера фиксировал в магазине.
– Будет кое-кто из диссидентуры. – Мордастый называл имена, которые можно услышать по радио, то есть когда-то было можно, покуда эти поляки не вынудили наших глушить «вражеские голоса». – Привезут, конечно, «документы» на подпись… Ну, это не наша забота. А вот проследить насчет рукописей. Есть сообщение, что двое молодых собираются прийти, из «Союза независимых», или как они там себя называют? Что-нибудь почитают, наверно, вслух, а если толстое – то оставят.
– Так чего с этим делать? – спрашивал Коля.
– Фиксировать, больше ничего. Пока никаких указаний не было. Наш объект – хозяин. И – каналы, каналы!
Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою «золотую полочку», где уже, как вы понимаете, никаких «Зияющих высот» не стояло, зияла пустота.
– Сынок ваш взрослеет, – как-то сказал он на прощанье папе, желая доставить приятное. – И в целом мы вами довольны.
– А мы вами – нет, – отвечал папа – впрочем, когда дверь за мордастым закрылась.
С моими стариками определенно что-то происходило. Они все больше мрачнели. Папа охладел заметно к своей коллекции, забывал протирать ее тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять часы с места на место, даже заводить забывал – и вскоре иные вовсе умолкли, дзинькали и блямкали только те, что с недельным заводом; он все реже шикал на маму, а мама все меньше стеснялась нашей пониженной звукоизоляции.
– Ты знаешь, Матвей, что я решила? – спрашивала она посреди тишины.
– Что ты решила?
– Нам надо купить цейсовский артиллерийский бинокль. Я видела в магазине – за девяносто шесть рублей.
– Зачем? У нас есть бинокль.
– Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский дает восьмикратное увеличение.
– Аня, зачем нам с тобой восьмикратное увеличение?
– Ты не понимаешь? Я хочу во всем участвовать.
Это слово – «участвовать» – она теперь часто произносила, к месту или не к месту. Звала ли ее соседка занять очередь за сардельками – она отвечала: «Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать»; собирались ли подписи на выселение буйного алкоголика, художника К., в молодости сталинского лауреата, – «Я подумаю, надо ли мне участвовать»; складывались ли по трешке на ремонт и покраску скамеек – «Считайте, что я участвую».
– В чем ты хочешь участвовать? – спрашивал папа унылым голосом.
– Во всем! Я потратила свою молодость на субботники и воскресники, увлекалась поэзией бесплатного труда, но, оказывается, есть такое бесплатное удовольствие – не считая, конечно, стоимости бинокля, – заглядывать в чужие квартиры, в чужие окна… я не знаю, в замочные скважины. Я чувствую, как я от этого молодею!
– Аня, я прошу тебя – тише.
– Почему – тише? Я хочу – громче! Я хочу слышать, что делается в чужих постелях, о чем говорят любовники в антрактах или муж с женой. Ты не видел объявлений – где-нибудь можно купить по сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я понимаю, в государственных магазинах нам не продадут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, ее делают – и не хуже, чем у японцев. Но начнем с артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом помешался, теперь же самое модное занятие – подслушивать и подглядывать.
Папа вставал и, согбенный, шаркая шлепанцами, уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойнтер на охотничьей стойке, глядя своими черными, расширившимися глазами в окно, слушала, как он там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, открывает банку растворимого кофе.
– Пол-ложечки! – кричала она, не выдержав. – И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не позволю!
– Я не понимаю! – взрывался папа. – Кому из нас было плохо с сердцем?
Мама переводила взгляд на меня – он был теперь вопрошающим, сострадательным и вместе неуловимо разочарованным, – кусала губы, отчего горестно искажалось ее красивое, иконописное лицо, и отвечала едва слышно:
– У всех у нас плохо с сердцем.
В мои библиотечные дни, занимаясь в Ленинке с утра до вечера, я все же приезжал на метро к обеду. Так требовала мама, и так нам всем было дешевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать обратно, и все мои дневные траты – четыре пятака, не считая сигарет.
Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял голову и увидел, что папа ждет меня наверху, на мосту, перекинутом через нашу наземную станцию и который отчасти служит ей крышей. Я настолько не привык видеть папу на улице одного, без мамы, что сердце у меня подпрыгнуло.
– Успокойся, пожалуйста, – сказал папа, хотя я ни о чем не спросил. – Мама просто прилегла отдохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с тобой пока перекусим в «Багратионе».
Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой Филевской. Я помню, лет шесть мы ждали его открытия – и были поражены, как быстро, в первую же неделю, установился в нем запах захудалой столовки, этот омерзительный и сложного состава аромат – увядшей капусты, перекаленного жира, лежалой рыбы и такого же мяса, вдобавок еще блевотины и скандала. Никто «порядочный» сюда не ходил, да и сейчас захаживают не часто – прежняя слава еще не рассеялась. Когда уже махнули рукой на наше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошел последний его заведующий, он же и бармен, коренастый армянин, большеголовый и без шеи. Он поначалу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на красной «Ладе», попозже на «бамбуковой», теперь на белой, – но, надо признаться, не без заслуг: деньги и материалы, им же и выбитые на капитальный ремонт, он потратил с толком. Он оборудовал импортный бар в углу, стены обшил панелями темного дерева и шоколадной кожей, установил разноцветные светильники, каждый столик заключил в отдельную кабинку, отгороженную высокими, резного дерева переборками. Он, наконец, вышиб к чертовой матери «музыкальный ансамбль», этих наших «песняров», длинноволосых и наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрустированными электрогитарами, с притопами и прихлопами, с идиотскими «ла-да-да», – и заменил их довольно несложным ящиком, из которого полилась негромкая и совсем недурная музыка. Оказалось, и невыветриваемый брезготный дух – выветривается, при некотором напряжении ума и сил можно его вытеснить амброзией шашлыка с тмином, кинзой и эстрагоном. Много может сделать человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник же он – без конца добывать хорошую баранину.
Весь путь до «Багратиона» папа не проронил слова, только подозрительно оглядывался. В жаркий день на нем был его приличный костюм цвета маренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с глухим воротом и галстук, повязанный толстым узлом. Во всем облике моего старика чувствовалась непонятная мне, но отчаянная решимость.
Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя не много их было занято в глубине зала и никто бы нам особенно не мешал: в одной гудела компания азербайджанцев, в другой лопотали по-французски четверо негров – наверно, из «Лумумбы»[97], еще в двух-трех сидели парочки, премного занятые друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал уличный шум. Но папа так решил, и я не стал возражать.
Официантки нам, ясное дело, не светило скоро дождаться, но сам заведующий, он же бармен, не торопясь, вышел нас обслужить. Он принес нам по шашлыку на овальных никелированных тарелочках, подстелив под них синие бумажные салфетки, побрызгал из одной бутылки чем-то винно-красным, из другой – бледно-желтым, посыпал из руки жемчужными полуколечками лука и пахучим зеленым крошевом. Было в этом что-то мило-домашнее. Папа его попросил завести музыку. Он молча кивнул и удалился за свою стойку.
Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, приступив наконец к шашлыку, спросил:
– Ты понял, кто у нас поселился?
– О да! На этот счет у меня никаких сомнений.
– Так ты таки ничего не понял!
Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщинами, с тонким хищным носом и ястребиными, табачного цвета, округлившимися глазами, – лицо Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а откуда-нибудь из Бердичева, – и задышал на меня барашком, кинзой и луком.
– Мы с мамой уже давно догадались. Уголовники. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а – международного класса. Уверяю тебя, их наверняка разыскивает Интерпол.
Я отшатнулся:
– Папа, что ты говоришь! Они прежде всего – русские.
– Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе показали фитюльку – и то на одну секунду. Дай мне сигарету, пожалуйста, мама не почует, что я курил… Да? Ну и что – что русские? Почерк у них – явно международный. Ты слышал, как они шантажируют по телефону каких-то людей, и в особенности – женщин? По чужому телефону! И ты не почувствовал, что это какой-то условный шифр? Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю, если хочешь знать мое мнение, они послали этим людям подметные письма с требованием – положить туда-то такую-то сумму, но те почему-то не поддались на провокации, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они угрожают? «Тебе, падла, по земле не ходить». И ты меня станешь уверять, что они – оттуда? – Папа, с брезгливой гримасой, помахал вилкой. – Не-ет! Там себе такого не позволяют. Там серьезное государственное учреждение. Там, конечно, не ангелы служат, у них свои «но», не будем здесь говорить… Но на такие штуки там не идут!
– Да почему ты думаешь? Почему мы все думаем, что есть какие-то штуки, на которые они не пойдут?
– Я знаю, – сказал папа, для вящей убедительности закрыв глаза. – Я знаю, если говорю.
– Но у них же… аппаратура.
Странно, это было единственное, что я нашел возразить.
– Хо-хо! – сказал папа. – Достать аппаратуру – это теперь не такая проблема. Наверняка ее где-нибудь делают подпольно – и не хуже, чем у японцев.
Я услышал совершенно мамины интонации.
– Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж они хотят от нашего визави?
Глаза у папы, кажется, стали еще круглее, седой ежик пополз на лоб.
– Ты еще не догадался? Они и его хотят ограбить, только – в валюте. Они уже заранее считают его деньги. Сколько он получит в Германии, сколько во Франции. А если переведут на английский и на испанский, тогда он – просто миллионер. С их точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его будут шантажировать. «Отдадим, но при условии – положите энную сумму в такой-то банк, на такое-то имя». Или просто – продадут каким-нибудь пиратам из желтой прессы. Мы себе даже не представляем, какие у них возможности, связи во всем мире. И ведь он перед ними совершенно беззащитен. Он же – вне закона! Ты это-то понял?
Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще любитель гипотез, в особенности – фантастических, от которых у собеседника иной раз уши вянут, – а ведь, казалось бы, человек точного знания, инженер, не я – с моим индуизмом и теорией «других рождений». Но даже если и правда это – не может же быть, чтоб там об этом не знали, не были бы даже рады, если бы с нашим «отщепенцем» что-нибудь этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с нашими пулеметами соваться в политику! У меня даже заныло под ложечкой.
– Ты считаешь, что мы его должны предупредить? – спросил я. – Скажу тебе честно – я боюсь.
– Ты мой сын, – сказал папа, – поэтому ты боишься. И поэтому говоришь об этом честно.
– В конце концов, кто он нам и кто мы ему?
– А вот это уже – нечестно. – Папа смотрел на меня скорбно, и мне было трудно выдержать его взгляд. – Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему – читатели. А он нам – собеседник. Он же обращается к нам! А мы – затыкаем уши.
– Ты можешь мне сказать, почему он не уедет? Столько людей мечтают вырваться – и не могут, а от него бы избавились с дорогой душой. Неужели ему не хочется мир повидать – Венецию, Лондон, Париж?..
– И заплатить за свое любопытство – родиной? – спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, покачал головой. – Я поздравляю тебя, Александр. Ты хоть и поздний наш ребенок и с поздним развитием, но вырос настоящим советским человеком, я могу только гордиться. Ты научился решать за других – кому ехать, кому не ехать. Но что делать, если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнесся, если б действительно он уехал? Совсем равнодушно?
Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в нашем микрорайоне – и не в лучшую сторону. Он стал нашей экзотической достопримечательностью, для многих не лишенной приятности. Приятно ведь знать, что кому-то живется еще труднее. У меня, например, это так. И я бы, наверно, бросил в него камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не выдержать!
– Но ему было столько предупреждений! – Я возражал скорее не папе, а себе. – Начать с телефона, с почты, с того, что машину нельзя оставить, чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не залили бы какую-нибудь дрянь в бензобак. И допросов ему хватило, и слежки по пятам. Чего еще ждать? Чтоб взяли архив, переписку, книги, рукописи?[98]
– Это предупреждения? – сказал папа. – Это жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, он это предвидел, он свою страну немножко знает. В этом отношении – «все системы корабля работают нормально». А вот они, наши «родственники», – папа все гнул свою гипотезу, – это уже ненормально.
Не назвал бы я нашего соседа таким уж провидцем насчет родной страны. Случалось ему и открытия совершать, лишь для него одного неожиданные. Я помню, лет десять назад, когда он был еще официальным писателем (интересно, в каком другом удивительном мире есть писатели официальные и неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома елочки – штук семьдесят, если не больше. Он возил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на своем, теперь уже состарившемся, «Москвиче» – по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие комья земли. Все эти елочки прижились и тронулись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, что он не зря потрудился для общества. Перед каждым Новым годом по ночам визжали ножовки – ведь у нас такой прекрасный, человечный обычай: елочка в доме под Рождество – и желательно не из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семидесяти остались одни колья, с полуосыпавшимися боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. А ведь его предупреждали – но он отвечал: «Видите ли, я стараюсь о людях так не думать». Как же было не понять еще тогда, что мы – больная страна, больная неизлечимо. Если б я мог покинуть ее и только вспоминать, как страшный сон!
Но мне не выдержать того, что выдержала слабая женщина – Дина. Не пережить мне того, холодящего сердце, состояния невесомости, которое называется «быть в подаче» или «быть в отказе», не собрать всех этих идиотских справок, не имеющих отношения ни к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сожгут эти взгляды служебных сук, исполненные патриотического презрения и лютой зависти: «Есть шанс вырваться? А мы – чтоб тут оставались?» Она прошла босая по этим горящим угольям, и я сейчас вижу ее такой, какой она улетала из Шереметьева, – когда она вышла, всего на несколько секунд, на знаменитый «балкончик прощания», растерзанная после нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказала мне сверху каким-то рваным бесцветным голосом, – каким, наверное, произносит свои первые слова зверски изнасилованная: «Теперь ты, Саша… Через год – там… Я буду ждать!» Я стоял в окружении топтунов, которыми кишит провожающая толпа, но не только поэтому не ответил ей, просто – не знал, что обещать. Скрипку ее, довольно ценную, провезти не удалось, – но, кажется, ей такая и не понадобилась в Бостоне, США, с концертами у нее пока не выходит, она дает уроки музыки и этим зарабатывает столько, что «двум нашим семьям, – как она пишет, – с голоду умереть не удастся». Первые письма от нее полны были эйфории, она желала успеха моей диссертации и заверяла, что здесь то, чем я занимаюсь, будет иметь вес – побольше, нежели там, – но полтора года прошло, и все больше стало сквозить грусти и раздражения – оттого, что меня, по-видимому, не дождаться; в последних – она скучает по Москве и даже «по всей нашей мрази», а о том, что ждет, уже ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, и не было бы причин для тоски.
– Он мог бы, – сказал я, – писать свои книги хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы преуспел. А результат был бы тот же – тысяча экземпляров на всю Россию.
– Наверно, мог бы, – сказал папа. – Но я думаю, что книги немножко по-другому читаются, если знаешь, что автор живет не на Азорских островах. Поэтому, – закончил он неожиданно, со своей причудливой логикой, – мы отсюда пойдем в милицию. В оперативный отдел.
У меня еще сильнее заныло под ложечкой.
– Прямо сейчас?
– Можно не сразу, – легко согласился папа. – Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. С вишенкой.
Мы покончили с шашлыками и пересели на высокие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает нам «шампань-коблер», папа вдруг спросил:
– Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?






