Генерал и его армия. Лучшие произведения в одном томе Владимов Георгий
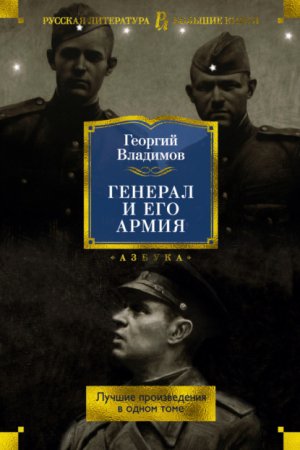
– Я не из Еревана, – ответил бармен. – Я из Нахичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не уехал.
– Как это? – спросил я довольно глупо.
– Я могу завтра туда поехать. Значит, я там живу.
– Видишь! – сказал мне папа, подняв палец. – В этом вся суть.
Все же и после коктейльчиков, которых мы заказали по два, ноги не очень-то нас несли к желтому флигелю бывшей усадьбы Огаревых, которая высится над крутым лесистым спуском к Москве-реке и куда, как гласит история, Герцен присылал своего слугу с записками к другу. По дороге я спросил у папы:
– А что по этому поводу посоветовала мама?
– Мама? Ничего не посоветовала. Мама сказала: «Я не желаю участвовать во всем этом дерьме».
– Так и выразилась?
– Кажется, даже немножко резче.
И вот мы пришли и сели перед большим столом, за которым – вполоборота к нам и глядя в окно – сидел массивный майор в светло-серой рубашке и темно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными залысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глазками, – то ли монгольский божок, то ли Будда, то ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. Окно было настежь распахнуто, но забрано решеткой из толстых прутьев, расходящихся веером из нижнего угла. На лужайке перед окном четверо младших чинов дрессировали своих собак – огромных черноспинных и черномордых тварей, с пегими лапищами и нежно-бежевыми пушистыми животами, – учили их, как правильно нюхать тряпку и совершать круг, перед тем как рвануться по следу. Майор, развалясь на стуле, держа одну руку в кармане, а другую на столе, внимательно наблюдал за учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, что ему втолковывал папа, потому что один раз, к месту, перебил недовольно:
– Как это вы говорите – «вне закона»? Закон на всех распространяется одинаково. По крайней мере, у нас в районе. Ну, продолжайте.
Раза два он взглянул на папу с видимым интересом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит чистопородный «ариец», русско-татарских кровей, на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему дежурство всей этой фантасмагорией. Но я ждал, когда нас все-таки попросят за дверь.
– Однако это еще не все, – вдруг сказал папа. – Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказывают друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы сказал, с очень нехорошим политическим душком.
Боже мой, это говорил мой папа, который во всю свою жизнь ни на кого не донес, ни разу – даже когда следовало – ни на кого не пожаловался!
– Скажу вам прямо – махрово антисоветские.
Майор повернулся к нам и налег жирной грудью на стол. Опора власти горела желанием послушать хороший махровый анекдотец с нехорошим политическим душком.
– А ну, ну! Поглядим, что за дым.
– Про нашу милицию, – сказал папа. – Но мне бы не хотелось здесь…
– Про милицию? – В глазках майора зажглось что-то зелененькое, как у кота, когда он смотрит на птичку. – Ничего, давайте. А где ж их еще рассказывать?
– Значит, один – такой. Подходит пьяный к милиционеру: «Дай ушко, я тебе политический анекдот расскажу». Тот говорит ему: «Ты что, не видишь, что я – милиционер?» – «Это ничего, – говорит пьяный, – я тебе три раза расскажу». Вот в таком духе.
– Та-ак, – сказал майор. – А еще какой? Вы же сказали: «анекдоты», а только один рассказали.
– Второй – совсем дурацкий. И порочит нашу милицию совершенно зря.
– Они все дурацкие, – сказал майор. – И все порочат. Выкладывайте.
– Опять же пьяный, – сказал папа, – идет по улице и орет: «Але, але! Говорит „Голос Америки“ из Вашингтона». Подходит милиционер: «А ну, замолчи сейчас же!» А пьяный – не унимается: «Але, але…» – ну и так далее. Тогда милиционер его окунает в лужу…
– Как это? – спросил майор. – С головой?
– Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но пьяный – не захлебывается, а продолжает из-под воды: «Але… хварыть… хлас… мерк… с Ваш… хтона…» Тогда милиционер садится перед ним на корточки и кричит: «У! У! У!»
– Это ж он глушилку изображает! – догадался майор.
– Я же говорю – никакого отношения к милиции.
Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них зеленое злое мерцание, и – после долгой выдержки – медленно их открыл.
– Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас никого в квартире быть не должно. Этому писателю нашему наружное наблюдение не полагается.
Папа взглянул на меня с торжеством, однако и сам удивился:
– Вы точно знаете?
– Точно, – сказал майор. – Все, что я говорю, всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, что они бандиты, обоснованно.
Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до живота ящик стола, достал блокнот, из красного пластмассового стаканчика вытащил заточенный карандаш.
– Это называется «оперативный блокнот». Вы мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я все понял, где что находится. – Он повернулся опять к окну. – Митрофанов!
– А? – Митрофанов и его пес обернулись одновременно. Должно быть, пес себя тоже считал Митрофановым.
– Поди сюда, «а»…
– С собакой?
– Как хошь. Можно с собакой, можно без собаки.
Они все же подошли вместе. Пес, положив лапы на подоконник, просунул меж прутьев шумно дышащую пасть. От них обоих в маленькой комнате вполовину уменьшилось света.
– К собаке у меня претензий нету, – сказал майор. – А есть у меня претензии к участковому Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописанные живут свыше недели, а нам про это ничего не известно? Вот в этой квартире. – Он показал пальцем на блокнот, где уже появились передняя и санузел. Пес тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. – И мало что без прописки живут, так еще анекдоты про милицию сочиняют.
– Я не сказал «сочиняют», – возразил папа.
– Это уж мне известно, кто их там сочиняет и зачем. Ты только послушай, Митрофанов!
Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый прошел для Митрофанова бесследно, а после второго он было реготнул, показав нам хорошие деревенские зубы с крепкими деснами, но был осечен грозным взглядом майора.
– Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады против нас? Или же мне показалось?
– Выпады, – сказал Митрофанов. – И злостные.
– Это я и хотел от тебя услышать. А ты – смеешься.
Пес взглянул на хозяина удивленно, затем, склонив голову набок, принялся разглядывать меня и папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показалось, он все же не до конца нам поверил.
– Я сейчас обедать пойду, – объявил майор. – Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с Золотаревым. Им сегодня еще работка найдется небольшая, так что пусть подождут, я лично дам инструктаж.
– Устали, поди, Кумов с Золотаревым. Понервничали.
– С чего бы там нервничать? Володьку Боже Мой брали.
– Уже он опять освободился? – спросил Митрофанов.
– Уже ему снова садиться пора, – ответил майор. – Свыше недели погулял.
– Не отстреливался?
– В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и грозится горло себе перерезать.
– Не перережет, – сказал Митрофанов.
– Раз грозится, – сказал майор, – значит не перережет. Ну, иди, тренируй дальше.
Пес, взглянув на хозяина вопросительно – принять ли это за команду, с видимым сожалением убрал свои лапы с подоконника и потащился за Митрофановым на лужайку.
Папа вычертил план изящными быстрыми касаниями карандаша, так ровно и точно, как и подобало старому проектировщику плавильных агрегатов для цветного литья. Он даже проставил размеры в миллиметрах. Майор поглядел на него с уважением и стал вникать:
– Так. Эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь – к себе открывается или от себя? Ручка – справа или же слева?
Убей меня бог, чтоб я все это помнил. Но папа отвечал уверенно:
– От себя, ручка – справа.
– Хорошо. – Майор даже повеселел. – Теперь учтите. Оно конечно, следовало бы удалить лишних людей из зоны операции, тем более – пожилых, со всякими там функциональными расстройствами, поскольку возможна перестрелка. Но с точки зрения оперативной – лучше, чтоб эти люди оставались в квартире.
– Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зрения, – сказал папа, бледнея, но твердо.
– Я понимаю, вы люди… скажем, робкие. Но я попрошу вас – усильтесь.
– Мы усилимся, – обещал папа. – Можете на нас всецело рассчитывать.
– Тогда – где вам лучше укрыться. Бетонную панель пуля не пробивает, но не исключаются рикошеты. Иногда – двойные и тройные. Вот в этом уголочке, – он показал на плане, – опасность наименьшая.
– У нас тут как раз стоит диванчик.
– И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приляжет, как будто ей нездоровится, а вы возле нее посидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его определил как «бурный». Но не скандальный, это тоже привлечет внимание нежелательное. Вы, скажем, с ней поспорьте на литературные темы. Или, скажем, про последний спектакль по телевизору.
– Телевизора у нас нет принципиально, – сказал папа. – Но это не важно, повод у нас найдется поспорить. Скажите, а ему? – Папа кивнул на меня. – Ему, наверно, не обязательно участвовать в нашем бурном споре, лучше погулять во дворе?
– Спорить ему не нужно, – сказал майор, не глядя в мою сторону. – Ему лучше помолчать. И открыть двери как можно бесшумно. Ровно в семнадцать тридцать.
– Все двери? – спросил я, ощущая, с какой стороны у меня сердце.
– Зачем? – Майор опять не поглядел на меня. – Одну входную. А там – хоть в воздухе испаритесь.
Можно ли было провести эту операцию хуже, чем мы ее провели? Папа и мама спорили у себя в комнате до того занудливо и такими ненатуральными голосами, как если б сильно перепились и приставали друг к другу с вопросом: «Ты меня уважаешь?» А минут за десять до срока они совершенно исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясущейся рукой – и замок щелкнул на всю квартиру. Отчасти спасла положение кукушка в папиных часах, которая не запоздала распахнуть створки и отметить половину шестого печальным «куку». Скрип отходящей двери приглушили железным урчанием и тяжким боем часы с бульдогом.
Они тотчас же вошли – в светлых, нежно-кофейных плащах, засунув руки глубоко в карманы, – оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и причесанные, с подбритыми по моде височками. Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и подбородки-утюги, так этого не было, – разве что нос у одного слегка был расплющен, а у другого – слегка на сторону.
– Ку-ку, – сказал мне первый, кто вошел, с носом расплющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал внушением. – Дай же пройти, лопух.
– Простите, пожа… – успел я вымолвить, прежде чем его рука, деревянной твердости, запечатала мне рот.
Второй, с носом на сторону, притиснул меня одной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и наш старый паркет, когда они пошли по нему друг за другом в тяжелых ботинках.
В моей комнате шел государственной важности разговор – Коля-Моцарт докладывал мордастому, пришедшему за полчаса до этого:
– …еще жене пальто кожаное привезли в подарок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зеленой.
– Ничего себе подарок! – слышался голос моей дамы. – По каталогу «Квэлле», фээргэшному, такое пальтишко – четыреста шестьдесят девять марок, и еще сумка под цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же скрытый гонорар! Совсем уже обнаглели. И что только делают, что делают!
– А сколько ж это в рублях, если посчитать? – задумался мордастый.
Первый, кто вошел, отпихнул дверь ботинком и, выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.
– А щас посчитаем в рублях!
Второй, став против двери и тоже с пистолетом у живота, рявкнул на всю квартиру:
– Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!
Там что-то упало на пол, послышался изумленно-испуганный, но бессловесный вскрик моей дамы, и быстро залопотал мордастый:
– Что такое, что такое? Свят-свят!..
Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойствие, но ему-то как раз и досталось – я услышал звук, точно кулак с размаху влепился в тесто, и обиженный Колин взрев. Он что-то попытался объяснить насчет удостоверения, но нечленораздельно и вперемешку с матом, поэтому остался не понят.
– Лезешь, падла, куда не след! Еще пошевели у меня мослами! Сказано – не двигаться.
Второй, оставшийся в коридоре, ласково посоветовал:
– А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же удобнее будет.
– А и правда, Сергунь, – отозвался Олежек. – Ну-кось, граждане бандиты, валютчики мои золотые, все сюда, к стеночке лицом, упремся руками, ниже, ниже, вот хорошо.
Сергунь, опустив пистолет, тоже вошел в комнату. Набравшись духу, и я туда заглянул. «Родственники» наши – не исключая и дамы – упирались руками в стенку и изображали правильный прямой угол, с перегибом в тазобедренной части. Признаюсь, и в этом положении моя дама сохраняла некоторую элегантность.
Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, ощупывал брючные карманы и под мышками. Мордастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал ногою.
– Лягаешься, – упрекнул Олежек, тыча ему пистолетом под коленку. – Значится, как этот пьяный говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб ты дотюпал?
– А милиционер ему что? – спросил Сергунь, направляясь к окну. – У? У? У?
– Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.
– Какой пьяный? Какой милиционер? – вскричал мордастый. – Вы из какого отдела? Если угодно, я могу представиться – капитан Яковлев. А вы кто?
– Капитан, капитан, улыбнитесь, – пропел ему Олежек и принялся исследовать его пиджак.
Сергунь между тем исследовал аппаратуру – нечто напоминающее кинопроектор, объективом направленный в окно. От аппарата к розетке тянулся черный кабель. Сергунь покрутил ручки, приложил к уху толстый наушник, с раструбом из губчатой резины.
– Не смей трогать настройку! – визгливо закричала дама. – И слушать вы не имеете права! Я кому сказала? Слышишь, ты?..
И она прибавила нечто такое в адрес мужских Сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал от первейших матерщинников. Даже Сергунь застыл в оцепенении:
– Олежек, она вроде выразилась?
– Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.
– Что ж она делает? – возмутился Сергунь. – Да она же все святое порочит, лярва. Не-ет, я ее сейчас оттяну… от этого занятия.
Слегка заалев, он шагнул к ней, к ее приполненным формам, выставленным весьма удобно, и рукою, свободной от пистолета, сделал что-то едва уловимое, рассчитанно-молниеносное, – а проще сказать, оттянул по заду, – и у меня в ушах зазвенело от ее истошного поросячьего визга.
– Полегче, Сергунь, – сказал Олежек. – Еще, глядишь, след на всю жизнь останется, мужики любить не будут со всей отдачей.
– На всю жизнь – это нет, – возразил Сергунь, оттягивая еще разок по другой половинке, для симметрии. – А недельку у ней это дело потрясется.
И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы, – от которой я излечился совершенно, – и возмущенным, но, к сожалению, неразборчивым восклицаниям Коли и мордастого, Сергунь подошел к окну и отвел занавеску. Поверх его плеча я увидел окно в пятом этаже и нашего визави, склонившегося над книгой или над своими писаниями. На несколько секунд он поднял голову и посмотрел в нашу сторону – может быть, что-то услышал необычное или почувствовал чей-то взгляд, – но вряд ли он смотрел на что-то определенное и что-нибудь видел, кроме зеленеющих вершинок, скорее – блуждал в своей туманной перспективе. Потом голова опустилась, и Сергунь бросил занавеску.
– Во, дела! – сказал Олежек, разглядывая книжечку, снятую с шеи мордастого. – А он и правда капитан. Только ни фига не Яковлев, а Капаев.
– Совершенно верно! – Мордастый сделал попытку выпрямиться.
Олежек нажимом пистолета между лопаток возвратил его в прежнее положение:
– А чего ж врал?
– Вы просто не в курсе операции! – вскричал мордастый, тут же, однако, снижая тон. – Я на это задание – Яковлев. Вы понимаете, что такое государственная тайна?
– Чего «государственная тайна»? – не понял Олежек. – Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сергунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, мосластого, он кто будет? Иванов, он же Сидоров, или наоборот?
Долговязый молча терпел, покуда Сергунь снимал с него книжечку и разглядывал ее, почесывая себе лоб пистолетом.
– Ни то ни другое, Олежек. Старший лейтенант Серегин, Константин Дмитриевич. А говорили: ты – Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Митрич. Вроде похоже…
Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от злости оскаленное и густо-красное. Из уважения к ее полу ей позволили оторвать одну руку от стены.
– Ты, значит, не лярва, – сказал Сергунь, – а техник-лейтенант Сизова? А еще кто?
– Никто. Сизова Галина Ивановна.
– Одна честная нашлась, – заметил Сергунь не без чувства юмора. – Я, говорит, никто. Ну, за чистосердечное признание мы тебе пятнадцать суток не станем оформлять. Как ты, Олежек? Простишь ей оскорбление при исполнении?
– Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне – за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю, ты же у нас голубь мира.
– Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, как думаешь? Хрен с ними, пущай выпрямляются?
– А они еще не выпрямились? – удивился Олежек. – Ну, может, им нравится так. Тогда – мы пошли.
– Нет уж, подождите! – Мордастый, встав вертикально, теперь, кажется, по-настоящему рассердился. – Извольте все же представиться. Кто вы такие?
– Да здешние мы, – отвечал Олежек простецким невинным тоном. – Нас тут в районе все собаки знают. И облаять – побаиваются.
– Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете в рапорте вас упомянуть?
– Пожалста. Я – Кумов Олег Алексеич. А он – Золотарев Сергей Петрович.
– Книжечки можно не предъявлять? – спросил Сергунь. – Или надо?
Мордастый поглядел, как они засовывают пистолеты за отвороты плащей, и буркнул:
– Не нужны мне ваши книжечки.
– А в рапорте своем, – сказал Олежек, – не забудьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Который нас никогда не предупреждает.
– А мы это не любим, – добавил Сергунь.
Выходя из комнаты, они весело перемигнулись. Мне больше не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернулся и увидел папу, который, оказывается, стоял у меня за спиной – весь какой-то увядший, сгорбленный, опустив глаза.
– Ошибочка вышла, папаша, – сказал Олежек, разведя руками. – Люди эти – не наши, но, как бы сказать, свои.
Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись – малость с удивлением.
Мы провожали их до дверей. Они теперь шагали гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой поступью.
– Извините, папаша, – сказал Олежек на лестнице, всматриваясь в папино лицо. – Может, лишнее беспокойство внесли… Это у них работа – санаторий, а у нас – погрязнее.
– Извините, – сказал и Сергунь.
– Ничего. Что же делать… – ответил папа. И закрыл дверь.
В коридоре нас дожидался мордастый. Волнистый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не говорил, он шипел:
– Что ж, вы проявили бдительность, тут вас не упрекнешь. Поступили как советские граждане.
Папа, не поднимая глаз, кивнул.
– Но вы понимаете, что вы нас дезавуировали? Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь никого не ставили в известность, положились на ваше содействие. А что получилось – из самых, что называется, благих побуждений?.. А может, не из благих?
– Из благих, – ответил папа скучным голосом.
– Я сейчас иду звонить. Если эти люди не имеют секретного допуска, то считайте, задание государственной важности вами сорвано. И мы не сможем продолжать работу из вашей квартиры.
– Зачем же идти куда-то? – спросил я. Должно быть, по глупости.
Он смерил меня своим предолгим уничтожающим взглядом, но ответил не мне, а папе:
– Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж извините. И не трудитесь меня провожать.
Мы и не трудились. От грохота, с которым он захлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу живота, не знаю – как у папы.
Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла непривычная, прямо-таки зловещая тишина. Мы с папой, не глядя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, прижав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в сторону.
– Боже мой, – говорила она, едва не плача. – Ну можно ли так унижать людей! Какие б они ни были…
Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить из угла в угол. Я тоже себе не мог найти занятия. Вдруг папа нашел его для себя – он стал заводить часы. Одни за другими он их снимал или сдвигал с привычных мест, поворачивал к себе тылом или прижимал к животу и напористо вертел ключом, морщась, как от натуги. Приступая к жизни, они тикали по-особенному громко, точно бы вынужденное бездействие было им в тягость. Папа не подводил стрелки, и все они показывали совершенно разное время, каждые начиная с того, когда испустили дух. Минут десять только они и нарушали давящую тишину.
Но «чу!» – как писали в добром девятнадцатом веке. Нам это показалось – всем троим – слуховой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно что-то включилось, зашипело, переключилось, вступили аккорды гитары, глуховатый голос певца запел о старенькой скрипке – может быть, заменяющей отечество, – и металлический баритон Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил рефрен:
- Ах, ничего, что всегда, как известно,
- Наша судьба – то гульба, то пальба.
- Не оставляйте старрраний, маэстро,
- Не убирррайте ладони со лба!..
А вскоре мы услышали какую-то возню в их комнате, очень похожую на любовную, – скрип дивана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу и угрозу в голосе моей бывшей дамы:
– Ко-ля! Мо-царт! Не смей, все жене скажу…
– Бро-ось, – перебивал он ее протяжно. – Дружеской ласки не понимаешь. Просто нас с тобой работа спаяла…
Я сказал – «в их комнате», но двадцать лет она была моей, и мог же я туда вломиться по забывчивости, толкнуть дверь случайно?
Дама, приятно раскрасневшаяся, уронив на лицо нечаянную прядь и покусывая ее, сидела одной ляжкой на моем письменном столе, а Коля – перед нею на диване, глядя на нее снизу. Моцартова костистая длань обхватывала ее колено, облитое телесным блеском колготки. Она не пошевелилась при мне, даже не посмотрела, а спокойно подождала, покуда Коля не повернулся к двери, спрашивая меня глазами удава: «Что надо?» С горящим лицом я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.
Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой что-то случилось, и папа, стоя перед нею, спрашивал с нарастающим испугом и от этого все больше раздражаясь:
– Что с тобой, Аня? Что? Что?
– Нет! – говорила мама, поднимаясь с диванчика, с такими глазами, которые в романах называют «сверкающими». – Этого быть не может. Этого не может быть никогда! Чтобы с людьми так поступили, чтобы их…
И она сказала, как именно с ними поступили, теми словами, которые из маминых уст я меньше всего предполагал услышать и не берусь здесь воспроизвести. Я только почувствовал – в эти слова она вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю свою смелость, какой мне, наверное, не иметь.
– И чтобы они после этого… не повесились, нет, я им такого не пожелаю, но даже не поняли бы, что с ними произошло! И это они – русские?! И это они решают – кого лишить родины, гражданства? Надо их самих лишить навсегда – национальности!
Мы не сразу увидели, что папа, уменьшась в плечах, багровый, как перед инсультом, показывает глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Коля-Моцарт.
– Ну, что вы так, Анна Рувимовна, – протянул он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже что смущенно. – Зачем вы на нас так… злобствуете? Это мы на вас должны обидеться, натерпелись – не дай бог.
Он потрогал пальцем под глазом – там уже напухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Олежек перестарался, но что делать, подумал я, может быть, это единственный язык, который до них доходит?
– А если б у меня еще оружие оказалось? – спросил Коля сам себя. – Уй, что б тут было!
– Не смей! – послышался рыдающий вопль дамы. – Не смей перед ними еще унижаться! Иди сюда сейчас же!
– Отстань. – Коля от нее отмахнулся своей широкой ладонью. – Ей-богу, Анна Рувимовна, вы это напрасно – вот насчет гражданства и что мы не русские. Ну, это уж слишком…
– Да они тебе повеситься предлагают! – кричала дама. – А сало – русское едят!..
Следом мы и впрямь услышали рыдания – во что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой диванчик.
– Может быть, ей что-нибудь нужно успокоительное? – спросила мама отчасти с жалостью, отчасти брезгливо.
Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая на груди свой темно-малиновый халат.
– Что вы думаете, – спросил Коля, – мы вашему соседу зла желаем? Охота нам его посадить? Или выдворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам этого не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто чего значит для России.
– Почему же вы не оставите его в покое? – спросила мама. – Если уж мы говорим по-человечески…
– Да по-человечески-то мы ж понимаем, что лучше бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мороки. Но – нельзя! Идеология! Уж очень он далеко зашел. А в то же время – определенные круги на Западе его имя используют в неблаговидных целях…
– Ох, не надо про «определенные круги на Западе», – сказала мама. – Не надо про «неблаговидные цели». Это уже не человеческий язык. Скажите, Константин Дмитриевич… Кажется, так вас величать, я слышала?
– Так, – сказал Коля.
– Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что когда ваши дети вырастут, – наверно, есть они у вас? – они прочтут его книги и спросят вас: что было опасного, если просто сидел человек и поскрипывал себе перышком?..
Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был человеческий.
– Эх, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спрашивают. А когда вырастут – спрашивать перестанут. Потому что поймут – идеология! Нельзя! Да может, это самое опасное и есть – сидит человек и что-то скребет перышком. А мы не знаем – что.
Мама смотрела на его голову и, кажется, не находила, о чем еще спросить. Спросил папа, стоя перед окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеленеющие кроны:
– А что вы будете делать, когда вот эти деревья дорастут до крыши?
– Подпилим, – слегка удивясь, ответил Коля. – Не мы, конечно. Специалистов позовем, по озеленению.
– И долго все это будет?
Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклянными глазами:
– Что – «все»?
Папа словно очнулся:
– Я хотел сказать – долго вы его собираетесь держать в осаде? Наверно, покуда он не уедет?
Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся с диванчика и пошел к двери. Перед тем как закрыть ее за собой, он все же ответил папе:
– Всю жизнь.
Москва, 1982
Публицистика
Новое следствие, приговор старый
Рано или поздно, а должны же мы утолить интерес к тем людям, которые в годы войны 1941–1945 надели мундир врага и подняли оружие против своих. Этот интерес, возникший, еще когда мы впервые услышали о «генерал-предателе» Власове, заметно обострился в пору «застоя»; уже никакой страх не заставлял нас любить наших правителей, а вели они себя так, что вызывали одно омерзение; для многих из нас перестало быть вопросом, можно ли так возненавидеть родную власть, чтобы и родная земля показалась не лучше чужбины. На проснувшийся интерес – к Белому движению, к эмигрантам первой волны и второй, ко многим тайнам «Чужеземии», составлявшей наше извечное «вражеское окружение», – власть ответила, как от веку она отвечала: перекрытием каналов информации, обысками и изъятиями литературы, всяческим преследованием не в меру любопытных. Но всех лишить памяти она не могла, мало того – сама же, в ярости, и напомнила о тех, осмелившихся некогда против нее восстать, когда в свой ругательный обиход ввела термин «литературный власовец». Так назвали двух наших нобелиатов[99] – и именно по случаю премии; что же теперь мы станем говорить, когда оба изгоя реабилитированы и возвышены? Что во власовцы попадают ненароком люди достойные и почтенные? Или – что нужно же с нашим прошлым когда-нибудь разобраться?
Очерк Леонида Решина «Коллаборационисты и жертвы режима»[100] и является одной из первых таких попыток, совершаемых уже не в зарубежной, а в российской публицистике. Как первой попытке ей могут быть прощены многие упущения; следует, однако, на них указать, а прежде того – обозначить позицию автора. К людям, восставшим против соотечественников, да в лихую годину иноземного нашествия, относятся по-разному. Мне приходилось наблюдать – преимущественно у молодых – откровенную апологию, со жгучей завистью к осмелившимся, отважившимся, да притом получившим в руки заветную винтовку или автомат (из которого можно «от живота веером»). Встречается и отношение враждебно-брезгливое, при нежелании вникнуть в какие б то ни было причины измены и предательства. Есть, наконец, и осознание трагедии отчаявшихся, утративших все надежды найти с властью иной язык, кроме ружейно-пулеметного, пошедших против родины, как идут против самих себя, решаясь на самоубийство. Такое осознание встретим мы у Александра Солженицына в «Архипелаге ГУЛАГ», его позиция близка и автору этих строк.
Отношение Леонида Решина – скорее традиционно отрицательное, заслуживающее, разумеется, уважения, тем более что оно, как правило, старательно аргументируется. Преобладают тенденции разоблачительные, без сочувствия даже к тем обманувшимся, кто надеялся, выйдя из лагеря военнопленных и получив оружие, пробиться к своим. Главная же задача автора – убедить нас, что не следует придавать антисоветским формированиям того значения, какое невольно мы им придавали, вынужденные питаться слухами и домыслами. Согласно Решину, были эти формирования не столь уж многолюдны и роли в войне совсем или почти не сыграли, боеспособностью не отличались, для ее повышения приходилось их сильно разбавлять немцами, особенно в формированиях кавказских и среднеазиатских, где немцем был каждый третий или даже второй. Нравственный облик этих «бойцов» – бандитско-мародерский, политического содержания в их протесте не было, интересовала их – военная добыча: золотые коронки, выбитые у мертвецов, ювелирные изделия, часы, дорогая одежда и т. п. Зачастую они выполняли функции карательные, использовались против партизанского движения, население к ним относилось враждебно. При удобном случае – перебегали к своим (что, правда, слабо вяжется с бандитско-мародерскими вожделениями), пополнение же формирований происходило не за счет перебежчиков, а – пленных. Более или менее благородное деяние власовцев – помощь восставшей Праге – расценивается автором как спекулятивное: рассчитывали этой ненужной помощью купить себе политическое убежище и спастись от возмездия. Итог же всех изысканий и подсчетов автора – число коллаборантов, никак не составлявшее миллион, а лишь «немногим более 250 тысяч». Хотя, признает он, «тоже страшно – такого в нашей истории не было».
Похоже, для Решина миллион был бы не количественно страшнее, а символически: это уже такое число, когда измена теряет свое название. Покуда счет на десятки, сотни тысяч – это еще предатели. А миллион – это уже народ. А народ предателем себе самому быть не может.
Так же страстно отвергается версия о «политических причинах массовой сдачи в плен». Принявши нехотя советскую цифру – всего за войну 4059 тысяч пленных, автор ее объясняет «военными неудачами, неопытностью и некомпетентностью военного командования, ошибками, просчетами и преступлениями партийно-государственного руководства» (какими – не сказано), никак не признавая пленения добровольного. Подчас аргументы могут вызвать улыбку: наше внимание обращается на немецкую кинохронику, где сонмища пленных показаны в нательном белье – «это бойцы, захваченные врасплох, может быть – во время сна». Какой всеобъемлющий, непреоборимый сон! И – какое расплывчатое представление о взаимоотношениях воина с его одеждой. За сколько минут одевается солдат по тревоге, этого автор, поди, не знает, как и того, что на переднем крае зачастую в шинелях и полушубках спят, а в нательном белье, случается, ходят в контратаки; едва ли допустимо ему поверить, что гимнастерки и галифе скорее всего сбрасывались намеренно, поскольку на них были командирские (а хуже того – комиссарские) петлицы, шевроны, лампасы, канты и т. п. либо значки отличника боевой и политической подготовки – что, разумеется, участь пленного не облегчает.






