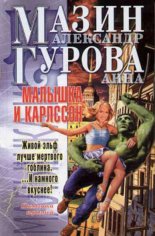Выйди из шкафа Птицева Ольга

Вот же гад.
— Редактируйте что хотите, — развожу я руками так широко, что вспоминаю утро, кипяток и махровые объятия Катюши. — Только свой текст я не дам.
Мышиные бусинки его глаз становятся идеальными окружностями.
— То есть как?..
— А вот так. — Отказывать ему неожиданно приятно. — Текст сырой, не готовый. — Внутри становится тепло и влажно, даже щекочет что-то, похожее на уверенность в правоте. — Я что, обязан отдавать вам недоношенного младенца, чтобы вы завтра же поставили его в смену на завод? В план ваш чертов? Да?
Праведный гнев пылает во мне, я уже и сам верю, что оскорблен, уязвлен, но не сломлен. Тимур медленно отодвигает от себя чашку, тягуче подтаскивает к себе салфетку, комкает ее в пальцах. Я прямо слышу, как скрипят шестеренки, как судорожно он соображает, что ответить, как вести себя со мной — заносчивым говнюком. Салфетка летит в сторону, приземляется на край стола.
— Я вас понял, я передам Константину Дмитриевичу.
Киваю. Пока он передаст Зуеву, пока тот надумает, что сказать мне, пока я побегаю от звонков. Неделя точно наша. За неделю я выбью из Катюши синопсис и пару кусков. Ничего, выкрутимся. И в этот раз выкрутимся. Обязательно. Где наша не пропадала, да, Катюш? Где наша не пропадала.
— Только нужен синопсис. — Этот никчемыш, названный редактором, прямо мысли мои читает.— Если будет синопсис, то я смогу… Смогу защитить вашу позицию. Понимаете? Вас не станут подгонять. Мне кажется, что вы правы… Это же текст, это же… — Смущается, но заканчивает: — Это творчество. Нельзя с ним так. Хорошо, что вы стоите на своем. Но мне нужен синопсис. Тогда я помогу.
Он уже не указывает, не соглашается — он просит. Он на моей стороне. От удивления я теряю хватку. Смотрю на никчемыша во все глаза, и он из никчемыша вдруг превращается в отважного борца. Воина моей невидимой армии.
— Договорились?
Киваю. Язык онемел, и я молчу. Но киваю. Он улыбается. Вскакивает, тянет мне визитку, бормочет что-то об электронном адресе, куда нужно выслать хоть что-нибудь, и вот тогда, тогда-то он меня защитит, мне дадут еще времени, я смогу дописать, выносить и разродиться, если можно вот так сказать, а потом мы вместе все отредактируем, и будет хорошо. И план их чертов выполнится. И наступит вечное лето.
Он уходит, застегивая на ходу куртку. А я остаюсь на месте, допиваю чай, прошу счет, расплачиваюсь, оставляю сотню сверху. Кажется, я спасен. Кажется, почти победил. Выгрыз у смерти поблажку. Но привкус остался поганый. До метро я шагаю, высоко задрав воротник, мелкие капли стекают вниз по шее. Врученная Тимуром визитка колется в кармане. Мышиные глаза, вспыхнувшие внезапной верой в мою авторскую любовь к будущей книге, колются еще сильнее, и стереть их из памяти не выходит до самого дома.
А дома случается немыслимое. Катюши нет. Я понимаю это, стоит только подняться на четвертый. Площадка вымерла. Тишайшая тишь расстилается под ногами. Три квартиры слепо моргают глазками, одна — наша — равнодушно пялится черным провалом дыры. Так смотрят куклы-голыши, когда подросший отпрыск, хозяин и друг вырастает, перешагивает за одну ночь время ангельской своей безгрешности и в первый раз чует щекочущее под ложечкой желание. Пакостить. Изуверствовать. Ковырять столовым ножом блестящие глазки вчерашнего товарища, слушать, как жалобно клокочет в нем при наклоне протяжное «у-ааа, уа, у-аааа».
Я помню себя таким. Мне шесть. Я сижу на полу, вытянув вперед тонкие ноги в коричневых колготонах. Колготоны мне не нравятся, совершенно, категорически не нравятся. Растянутые, с колючим швом на правом мыске. Я даже смотреть на них не могу. Подтягиваю коленки к себе, усаживаюсь так, чтобы не видеть это убожество, в которое меня нарядила с утра Павлинская. И ушла. Растворилась в хмельном облаке вчерашнего коньяка и приторных духов.
Мне скучно, и я устал. Я сижу так весь день, совершенно один, только лупоглазый бегемот в оранжевой футболке, подаренный еще зимой приходящим хахалем, смотрит на меня с сочувствием. Макароны в кастрюле, оставленной на плите, слиплись и стали похожи на чудище морское. Матушка обещалась к пяти. Я слежу за временем. В пять на улице все еще светло. В шесть начинает темнеть. В семь наступает вечер. Надо бы встать, включить свет и съесть-таки морское чудище, но я продолжаю сидеть.
С края тумбочки, к которой я привалился в начале седьмого, свешиваются блестящие кругляшки ножниц. Я смотрю на них. Они блестят. Я смотрю еще. Они подмигивают мне и сами ложатся в руку. Я правда не виноват, я не брал их, я не брал, мама, больно, я не брал, не надо, не брал.
Я держу их на вытянутой руке, в другой сжимаю бегемота. Его принес усатый толстяк, добродушный настолько, что сумел задержаться с Павлинской на неделю-другую и даже вызнать о моем существовании. И принес бегемота. Странный дядька, здоровья ему большого. Да ума не связываться с такими, как матушка моя.
Бегемот лупоглаз. Я уже говорил, да? Черт. Но он правда был лупоглазым. Две крупные бусины, крепко пришитые к серой морде. Я поддеваю одну ножницами, распахиваю их маленькую, чуть ржавую к перекрестью гильотину. Я устал, я измотан и обманут. Вечер, матушка где-то прожигает последние деньги с аванса, который так и не отработает. Это у нас в крови. Но мне шесть, я ничего не знаю. А знаю лишь, что мне хочется отрезать бусинку глаза у бегемота. А знаю лишь, что могу это сделать. Легко. Раз. И бегемот останется одноглазым. Два. И он навеки лишится своих чертовых бусинок. А еще я могу пропороть ему брюхо. Вырвать шмоток искусственного меха, распотрошить синтепон. Изрезать его на маленькие лоскуты. Так легко. Так упоительно и щекотно. Бегемот тяжелеет от страха, он не пытается сбежать, не молит о милосердии. Он смотрит на меня — оранжевая футболка, толстое пузо, могучие ноздри, два совершенно рабочих глаза. Полная беспомощность. Его. Полное всевластие. Мое.
Бегемот летит в стенку, отскакивает от нее и валится на пол. Лупоглазо пялится в потолок. Я начинаю рыдать еще до того, как дверь открывается, матушка впархивает в квартиру, видит меня с запретными ножницами наперевес и несется, и кричит, и размахивается, волоча за собой хмельное облако сегодняшнего коньяка и выдохшихся духов.
Я выскальзываю из памяти, едва замочив в ней ноги. На щеке саднит давно отгремевшая оплеуха. Нет, мама, я не брал, не надо, я не виноват, мамочка, не надо, нет. Да. Надо. Брал. Виноват. Не мамкай мне тут. Так его, так, паршивца, будет знать, как хвататься за острое. Будет знать. И я знаю, видит холодное небушко, точно знаю, что могу все, что угодно, — врать, красть, мерить женское и дрочить на себя красивого. Только не ножницы. Только не холодным в мягкое. Только не это, мам, только не так, я не буду больше, не буду, обещаю. Прости. Прости. Я все понял. Я буду знать.
Как знаю сейчас, что Катюши нет дома. Вожусь в холодном замке, прорываюсь через порог в пустоту и безмолвие. Хочется окликнуть ее. Имя почти срывается, но застревает, и я вязну в нем, непроизнесенном. Боюсь закрыть за собой. Вдруг Катя невидимой осталась на пороге, а я возьму и придавлю ненароком.
Катюша почти всегда здесь. Пока я там, где-то, что-то, с кем-то по важному поводу. Она здесь. Топчется в крохотной кухоньке, соединенной с единственной комнатой крошащейся аркой. Переставляет чашки в серванте, гладит лысое чучело, бывшее некогда белкой, а ставшее чупакаброй. Копается в бумажках, собранных на столе высоченными стопками, печатает себе тихонечко на дряхлом компьютере — развалине с выбитыми пикселями на крошечном экране.
Давай купим новый. Зачем? Ну как зачем — чтобы был. Ты же глаза убьешь, смотри, как он мигает. А жужжит! А греется! Однажды эта тварь загорится, слышишь? Слышу, отстань. Возьми мой ноут, а? С ним удобнее. Не возьму. Боже ты мой, ну почему? Нет, скажи, почему? Потому что на моем пишется. А на твоем нет.
И опять утыкается носом, только строчки бегут, опережая мигающий курсор, только пальчики жмут дребезжащие клавиши на кособокой клавиатуре — одна ножка отпала и затерялась, вторая чиркает по столу.
Ручка двери ледяная. Осторожно тяну на себя, поворачиваю замок, накидываю цепочку. Разуваюсь медленно и основательно. Шнурочки, задничек, носок протереть губкой. Молодец. Теперь пальто на вешалку, шарф рядом. Умничка. Можно идти.
На кухне ворчит холодильник. Ладонью успокаиваю его, мол, крепись, старина, еще поморозим. Проскальзываю в арку. Я ничего, я живу тут, вообще-то, так что ходить могу, не оглядываясь. Оглядываюсь. Шкаф смотрит на меня через зеркальные глазки. Сейчас они такие же мертвые, как дверные. Словно уходя Катюша забрала с собой всю жизнь. Изничтожила, высосала, сложила в сумочку то, что осталось, и унесла. Киваю себе зеркальному — тот медлит, но кивает в ответ. Хорош, конечно, краше в гроб кладут... Смахиваю его и опускаюсь на край стула. Катюшин стул у Катюшиного стола, а на столе Катюшин компьютер. Утка, как говорится, в яйце. Вдавливаю кнопку включения.
Дряхлый монстр разражается воем, шумит так, что я затыкаю уши. Сейчас она зайдет, сейчас зайдет. Где бы ни была, куда бы ни уковыляла. Этот гул слышен повсюду. В тайге птицы с криком сорвались в небо. С Альп сошла лавина. Поднялось цунами у берегов Японии. Покачнулись башни Мордора. Вспыхнуло око Сауроново. Пошла рябью Темная сторона. Поперхнулся камрой господин Начальник. И даже в Неверлэнде у феечек пыльца пообсыпалась.
Экран лениво вспыхивает приветственным окном. Дергается рабочий стол, весь — небо, безликое и бесхребетное. Ни пароля тебя. Ни землетрясения. Катя-Катя, как же ты так неосторожно? Дурочка моя.
Руки почти не дрожат, пока я методично открываю папку за папкой. Если есть на свете черновики новой книги, то они здесь, среди обрывочных документов, странных картинок и файлов с неисправными расширениями. Если синопсис написан, то он спрятан здесь, в папке «Рабочая», между первой редактурой «Шкафа», продающимся текстом и шаблоном рассылки по издательствам.
Я ищу. Я открываю и закрываю, листаю, считываю, загружаю и возвращаю на место. Системный блок рычит и греется, я легонько пинаю его, когда он зависает, оборвав мерное жужжание на половине такта.
Я ищу. Я возвращаюсь в черновики, я выискиваю новые слова между старыми. Я тяну ниточки, я пугаюсь, разглядывая на сохраненных снимках перекрученные шибари тел неизвестных полов. Потом. Потом подивлюсь, понасмешничаю в уголке. Потом подумаю, смешно ли мне, завидно, страшно, что Катюша не стесняется смотреть. А я и глянуть боюсь. Отбрасываю фотографии, исключаю из поиска видеоролики. Только тексты. Их много. Огрызки вышедшего романа. Задумки, не попавшие в него. Диалоги, сцены, карточки.
Гоню из памяти, как мы лежим на скрипучем чудовище, прозванном по ошибке кроватью, вокруг — распечатанные листы. Я ходил под дождем в ближайший закуток с принтером, ждал, пока смуглая тетка в замызганном свитерке отпечатает двадцать новых страниц, и брал их, еще теплые, из ее рук, не замечая обглоданных до мяса ногтей . Прижимал к груди живое наше, чудесное, написанное уже почти совсем, нес домой. И вот мы лежим, читаем вслух — нет, здесь повтор, это не повтор, это уточнение, нет, повтор, хорошо, повтор, но оправданный, не спорь, пожалуйста, читай.
Я и думать не мог, что когда-нибудь буду так счастлив, как был на той кровати, обложенный теплой еще бумагой, слушая, как читает Катюша, и отбирая листы, чтобы читать самому, целуя ее, чтобы чувствовать на губах слова, которые мы придумали, мы записали, и вот теперь проговариваем по написанному, овеществляя и делая вечными. Текст, нас, меня. Шкаф, из которого я выходил, стоило Кате вжать кнопку включения, запустить текстовый файл и глянуть на меня с ожиданием, ну, что там дальше было, говори, надо добить главу.
Куда ушло оно? Дрожащее внутри ощущение счастья? Поток — в него мы впадали одновременно и так мучительно прекрасно, что никакой оргазм и рядом не стоял. Оргазм, который обрушивался на нас в той же пугающей одновременности, стоило мне войти в нее, в мою Катюшу, прямо на теплых еще листах.
Куда ушло оно? Ведь ушло. Папка «Рабочая» не обновлялась последний год. Я смотрю на дату не в силах осознать. Ничего нет. Нового не написано. Катя — неряха. Она не моет плиту, пока жир не начнет гореть от включенной конфорки. Катюша забывает чашки, и плесень вырастает на дне, пушистая и радужная, словно ядерный грибочек. Она не выносит мусор, не моет унитаз, не подметает полы. Но лучше сдохнет, чем перепутает файлы, сохранит главу в неверной папке, забудет назвать ее с точным указанием даты.
Нового нет. Есть старое. Много старого. Наше старое. Изданное, оплаченное и потраченное. Нового нет. И не было. Катюша его не писала.
Закрываю папки, выключаю компьютер. Тот вздыхает еще разок и тихнет. Ноги не слушаются, но я встаю, шагаю в коридор, поднимаю цепочку. Возвращаться сложнее. Хватаюсь за стены, расплетаю обмякшее, тащу омертвевшее. Тахта встречает меня знакомой твердостью. Надежный друг. Подтягиваю колени к груди, закрываю глаза.
Тихо-тихо, показалось. Тихо.
До скрежета хочется забраться в шкаф. Продышаться в нем. Раствориться в запахах и темноте. Но Катюша скоро вернется. Уходит она редко, но всегда возвращается. Вот вернется, увидит меня в шкафу и все поймет. Нельзя. Нельзя. Нужно подумать. Вслепую тянусь, обхватываю резной угол, сжимаю в ладони так сильно, как могу.
Тихо. Тихо. Засыпай. Засыпаю, дружок, засыпаю. Надо поспать. Тихо. Ничего. Поспишь. Пройдет. Все пройдет. Спи.
Мне снится бегемот. Громадный бегемот. Бегемот в полнеба. У него могучие лапы, глубокие ноздри. Футболка на нем горит оранжевым пламенем. Он слепо тычется лбом, пошатывается, бьет закрученным хвостиком. Он когда-то был лупоглазым, я точно знаю. Но бусины отрезал один непослушный мальчик. Теперь бегемот ходит по миру, ищет его и обязательно найдет. Найдет и поднимет на острый клык, раскусит пополам, выплюнет и растопчет. Как же он ищет мальчика, мамочка, если у бегемота нет глазок? По запаху, Мишенька.
Тим
Тим резал лимон тонкими кругляшками. Чем тоньше — тем больше сока, чем больше сока — тем больше вкуса. Сыпал на них крупинки сахара, укладывал на фарфоровую тарелочку в легкий нахлест. Чай почти настоялся, стал крепким, вяжущим. Нежно скрученные листочки дарджилинга распрямились в горячей воде.
— Главное, не лить кипяток, дружочек, — учил Данилевский в далекие времена, а у Тима подрагивали руки, и чайничек в них позвякивал.
Заваривать чай он научился на «отлично». Хоть в зачетке прописывай. Проливом, в чайнике и френч-прессе, в кружке и специальной колбе. Крепкий черный, легкий, как перышко, белый, горькая сенча и жасминовая нотка улуна. Тим вообще легко учился. Выискивать огрехи синтаксиса в чужих рукописях. Стоять в чайной лавке, вдыхать сухую терпкость, различать шоколадные нотки и травяные веточки. Сочинять редакционные записки, презентации и макеты к защите. Покупать элитный чай по чуть-чуть, на пробу, на пару раз. Слишком уж дорого, быстро спивается, перестает радовать. Каждое открытие праздновали как новый год. Смаковали мелкими глотками, перекатывали по языку. Данилевский жмурился, затихал, набрав в рот янтарь пряного ассама.
— Сразу видно, что второй сбор, — одобрительно кивал Григорий Михайлович, наливая еще половину чашечки, и замирал с ней в недрах кресла, грея руки о полупрозрачные края. — Чувствуешь мед? Чистейший мед!
Тим кивал, чтобы порадовать старика, и лучше бы умер от туберкулеза, чем признался, что к чаю равнодушен. Все эти сборы, ферментации и скручивания, попадая в кипяток, становились точно таким же чаем, как и купленное в переходе ассорти из пакетиков. Горький, вяжущий, замудренный чай до сих пор казался ему невкусным. Если уж пить, то с сахаром, закусывая бутербродом. Но Данилевский таял от тепла их долгих чаепитий, оживал, разводил беседы и становился настолько родным, что Тим боялся смотреть на него — вдруг расплачется? Поднимался, уходил на кухню, резал тонкие кругляшки лимона, кипятил воду и давал ей чуть остыть.
— Ну и как твой подопечный?
Данилевский прошаркал к столу, опустился на табурет и перевел дух. Выглядел старик слабым. Тим рванул к нему с проспекта Мира, оборвав встречу, пробежал все эскалаторы, не присел в вагоне и запыхался, шагая по аллейке, подгоняемый тревогой. От нее подташнивало. Тим поднялся на шестой этаж, вдавил кнопку звонка, и пока Данилевский шел открывать, медленно и шумно, успел от души выругать себя — старик же предлагал ключи, столько раз предлагал, надо было брать. Бледный в тревожную серость, Григорий Михайлович долго копался с замком. В полутьме прихожей они коротко пожали друг другу руки, Тим разулся, скинул куртку и сразу пошел заваривать чай, чтобы оттянуть неприятный разговор.
— Подопечный? — рассеянно переспросил он, прикидывая, как бы подвести беседу к врачу и не прописанным толком таблеткам, которые все равно купил в аптеке у метро.
— Ну да, этот, как его?.. Тетерин.
Фамилия пролетела мимо ушей, не отозвавшись. Лимон дал сахарный сок, чаинки медленно дрейфовали, готовые поделиться горчащей сутью, даже чашки, и те, подогретые в теплой воде, выжидающе замерли на медном подносе.
— Готово. — Тим осторожно развернулся, чаинки закружились в легкой спирали. — Пойдемте?
— А может, здесь попьем?
Данилевский смотрел жалобно, как нашкодивший. Худые ноги в домашних флисовых брюках он безжизненно вытянул, а сам уперся локтями о стол и сгорбился, даже голову опустил. Нежная кожица затылка проглядывала сквозь седую пелерину волос. У Тима перехватило горло. Они никогда не пили чай на кухне. Кухня — место приготовления пищи, место ее принятия — в гостиной. Данилевский учил этому с легким удивлением, будто азбуке. Непреложные правила его жизни. Поднос опустился на кухонный столик с легким шлепком. Чай вышел из фарфоровых берегов, Тим промокнул его салфеткой, присел на краешек табурета, приподнял и поставил перед Данилевским чашку, придвинул поближе блюдце с лимоном.
Старик осторожно подул, наклонился, чтобы мелко дрожащая рука не пролила ни капли янтарного варева, и сделал первый глоток. Тим успел заметить, как нервно дернулся под морщинистой кожей острый кадык, отвел глаза. Молчание затягивалось. Нужно было найти тему. Заполнить тишину чем-то, что заглушит тяжелое старческое дыхание, всхлипывающие глотки и покашливание в перерывах между ними. Тим сжал пальцы под столом. Собраться. Срочно. Запах лимона бил в нос. Прямо как странный кумкват на дневной встрече. Расхлябанный образ Шифмана всплыл перед глазами. Тим схватился за него с радостью утопающего.
— Встречался сегодня с Шифманом, — начал он.
Данилевский оторвался от чая, глянул непонимающе.
— Тетерин который. Псевдоним у него — Шифман.
— Подопечный твой. Понял-понял. И как он? Запомнился?
Нагловатая полуулыбочка, кашемировый шарф, небрежно брошенный на спинку стула, перчатки без пальцев. Космы эти отросшие.
— Богемный.
Данилевский потянулся к нему, накрыл пальцы своими, неожиданно горячими. Уж не жар ли? Мало воды пьет? Сухая кожа, глаза желтоватые. Страх заворочался в животе.
— Ну-ну, дружочек, не суди строго по первому взгляду.
Был бы Григорий Дмитриевич там, видел бы Шифмана с этой скоропалительной бледностью и трагизмом, достойным Печорина, — точно не стал бы его защищать. Скорее, лекцию бы прочел о том, как важно для творца быть искренним человеком, не обязательно хорошим, но искренним, да. Только Данилевского там не было. Тим высвободил руку, повернулся к холодильнику.
— Вам макароны сварить или гречку?
— Не утруждайся! — привычно запротивился Григорий Михайлович, но под его выжидательным взглядом быстро сдался. — Гречу, если не сложно. — Подумал немного. — С грибами.
Пока Тим резал лук, пока жарил грибы и кипятил воду с пакетиком гречки, Данилевский допил чай и ушел к себе.
— Протяну ноги чуток, что-то гудят сегодня.
Нужно было остановить его, схватиться за случайную жалобу, выудить из нее повод записаться к врачу. Или вызвать на дом. Или позвонить кому-нибудь для консультации. Или, на худой конец, просто признать, что помощь нужна. И не завтра, а прямо сейчас.
Но вместо этого в голову Тиму лезла сущая ерунда. То, как задумчиво Шифман переспрашивал каждый его вопрос, как крутил в хищных пальцах чашку, как вылавливал тонкой ложечкой оранжевые ягодки и жевал, морщась от кислоты и сладости, мигом теряя всю напускную загадочность.
И как отказал ему. Не раздумывая о последствиях. Искренне удивившись, что он вообще мог это предложить — отдать текст до окончания работы. Пустить чужака к своему созданию. Разрешить изменять его, кроить и облагораживать, лишая автора последних недель созидательной тишины. Интимности прощания.
Тим никогда не писал сам. Переводил, переписывал, редактировал, вычитывал и исправлял. Но создавать новое, выхватывая мысль из бесконечного гомона, подыскивать для нее слова, записывать их, не оглядываясь, не сомневаясь… Потому что боящийся и сомневающийся никогда не создаст книгу. Не может. Не способен. Только уверенный в том, что имеет на это право. Это Тиму было не по плечу.
Писатели в его мире занимали нишу внеземных созданий. Потому, наверное, так сложно было причислить к ним, настоящим, бесстрашным и истинным творцам, распиаренного писаку, местечкового гения продаж и любимца низкопробной публики. Шифман должен был скинуть рукопись, как отработанный материал. Легко. Не думая ни секунды. Не дрогнув. Ни малейшего внутреннего сопротивления Тим не ждал. Тексты пишутся за аванс, сдаются ради высоких процентов. Откуда тогда вспышка паники в мутноватых глазах Шифмана, откуда ярость отказа, откуда все это? Как он там сказал? «Недоношенный младенец». Пишущий на заказ не должен так чувствовать, так противиться законам рынка, обрывать мягкую беседу, жечь яростью. Презрением даже. Картинка не складывалась, и это беспокоило. Бесило даже. Не давало выкинуть из головы проклятого Шифмана и его тупую книгу, которой суждено было стать бестселлером в дополнительных тиражах к десятитысячному основному. И это бесило еще сильнее.
Гречка сварилась. Тим высыпал ее на тарелку, полил грибами в сливках. Так себе диетическое блюдо для больного старика. Лишь бы только поел.
— Григорий Михайлович! — позвал он, выглядывая в коридор.
Тишина.
— Григорий Михайлович!
Данилевский не откликался. Страх завозился под пупком, стянул холодом легкие. Тим прошел по коридору, постучал костяшками о косяк двери, ведущей в спальню.
— Григорий Михайлович.
Раздался скрип кровати, невнятное бормотание. Инсульт. Вдруг инсульт? Или удар какой-нибудь? Что делать? Скорую? Где его паспорт? Есть ли полис? Тысяча вопросов разом заметались в голове. Тим застыл в дверях не в силах заставить себя заглянуть через порог. Секунды тянулись. Скрип не повторялся. А если он умер? Вот прямо сейчас лежит там, совсем мертвый. Навсегдашно. Взаправдашно мертвый.
Чтобы не завопить, пришлось кусать губу. Тим бросил себя вперед, обхватил дверной косяк и перевалился через него, как через перила.
Данилевский спал на спине, подтянув плед к подбородку. Он дышал через приоткрытый рот — спокойно и беззвучно. В слабом свете торшера его кожа стала совсем желтой и восковой. Заострился нос. Впали глаза с опущенными тяжелыми веками. Если бы не слабое движение груди — вверх-вниз, вверх-вниз — Тим решил бы, что старик и правда мертв. На самом деле. Нав-сег-даш-но. Но Данилевский дышал. Пока еще дышал.
«Завтра, — пообещал себе Тим, пока перекладывал горячую еще гречку в бокс и прятал на подоконнике у балкона. — Завтра позвоню в регистратуру и узнаю, как вызвать врача на дом».
Дверь он запер ключом. Столько лет стеснялся брать, а теперь взял, не раздумывая. Если есть в старости что-то успокаивающее, то оно в стирании границ приличия. Беспомощность тела развязывает руки тому, кто взялся за ним ухаживать. Ни тебе стыда, ни норм, ни чувства такта. Тим шагал к метро, не замечая стыков плиток.
Делай, что должно, и будь, что будет, решил он. И стало легче.
Глава четвертая. Аппликатор Кузнецова
Я
Катя будит меня холодным тычком в бок, пугается жара, щупает ребра, грудь и шею, долго держит ладонь на лбу. Я остываю, пока она греется, и все остаются довольны в средне комнатной своей температуре.
— Не знобит? — спрашивает Катюша, не слушает ответ, а встает, ковыляет в коридор и сразу начинает шуршать пакетами.
«Ты ничего не пишешь! — рвется из горла, но я перехватываю его, давлю сильнее. — Ты ничего не пишешь, Катя! — Под пальцами легонько хрустит трахея, шероховатые хрящи перекатываются под кожей. — Ты ничего-ничего-ничего не пишешь, а нам уже заплатили за все, что ты должна была написать».
Если надавить сильней, еще сильней, чем обычно, можно вспыхнуть тьмой и обнулиться, это так просто, что я почти решаюсь, но разжимаю хватку до того, как перед глазами начинают мерцать черные дыры. Я провалился в сон минут на сорок, но и этого беспокойного, томительного небытия хватило, чтобы окончательно потерять всякую связь с реальностью. Хаотичные поиски синопсиса, Катюшин компьютер и тонны файлов в сотне папок — все эти картиночки и странные видео, старые тексты и отсутствие новых — отделились от меня слоем пищевой пленки. Вроде бы прозрачная, но прочная, так просто не надорвешь, придется подковырнуть ногтем, потянуть на себя, словом, побороться. Только сил на борьбу не хватит. Я сползаю с тахты, шарю по полу, нащупываю холщовый мешок и тащу его к себе.
Коврик с острыми розочками был найден в ящике этой самой тахты, купленной на сайте распродаж и приволоченной к нам вспотевшим пареньком в спортивном костюме с неоновыми лампасами.
— Бабка моя на ней померла, — честно признался он. Затащил верхнюю часть тахты в прихожую и поставил ее на манер крышки гроба, приперев к стене. — Это ничего?
Денег у нас тогда не было от слова совсем. Совсем — это когда молоко, просроченное еще вчера, берется с акционной полки, кипятится и разливается по стеклянным баночкам, чтобы дольше простояло. А замороженный подсохший хлеб греется в микроволновке и немедленно естся, запитый тем самым прокипяченным молоком. Так что смертный одр незнакомой старухи мало меня напугал. Я протянул пареньку озвученные две тысячи и долго потом выбивал предлагающиеся к дивану подушки под неодобрительное сопение Кати.
— Есть же кровать, зачем чужое старье хранить? Вот ты свалишь, а мне его куда?
Я не свалил, да и тахта прижилась. Открыть ящик мы додумались месяца через три. В пыли и клочьях седых волос нашелся ободранный настенный календарь за далекий 1983-й, две искусственные елочные лапы с остатками мишуры и колючий коврик, видать, бабка любила почесать старые чресла, да поострее чтобы. Календарь мы выкинули, ветки оставили, думали достать в декабре, но забыли раз, забыли другой. А коврик я приспособил для своих нужд.
Когда в голове собиралась тяжелая вода, перехлестывала за края, шумела в ушных перепонках, не имея ни единого выхода, готовая разорвать меня изнутри, я расстилал коврик, сбрасывал тряпье и ложился. Навзничь. Лицом в потолок. Телом в острые пластмассовые розочки. Каждая колючка, впившаяся в голую плоть, протыкала во мне дыру, и вода начинала литься из меня, выплескиваться через уши на плечи, стекать по спине, рукам, бедрам и голеням, сочиться через поры, пропитывать собой коврик и пол, все, что угодно, только не меня. Она пахла тяжелой смесью скисшего портера и сигаретных окурков. Я дышал через рот, чтобы не чувствовать ее смрада — запаха Павлинской, вернувшейся домой на пятые сутки загула. Я дышал и чувствовал, как боль заполняет пустоты, как после она сменяется огнем, и тот прижигает все мои язвы, все кровоточащие бубоны и гнойные нарывы.
— Знаешь, как эта хрень называется? — спросила как-то Катюша, наблюдая мои мучения. — Аппликатор Кузнецова. Кажется, им в психушках лечили, электричеством и вот им. Мерзкая штука.
На коврик Катюша прилегла всего раз, взвизгнула и отскочила. Больше не пробовала. Смотрела на него издали обиженно и недоверчиво.
— Бабка та, видать, потому и померла! — ворчит она, пока я разворачиваю коврик и укладываюсь, охаю и тут же выдыхаю с наслаждением. — Проткнула себе точку акупунктурную. И все. Вызывайте понятых.
Закрываю глаза, отделяюсь от страдающего на колючках тела, поднимаюсь к потолку, слышу, как шуршит пакетами Катюша, достает из них розовые пласты курицы, салатные листья в капельках воды, сливки, чай, какие-то цветастые конфетки и вафли в хрустящей упаковке. Времена прокисшего молока давно прошли. Мы так и не научились экономить, тут же сливая все, что приходило мне, не глядя на счет, не задумываясь о черном дне. Вот это на новое платье. Тебе. А вот это мне. Вот это на духи. Тебе. И мне. И еще мне. И на блестящие баночки, и на пушистые кисточки, и на мелочевку вроде льняных салфеток. На доставку еды из центра в третьем часу ночи. На колючее шампанское. На холодные закуски к нему, что привозили в крафтовых лоточках. И на тайные радости. И на радостные тайны. И на грешки. И на грешки грешков. И еще по одному адресу, который и тайна, и грех, и повод скандалить до драки. И снова тебе, хорошая моя, лучшая, родная. И снова мне. Мы заслужили. Чего хочется? Платьев и винишка, вот и мне хочется платьев и винишка. Так будут нам платья и винишко. А стеклянные банки для прокипяченного молока выбрось. Не пригодятся. Мы же с тобой почти знаменитости. Мы с тобой почти все смогли. Осталось закрепить успех. Ты же пишешь, родная? Пишу. Пиши. Нам же отвалили столько денег, что хватило бы на машину, только зачем машина, давай еще вина.
А теперь я лежу на пластмассовых розочках, голый и нищий, опять голый и нищий, а Катя решает, потушить ли курицу, а может, пожарить креветок. Или сходим куда, а, Миш? Давай сходим.
— Я устал. Не хочу.
— Ну да, конечно. — Катя подходит близко, слишком близко, и я чувствую, как на грудь мне опускается ее маленькая ступня. — Ты же сегодня уже ходил. — Чужой вес добавляется к моему, колючки впиваются сильнее, проникают глубже, я дергаюсь, но только крепче насаживаюсь на их голодные острия. — Не со мной, правда. Но ходил.
Она давит, а я прогибаюсь. Коврик покладисто участвует в нашей борьбе. Он бы и рад меня защитить, но может лишь протыкать сотней прожорливых розочек. Я слышу, как лопается кожа. Кричу. Отталкиваю мозолистую стопу с шершавой пяткой, вскакиваю, завываю, как ошпаренный крутым кипятком. Снова ошпаренный крутым кипятком.
— Дура! Ты чего вообще? Мне же больно!
Катя тяжело оглядывает меня, крутящегося, голого и вопящего в попытке разглядеть нанесенные спине увечья.
— Мне тоже, — говорит она и возвращается на кухню.
Нужно сказать ей, что редакторская мышь оказалась никчемышем. Блеклым пареньком. Туповатым мальчонкой. Ничего интересного. Ничего опасного. Может, только фарфоровые мочки, сладкие на вкус. Я вспоминаю их и давлюсь признанием.
Шкаф слеповато отражает мои метания, спина — вся в красных, медленно переходящих в синеву точках, горит и пульсирует. Прижимаюсь ей к прохладе стекла. Обжигаюсь льдом, но облегчение тут же накрывает спасительной волной. Стою, остужаю спину, расплющивая о старое зеркало голые ягодицы. Катя яростно гремит на кухне, швыряет сковороду на плиту, отвинчивает кран, и вода с ревом бьется о дно раковины. Ее ревность жжется сильнее крошечных синяков, которыми неумолимо покрывается все от шеи до копчика, и я проникаюсь внезапной жалостью. Отрываю спину от спасительной прохлады, спасибо, друг, снова ты меня спас, снова выручил, что бы я без тебя, спасибо, брат, ценю. Подхватываю с пола трусы, натягиваю их, потом майку, ткань больно трется о свежие ранки, но я терплю.
Катюша лютует в недрах холодильника, вышвыривает из него подкисшие йогурты, целится в ведро, но промахивается, очередная баночка бьется о край, фольга лопается, и густая белая жижа плещется на пол, дверцу холодильника и босые Катюшины ноги.
Чертыхаемся хором. Я хватаю тряпку, опускаюсь на корточки, начинаю вытирать прохладную лужицу с клубничными вкраплениями. Катя не двигается, но я чувствую, как она наблюдает за мной — обиженно, с болезненной уязвленностью настолько же женской, насколько детской, или наоборот. Осторожно протираю уголком тряпки пол, смахиваю пролитое, промокаю, вытираю насухо. Чистым краем провожу по испачканной голени. Легонько-легонько. Катя вздрагивает, но продолжает стоять и смотреть. Отбрасываю тряпку, обнимаю обиженные ноги, прижимаюсь щекой чуть выше колена. Молчим.
— Куда ты хочешь сходить? — спрашиваю, когда она наконец расслабляется, отпускает обиду, обратившую живое и мягкое в ледяную глыбу пустой ярости.
Чувствую, как влажная ладошка опускается мне на затылок, треплет спутанные лохмы, царапает коготками спрятанную под ними кожу.
— Никуда, — решает она. — Давай дома.
— Давай.
— Что будешь? Курицу или креветки?
Живот сводит голодной судорогой. Проглоченный впопыхах кумкват его определенно не устроил.
— И курицу. — Целую левое колено. — И креветки. — Целую правое.
Катя отпихивает меня, но смеется. Легко и звонко, будто не было сцены с ритуальным распятием меня на колючем коврике. Катя легко забывает все, чего ей не хочется помнить. Мне остается только позавидовать. Подняться с корточек и отправится на поиск креветок в недрах морозильника. Память, как тяжелая вода, не нашедшая выхода, плещется внутри черепной коробки. Там и острые розочки, впившиеся в спину, и аккуратная ступня на моей груди, и старый компьютер без намека на рукопись. И все, что я хотел бы, да никогда не решусь предъявить ей, спасшей меня однажды, а теперь имеющей право злиться, пакостничать и лгать.
Мне было пятнадцать. Хуже возраста не придумать. Какой это класс, получается? Девятый-десятый? Значит, девятый-десятый. Время бьющих в голову и пах гормонов, дни самоопределения и тяжелого рока. У всех нормальных пацанов все так и бывает. Шаландаешь по дворам до темна, куришь тайком, а сигарету двумя палочками держишь, чтобы руки не провоняли. Пьешь самое дешевое пиво из полторашки на всех, гогочешь громогласно, и гогот твой разрывает небесную твердь.
В пятнадцать я по дворам не шастал. Во-первых, это опасно. В нашей тьмутаракани так вообще. Ты либо часть своры, и тогда ночь — твое законное время щупать девок и отжимать телефоны. Либо обладатель того самого телефона, который на потеху тем самым девкам и отожмут.
Телефон терять мне было нельзя. В нем уже поселилась Катюша, найденная на просторах медленного мобильного интернета где-то между текстовыми играми и текстовыми же чатами. Катя была тогда суммой мегабайтов сообщений, которые с трудом тянул из сети мой дохленький телефон, купленный в тайне от матери на деньги, что я сэкономил на школьных обедах.
Не жрал ничего, кроме булок за пять пятьдесят, но копил. Два учебных года. Как же я был счастлив, когда купил его. Нет, у меня, конечно, был телефон. Крепенькая такая раскладушка, яркий экран, модный рингтон. И симка с отрубленным интернетом. Не ходи ты, Миша, в Африку гулять. В Африке гориллы, злые крокодилы и весь этот мусор, Миша, вся эта гниль, геи эти чертовы, педофилы, Миша, знаешь, что они сделают с таким сладким мальчиком, Господи, Миша, не смей, если я узнаю, что ты в интернетах ваших сидишь, я тебя изобью, я до смерти тебя изобью.
Спасибо, мама. Верю.
Павлинская медленно уходила в пике. Грядущий кризис прижимал ее, как мушку — тапка. Один театр закрылся, второй уменьшал финансирование, залы пустовали, матушка ветшала, злобилась и плохела, о-не-на-ви-де-ва-ла-сь. Ко всем. К соседям, к кондуктору, к продавщице в магазине на углу, к моим учителям и своим врачам, к коллегам, этим подлым курвам, Миша, сволочи неблагодарные, чтоб они сдохли. Но самый суровый гнев ее опускался на мужчин. О, божьи ошибки, наделенные корнем всех зол. О, источники шекспировских страстей. О, мерзотные твари, неотесанные и слепые.
— Миша-Мишенька, — твердила она, начиная плакать театральными, крупными слезами. — В моих руках ты, только ты. Я выращу тебя героем! Титаном! Опорой и надеждой всего мужского рода. О, дорогой мальчик, я сделаю из тебя мужчину.
Давно уже канули в бездну мои красивые платьица и белоснежные колготы. Волосы матушка обкорнала мне сама, и я долго ходил, как тяжело переболевший, в проплешинах, с неровными концами и клокастой макушкой. В пятнадцать она продолжала стричь меня, но я мог выбирать прическу из предложенных мне модных журналов года так восемьдесят второго.
Я носил строгие костюмы, мама покупала их на барахолках. Мы приезжали к открытию, когда помятые мужики только начинали вытаскивать из гигантских баулов скомканные тряпки и вешать их внутри обшарпанных ларьков. Мама пробегала вдоль ряда, хватала пиджаки за рукава, инспектировала ровность стежка на рубашках, щупала мягкость шерсти на длинных штанинах, которые сама же потом подшивала либо слишком, либо недостаточно коротко.
И я мерил эти нескончаемые брюки, стоя на картонке, задернутый прозрачной от старости тряпочкой. И я тащил домой ненавистное шмотье. И я носил его, как носят метку проказы, гордо задрав тощий подбородок.
Никто из выряженных в джинсу и скандинавскую пряжу одноклассников ни разу не посмотрел на меня без отвращения. За эти чертовы костюмы меня и били. Нет, конечно, поводов и без них хватило бы, но тугие подплечники, дурацкая ширина брючин и тоскливая серость полосок, словно красная тряпка, мелькали перед носом каждый учебный день, разъяряя и подначивая.
— Что, самый умный, да? Слышь, Тетерин, самый умный? — твердил очередной питекантроп с массивной челюстью и первыми усиками над обветренной губой. — Че, как пидор ходишь, а? Как пидор! Пидор!
Я прятал лицо за скрещенными руками, ловил первый же удар под дых и падал на колени, сворачивался клубком, а надо мной все гомонили, лениво пиная, вопрошали, что это я хожу, как пидор, не зная, что как пидор я хожу по вечерам, из комнаты в комнату, осторожно покачиваясь на тонких каблуках. Веня Страхов — главный гопарь всея глуши — словил бы инфаркт, увидев меня в матушкином бархате с меховым боа, но ему хватало шерстяных костюмов и пыльных рубашек.
С этим, в принципе, можно было жить. Какая-никакая, а стабильность. Приходишь в школу к восьми тридцати, к полудню обедаешь, в двенадцать двадцать идешь в сортир, получаешь пару крепких ударов в печень и один в челюсть, к двенадцати тридцати уже свободен. Быстро стер кровь, прошелся мокрой ладонью по изгвазданной в побелке спине и заднице, если поспешить, то на алгебру можно успеть до звонка. А там и до дома рукой подать. А дома матушкин шкаф. Бархат, каблуки и мех. Дома спрятан мобильник, а в нем Катюша. И никакого Вени Страхова.
Невозможно стало как раз на алгебре. Кажется, шла вторая четверть. Функции, дискриминант, на ноль делить еще нельзя, но предчувствие чуда уже теплится на горизонте. Алгебраичка Настасья Геннадьевна — потрепанная женщина с толстыми щиколотками, в слишком узкой юбке горчичного цвета, долго отчитывала у доски лопоухого Венечку Страхова. Тот не сумел решить уравнение, подавился гнусным смешком от слова «многочлен», так еще и ведро у доски на себя опрокинул. Класс зашелся хохотом. Что бы не посмеяться, когда все свои?
Я пропустил веселье. Старательно заштриховывал поля тетради, чтобы получился переплетенный узор. Видимо, алгебраичка приняла мое спокойствие за акт почтения. Эта толстая дура схватила Веню за плечо, встряхнула его, обруганного, потного от смеха и грязного от меловой воды, подвела ко мне и грозно спросила:
— И вообще, ты почему, Страхов, ходишь в школу таким пугалом?
Веня красовался в драных джинсах с посадкой низкой настолько, что все окрестные девчонки знали расцветку его трусов. Хохот стал болезненным. Я наконец почуял опасность, отбросил карандаш, окаменел, как мышь, что прикинулась мертвой.
— Посмотри на Тетерина, — неумолимо продолжила свою тираду Настасья Геннадьевна, не знавшая, что этим подписывает мне смертный приговор. — Одет, как человек. Костюм, брюки. Нет, ты посмотри! — И с силой подтащила Страхова ближе. — Миша, встань, пожалуйста.
Смех оборвался. Единый организм классной стаи замер в предвкушении крови.
— Миша, встань! — с нажимом повторила алгебраичка, и я послушался, что еще мне оставалось.
Колени дрожали так, что широкие брючины шли рябью. Я толком не слушал, что говорила Настасья Геннадьевна, но каждое ее слово звучало ударом молотка о крышку свинцового гроба, в который меня заколачивали половиной класса в тот же вечер, после финального звонка.
— Сука, — рычал Страхов, размахиваясь для нового пинка. — Пидор херов в костюме пидорском! А мне теперь к класснухе с матерью идти!
Я прятал голову в коленях, даже не думая отбиваться. Накал всеобщей ярости обжигал больнее самых метких пинков. Меня ненавидели, зло и безжалостно, и дурацкий костюм не был первопричиной. Это я понял позже, но в тот момент, не осознавая толком, впервые принял как данность — я другой. А других пинают толпой, сплевывая мутную мокроту так, чтобы попасть в зажмуренные глаза и перекошенный рот. Других хватают за шкирку и тащат на школьные задворки, вереща нечленораздельное, ликуя, как принято было в древних племенах.
Нерешенный пример, тупой смех и бесконечные неуды легко стерлись из коллективной памяти стаи. Остались только мои нелепые штаны — видимый корень всех бед и вызова в школу родителей. Их-то с меня и сняли. Разодрали прямо на моих глазах, потянули за ненавистные брючины, поднажали, и ткань с треском разошлась по дешевому шву. Колючая обида, скрытое ликование, боль и стыд обернулись тяжелой водой. В пятнадцать сложно разобраться с прыщами, поллюциями и ломаным голосом. С тяжелой водой в пятнадцать разобраться невозможно.
Страхов бил пинал меня с пугающим остервенением. Пудовые удары прилетали в живот и грудь, потом он перешагивал через меня, и удары смещались на поясницу. Тугая боль разливалась по телу, стучала в ушах, но чувствовал я ее отстраненно, будто издалека, и только пытался защитить нос, особый свой, нездешний нос — Павлинская изредка гладила меня по тонкой переносице, цокала языком, мол, надо же, как удался, греческий профиль, сынок, у тебя греческий профиль.
— Хватит, Вень, покалечишь, — наконец сказал кто-то, и удары нехотя замедлились.
Толпа расходилась еще медленней. Пока они топтались вокруг, лениво допинывая, гогоча и сплевывая, я продолжал лежать на земле, свернувшись так, чтобы драгоценный нос скрывался между острых коленок от всех сущих невзгод. Остатки несчастных брюк валялись в талом снегу, трусы промокли, но я боялся пошевелиться, лучше вмерзнуть в склизкую грязь и талый снег, чем привлечь к себе внимание уходящих, разбредающихся прочь от рукотворного капища во дворе муниципальной школы номер семнадцать.
— Чет сильно ты его, — пробурчал, отдаляясь, чей-то озабоченный голос.
— Как на гниде заживет, — отмахнулся Страхов.
— Вот заявится завтра с мамкой… — не отставал сомневающийся.
— Кто? Тетерин? — Кто-то неопознанный залился мерзким хохотком. — У Тетерина мать — алкашка двинутая!
Новая волна ликования захлестнула не успевших разойтись.
— И проститутка!
— И блядь!
— Это одно и тоже, придурок.
— Да по хрену. Свихнутая она. В жизни в школу не придет.
— А папаша?
— Откуда у него папаша? Он же пидор.
И снова хохот. И стыд. И промокшие трусы. И оплеванное лицо. И саднящее сразу в каждой своей замученной части тело. Я заставил себя подняться, когда грязь вокруг меня стала хрусткой, а холод наконец пробрался через заторможенное неверие, что это все случилось со мной. Что это я, Миша Тетерин пятнадцати лет, лежу в истоптанной луже, почти голый, окончательно промокший и существенно избитый. И никто не придет меня спасать. Потому что мать моя — двинутая алкашка, а отца быть не может, я же пидор. Я — Миша Тетерин пятнадцати лет. Пидор. И штаны мои, широченные шерстяные штаны, разодранные и оледеневшие, — главное тому доказательство.
Я шел домой, завязав на поясе рукава пиджака. Куртка осталась висеть в запертой школьной раздевалке. Штаны я выкинул в мусорный ящик на углу. Портфель, закинутый кем-то на крышу пристройки, достать не вышло, так что руки ничего не оттягивало, и я шел, широко размахивая ими, стараясь занять как можно больше места в зыбком пространстве улиц, скованных предчувствием скорой зимы.
Ключи остались в куртке. Это я понял на подходе к дому. Приземистый кирпичный блок, газовые колонки, рыхлая побелка, изгаженные лестницы и крикливые тетушки, выливающие ведра половой воды прямо из окон. Дверь подъезда открылась с натугой, ни тебе общего ключа, ни домофона, просто скрипучая рухлядь с пробитой посередине доской . Я поднимался по ступеням и представлял, как надавлю на звонок, а с другой стороны раздастся недовольное бормотание, стук голых пяток по линолеуму, и дверь откроется.
Павлинская увидит меня в полутьме лестничной клетки, втащит через порог, ахнет, заплачет, наверное. Начнет чертыхаться, толкать меня в ванную, стаскивать измочаленное тряпье и загонять в душ. Будет причитать и ругаться. Будет грозиться позвонить кому-то в администрацию, не школы, Миша, города, уж они-то меня услышат, уж они-то не оставят нас в беде. Но никуда не позвонит, и никто не встанет на защиту. Зато весь вечер мама будет моей. Может, сварит бульон, капнет в чай немного коньяка, и мы будем сидеть на кухне, она начнет вспоминать былые свои высоты, а я стану слушать. Про европейского режиссера, что почти увез ее в Ригу, да получил телеграмму от толстой стервы-жены и уехал, не простившись. Все они такие, Миша. Был еще один профессор. Интеллигентный человек, а как дошло до дела, озверел! Еле ноги унесла, поверь мне, мой мальчик, высшее образование не делает человека человеком, нет, напротив, пока все кругом идут на поводу у страстей, эти сидят над книгами, а потом, Миша, на них не найти управы, поверь мне, мальчик мой. И я буду кивать, верить, слушать, попивая бульон, и чай, и коньяк. И все пройдет. И ушибленный копчик перестанет ныть, и отбитые почки поднимутся на место, и в голове остынет пульсирующий жар. И тяжелая вода схлынет. А я останусь. Просто Миша Тетерин. Просто пятнадцать лет.
Павлинская моего отсутствия не заметила. Она ввалилась домой и рухнула в прихожей, носок ее сапога застрял между дверью и косяком, так что ни звонок, ни ключи мне не понадобились. Я перешагнул через нее, отодвинул в сторону безжизненную ногу, захлопнул за собой дверь. Сорвал узел пиджака, скинул ботинки, носки, трусы, рванул край рубашки, и на пол посыпались пуговки, слабо пришитые китайской рукой. Павлинская застонала, пошевелилась, но тут же обмякла. Нужно было перевернуть ее на бок, чтобы не захлебнулась ожидаемой вскорости рвотой. Я оставил ее так, как была, лежащей ничком на полу, в путах облезлой шубы и перепачканном платье, а сам пошел в ванную.
Таблетки матушка прятала в шкафчике над раковиной. Не уверен, что их ей выписывали, но доставались они регулярно и пились горстями, чтобы нервы не шалили, Миша, чтобы не наступала беспросветная ночь. Хватит ли пузырька, проглоченного залпом и запитого двумя глотками коньяка, чтобы эта самая ночь наступила, я не знал, но решил проверить.
Таблетки перекатывались в пузырьке, поскрипывали и шептались. Павлинская громко всхрапывала в коридоре. Я пересек комнату, подхватил с тумбочки початую бутылку и застыл у дверей шкафа. Это должно было случиться в нем. Близость избавления притупляла боль. Я забрался вовнутрь, прислонился щекой к мягкому подолу трикотажной юбки. Стало тепло. Пахло цветочным и сладким, у Павлинской отродясь не водилось таких парфюмов. Тяжесть бутылки с коньяком перевешивалась силой, спрятанной в крохотном пузырьке. Зубами я подцепил крышку, сплюнул в сторону. На языке загорчило, слюна заполнила рот. Сколько их там? Моих новых друзей в глянцевой оболочке. Штук пятьдесят. Хватит? Хватит.
Помню, что облизнул горлышко пузырька — оно было ледяным и неожиданно вкусным, как свежая сосулька, прозрачная на просвет. Помню, как решил глотать таблетки по одной, запивая коньяком, подумал, что так будет не страшно. Нездешняя цветистая сладость щекотала в носу. Кажется, это была липа, может, жасмин. Закончиться там, в спокойной темноте матушкиного шкафа, вдыхая май с примесью коньяка, было бы чудо как хорошо.
Я успел проглотить четыре таблетки. Четыре хмельных глотка чесались на языке. На пятом я услышал звонок. Чуть заметную трель. Вибрация и слабый колокольчик. Услышал и закостенел. Этого не могло быть. Тайный мобильник, спрятанный между подушками дивана, стоял на беззвучном режиме. Я никогда и не слышал его звонка, но сразу понял — это он. Забытый в пыльной темноте, вспыхивает экраном, зовет меня, тревожный, чующий беду.
Никто, кроме Катюши, не знал этот номер.
Я зажмурил глаза, проглотил пятый кругляшок, запил его. В голове натужно гудело — скорее от коньяка, чем от матушкиной дури. Я заставлял себя не слышать звонок, но слышал его. Слышал. И уютная теснота шкафа перестала защищать, и ноги тут же затекли, и липовый цвет рассеялся, уступая место привычным ладану с амброй.
Я толкнул дверцу, вывалился наружу, со всей остротой осознавая, как беспомощен сейчас — голый, уже пьяный, немного прибитый таблетками, испуганный до сраных чертиков, — и пошел на звук. Ноги подкашивались, голову мягко уводило в сторону, тело раскачивалось на гигантском маятнике. Пальцы безвольно скреблись по дивану, пока я нащупывал мобильник, готовый раскалиться от негодования.
— Да?
— Мне страшно, Миш. — Катя шептала сдавленно, будто говорила через плотную ткань. — Я боюсь.
— Чего? — Сердце забилось в горле, как рыбина, поднятая на крючок.
— Темноты. Тишины. Ничейности. — Она перечисляла, будто список покупок зачитывала, и от этого мне стало совсем уж жутко. — Боюсь, что мы закончимся.
— Мы?
— Ты и я. Понимаешь?
— Нет.
Я сглотнул, схватился за спинку дивана и опустился на него, колени потрясывало.
— Вот и я не понимаю. Мы же есть. Правда?
Проглоченные таблетки комом встали в желудке.
— Есть.
— Значит, мы не закончимся, так?
— Так.
— И бояться нечего?
— Нечего.
— Хорошо. — Катя помолчала. — Я не буду бояться. Спокойной ночи, Миша.
И повесила трубку.
Пока меня мучительно рвало в покачивающийся унитаз, а холодная плитка резала и без того отбитые колени, я понял, что раньше мы не созванивались. Я и Катя. Только сообщения. Только буквы. И вдруг звонок. Вдруг голос. Так просто. Один звонок, и Катюша перестала быть набором символов в моем телефоне. Обрела реальность существования. Страх и надежду. Мое обещание не заканчиваться. Так просто. Один звонок, пара вопросов, и голый пятнадцатилетний пидор выблевывает материнские таблетки, продолжает жить. Становится Михаэлем Шифманом. Чистит креветки. Думает, как бы ему обмануть большого дядю, выписавшего аванс с шестью нулями за воздух, который текстом становиться не собирается.
— Кать?
Она режет курицу тонкими пластинками, чтобы поджарить с морковью и потушить в сливках. Не оборачивается, только дергает плечом, мол, слушаю, чего тебе еще?
— Я сейчас спрошу, но ты должна ответить честно. Хорошо?
Еще одно движение плеча.
— Это важно. Слышишь? Я спрошу, а ты честно ответишь. И мы закроем тему.
Нож аккуратно ложится рядом с разделочной доской. Катина спина напрягается, я вижу ее искривленные очертания сквозь футболку.
— Ты успеешь закончить текст за два месяца?
Тишина. Кивок. Я медленно выдыхаю. Хорошо.
— У нас есть синопсис, который можно послать Зуеву?