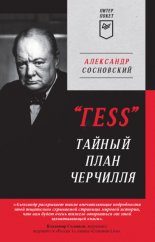Юность Панфилов Василий

– На-кось… – покопавшись, незапоминающийся тип вручил мальцу письмецо, присовокупив две копейки и недоеденный кусок пирога, – одна нога здеся, другая тама!
– Ага! – малец рванул было, но затормозился босыми пятками, проелозив по наблёванному, – А обратно што будет?
– Нет. Всё, беги!
– Ага! – денюжку за щёку, пока не отобрали, пирог за пазухи, и ну бечь!
Квартиросъёмщик, уже не спящий, одарил мальца копейкой и подзатыльником для порядку, и осчастливленный, тот умчался прочь, выгрызаясь на бегу в пирог, вкусно пахнущий прогорклым маслом и почти што не тухлым мясом.
– Чевой там? – полюбопытствовал один из жильцов, проснувшись не ко времени. На сонной ево морде, перекошенной опухшей от многолетнево пьянства, и без тово маленькие глазки казались крохотными, будто высверленными кривым буравчиком.
– Не твово ума дело, – привышно огрызнулся Палываныч, проходя в свой нумер, отделённый от прочих, жильцовских, занавесями из драного линялово ситцу. Промасленные донельзя, они отчаянно нуждались в стирке, но в дурной работе никто не видел смысла. В ночлежке-то!
Открыв письмецо, Палываныч подивился сперва витиеватому почерку и дорогой бумаге, а затем и оченно уж господским высокоучёным словесам, сквозь которые он не враз и продрался. Даже и пальцем водить пришлось, штоб не растерять!
– Обесчещенная сестрица, да? – сказал он одними губами, тарабаря пальцами по колену, обтянутому штанами из почти не дырявово плису, и ещё раз перечитал письмецо. Свернув его трубочкой, он задумался…
Казачий есаул и обесчещенная барышня из… он поднёс письмо к носу, принюхиваясь. Еле уловимый запах хорошего парфюма от бумаги вносил ещё одну нотку странности в это странноватое дело.
Снова развернув письмецо, он глазами пробежал условные пометки, свидетельствующие о надёжности отправителя. Очень… очень высокой надёжности! Но, гм… обесчещенная барышня? Это-то зачем?
Ну-ка… пробежав глазами по буковкам, Палываныч прикрыл на минутку глаза, и перед ево внутренним взором будто начали пролистываться странички. Вот!
– Егорка! – выдохнул он беззвучно, расплываясь в улыбке, – Ну точно – он!
Попадались ему в руки записки от хитровского поэта, и есть, есть общее! Почерк здесь куда как кудрявистей, да и писано пером, а никак не карандашом, но есть общие детали. Умеючи если, понять можно, а он умеет, и куда как хорошо! Полезное умение.
– Ага… казачки, так? – пальцами по колену, и сторонний наблюдатель, не лишённый слуха, мог бы узнать марш одного из егерских полков.
– Казаки, – повторил Палываныч беззвучно, каменея лицом. Иногородний с Дона, он нахлебался полной ложкой и наслушался всякого, порой вовсе уж за пределами понимания человека православного. Если уж ходили разговоры, штоб хоронить иногородних отдельно, то… весёлое было детство.
А потом была служба, война и возвращение домой…
… и снова – отношение как к человеку второго сорта. Даже от тех казаков, кто не воевал сам, даже у безусых ещё казачат к нему, кавалеру и ветерану. Не казак!
Попытка добиться справедливости, и…
«– Русь вонючая у нас править не будет![48]»
… насквозь простое и понятное дело казачьи судом решено было в казачью же пользу и закручено мало не до преступления против Государя. Суд, каторга, побег… и после некоторых мытарств на Хитровке появился Палываныч.
– Следы запутать на всяко-разный случай? – понюхал он ещё раз бумагу, – Дельно, дельно… только щенок ты ещё против меня, хотя и зубы отрастил.
Чирканув спичкой, он поджёг письмо и по давнему суеверию растёр в ладонях пепел.
Выскользнув из дома вдовушки через зады, есаул сбил ладонью фуражку на затылок и усмехнулся по-кошачьи блудливо. Потянувшись всем телом и чувствуя приятную истому, он широкими шагами заспешил с улочки, не реагируя на лай всполошившихся в ночи собак.
- – Ой при лужку, при лужке,
- При широком поле…
Голос его, поначалу совсем тихий, с каждым шагом становился всё громче, хотя и не переходя определённых границ. Несколько нетрезвый, приятно усталый и вкусно пахнущий молодой страстной женщиной, чувствовал он себя прекрасно, напевая красивым, хорошо поставленным голосом.
- – … При знакомом табуне
- Конь гулял на воле.
- Ты гуляй, гуляй мой конь
- Пока не поймаю,
- Как поймаю, зануздаю
- Шелковой уздо…
Взмах руки, и меткий бросок мешочка со свинцовой дробью прервал полунощную арию. Обмякнув, есаул начал оседать, но тут же был подхвачен крепкими руками.
– И зануздаю, – пропел тихохонько Палываныч, делая из казака шелковичный кокон и вставляя хитроумной конструкции кляп, говорящий о немалом опыте, – ишь, глазами заворочал, эк и крепкая у тебя башка! Турков, бывалоча, и проламывал этак, а ты крепок на голову, хе-хе! Ну ничево, ничево… недолго осталося.
Не обращая внимания на попытки мычанья, он ловко подхватил есаула и взвалил на плечо, потащив куда-то без малейшей отдышки. Несколько минут спустя он без лишних церемоний погрузил казака на телегу к золотарю, казалось бы, не обратившего никакого внимание на прибавление груза.
Донец замычал с новой силой, но раздирающий глотку кляп заглушал почти все звуки. А минутой позже, закурив трубочку-носогрейку, золотарь тронул поводьями лошадку, и цоканье копыт да мерный скрип колёс сделали мычанье казака и вовсе безнадёжным. Тому оставалось только вращать глазами, придумывать всевозможные планы, да молиться о спасении, с каждым поворотом колеса впадая во всё большее отчаяние.
Остановка… разговор двух мужчин, смешки… Сердце есаула заколотилось от нахлынувших надежд, и он замычал как можно сильней. Пусть… пусть кто угодно! Случайные прохожие, полиция… кто угодно! Лучше позор, лучше смех братов-казаков, решивших разыграть его…
– Ы-ыы! – затянул он на одной ноте, отчаянно забившись в путах, подобно пойманной рыбе. Колотясь всем телом о переполненную бочку и раскачивая телегу, он решительно не обращал внимание на выплёскивающуюся на него жижу.
– Ну всё, касатик, – склонилась к донцу бородатая рожа с отклеивающейся опереточной бородой, – приехали. Фу! Эк ты, брат говенным духом провонял! И не только духом, я гляжу, хе-хе-хе… А употел-то! Ну ничево, ничево…
– Ишь, в говнеце весь, – озадачился похититель, – ну кась… Вернувшись через пару минут, бородач, стукнув предварительно казака по почкам, ловко взвалил есаула на плечо, прикрытое куском мешковины.
Вися вниз головой и пытаясь придти в себя от острой боли, донец видел только сапоги, булыжчатую мостовую двора, да позже – услышал волнующихся в денниках лошадей. Минутой позже его сбросили с плеча, в навоз и солому, под копыта взбудораженного мерина.
– Ну вот и всё, – благодушно сказал похититель, утирая пот начисто отодранной бородой и почёсывая раскрасневшуюся от клея и жара решительно незнакомую физиономию.
– Конка, – словоохотливо поведал он казаку, – здеся тебя и найдут, так вот. Ка-за-чок! Жаль, што ты не из моих обидчиков, но и так-то славно вышло. Я ить из иногородних, уж нахлебалси-и…
– А тебя я хоть и от всей души, но не от себя. Помнишь демонстрацию? – похититель уставился ему в глаза.
Есаул отчаянно замычал и завращал глазами, выражая решительное несогласие. Ему казалось почему-то, что если он сможет донести этому вонючему мужику о присяге и служебном долге, то тот отпустит, поймёт… не может не понять! Видно же, что из солдат!
– Не помнишь даже, – понял его по-своему мужик, – ишь ты… Бабу тогда задавили, супружницу Гиляровского, из репортёров который. А? Вспомнил?! Ну вот тебе и привет от них…
Совершенно буднично похлопав себя по карманам, он достал свёрнутый фунтиком пакетик и горбушку, подманивая ей мерина. Фыркая недоверчиво и раздувая ноздри, тот осторожно потянулся к угощению, переступая через лежащего под ним человека, а тот
… взмахнул рукой, бросая ему в морду молотый табак вперемешку с перцем!
И заржал мерин, заплакал от боли и обиды, заскакал по деннику! Тяжёлые его копыта выбивали щепу из досок и вминали в каменный пол навоз да солому.
– Ыы-ы! – завыл есаул, стараясь отдвинуться, забиться в угол. А беснующийся конь, да подкованным копытом – на голень! В щепу! В труху! В кашу! На бедро…
… на живот… на голову…
Палываныч, наблюдающий за этим с болезным любопытством, начал было креститься…
… а потом просто харкнул, стараясь попасть в ещё живого человека, да и заспешил прочь.
– … на корню, – шептали ево губы, – как траву сорную… всех, всех…
Двадцать четвёртая глава
В дверь замолотили кулаком, и тотчас почти, ещё и сапожищами.
– Откройте, полиция!
– Уйдёт, вашбродь, ей-ей – уйдёт! Дайте ка…
Хрустнули доски, и выломанная дверь с силой стукнулась о стену. В квартиру ввалилась целая куча народу, впереди с дикими совершенно глазами полицейский унтер с огромным револьвером в лапищах. Замахнувшись, он с хеканьем попытался опустить мне на голову рукоять…
… и тут же скорчился от боли в подреберье и вывернутой руке.
– Что происходит, господа!? – А дабы вопрос звучал убедительней, дуло отнятого револьвера было упёрто в потный лоб не вовремя подскочившему участковому приставу.
– Из полиции господа, Егор Кузьмич, – откуда-то из-за спин полицейских раздался извинительный голос нашего дворника, – вы уж…
Он протолкался вперёд…
– … не серчайте, – добавил он, выпучивая глаза и начиная жевать ус.
– Допустим, – оттолкнув младшего унтер-офицера в сторонку, крутанул револьвер в руке и сунул его за отворот шинели пристава, – но это никак не объясняет погром!
– Сопротивление… – начал было наливаться дурной кровью полицейский офицер, но вопреки гневному виду, голос его сорвался на фальцет, – полиции при аресте!
– Вашество! – всплеснул руками прикормленный дворник, отчаянно пуча глаза и делая вид как можно более придурковатый, – Да если бы Егор Кузьмич сопротивляться вздумал, мы бы тута и все… тово.
Зло блеснув на дворника глазами, пристав катнул желваки, но смолчал.
– Начинайте обыск! – скомандовал он, раздуваясь жабой, и полицейские разом отмерли, затопотав сапогами по комнатам. Резко завоняло потом, махрой, перегаром и тем неистребимым портяношным духом, сопровождающим служивый люд в России.
– Могу я поинтересоваться причиной этого… – оглядываюсь на звук разбившейся посуды, – погрома?
– Где вы были на момент убийства есаула Лазарева?! – выпалил пристав[49], выпучив на меня карие глаза, обильно пронизанные кровяными прожилками.
– Чего-о?!
– Не валяйте Ваньку! Полиции всё известно!
Отмахиваюсь брезгливо от буквально выплюнутых слов и утираюсь воротом рубахи за неимением платка.
– Пристав! Не играйте в… кого вы там играете, а скажите русским языком, чего вам надобно! Русским! – перебиваю его на вдохе, – Не суконно-полицейским!
– Где вы были в момент убийства есаула Лазарева?!
– А эту сволочь убили? – приятно удивился я. Нет, в самом деле… двух дней не прошло, как письмецо написал, и на тебе!
Дико… да што за пучеглазик этот пристав! И так-то жаба-жабой, а когда глаза пучить начинает, и вовсе… Главное же, так это у нево интересно выходит, што меня опаска берёт, што он не просто пучится, а тово… тужится. Сейчас ка-ак… навалит в штаны! Невольно дыхание задержать хочется.
– Не трогать! – не дождавшись ответа, рявкаю на унтера, взявшегося за покрывало на кульмане. Замер… полотнище в кулаке, шея в плечи вжата, и только глазами – с меня на пристава. Понять не может, кто из нас тут страшней, значица.
– Та-ак… – пристав ажно подобрался, как лягух перед прыжком, – Макаркин, давай!
Покрывало, наспех накинутое на кульман от посторонних глаз, сползло на пол.
– Ага… – озадачился пристав, подавшись назад, – и што это?
– Это, пристав, вас не касается!
Кивок с ухмылочкой кому-то в дверях, и пристав, так до сих пор и не представившийся…
«– Упущение, – пропел Тот-кто-внутри, – и мы непременно используем его на суде!»
– … Так где вы были на момент убийства есаула Лазарева, Егор… Кузьмич, – выплюнул он.
– Для начала, господин неизвестный пристав… – смерил я его взглядом, – представьтесь!
– Грачёв Павел Игнатьевич, помощник участкового пристава! – козырнул, как от комара отмахнулся, – Честь имею!
– Н-да? – и от тона моего пристава ажно пятнами разукрасило, этакими белыми-белыми, да фоне багровой рожи, я даже и залюбовался получившимся колером.
– Как стоите перед старшим по званию?! – в струнку на миг вытянулся полицейский, и тут же ссутулился нарочито, и на подчинённых – зырк! Не видали ли ево оплошности? Отворачиваются, ажно до шейного хруста, и стал быть – не просто видели, но ещё и расскажут всем, кто только слушать захочет!
– Вы, – медленно начал он, – в глазах российской Фемиды являетесь несовершеннолетним, и не можете рассматриваться в качестве офицера.
– Аверьян Иванович! – машу рукой соседу, взятому полицейскими в понятые, но так до сих пор и не допущенному в квартиру, – Доброе утро!
– Доброе, Егор Кузьмич, – подобрав брюхо, он протиснулся наконец в дверь, глядя нехорошо на слишком ретивого служаку, ставшему в дверях скифской бабой, – а где Владимир Алексеевич, где все домашние?
– К Наде в больницу поехали, Аверьян Иванович. А у меня, изволите ли видеть… – обвожу рукой гостиную, – погром!
– Да уж… – яда в голосе соседа хоть отбавляй, иная кобра позавидует, – проводить обыск не дожидаясь понятых? Узнаю нашу доблестную полицию! Ну што вы там подбросили? Листовки? Динамит?
– Я вижу, вы хорошего мнения о полиции, – сухо отозвался пристав.
– Да уж много лучшего, чем вы того заслуживаете, господин полицейский офицер! – Аверьян Иванович не смущается. Он из тех воинственных либералов, которые в студенческие годы где-то там участвовали и состояли, да-с! Потом семья, быт… но под слоем душевного пепла тлеют жаркие угли, только сдуй!
С адской машинкой на генерал-губернатора он не пойдёт, но вот так вот, показать зарвавшемуся приставу его место, вполне способен. Гражданского мужества у соседа в достатке, даром што вид самый безобидный. Неудачно они понятого… понятых выбрали.
– Очаровательно, – морща породистый нос, вошёл в квартиру второй понятой, – Здравствуйте, Егор Кузьмич. Аверьян Иванович…
– Кирилл Владимирович…
– Слышал, слышал, не утруждайтесь, – он оглядел мельком полицейских и остановил взгляд на приставе, – Виден, так сказать, уровень… Вы уж определитесь, голубчик – если Егор Кузьмич несовершеннолетний в глаза российской Фемиды, то какое вы имеете право врываться в квартиру, где он проживает, в отсутствие законного опекуна? Да и насчёт «Не можете рассматриваться в качестве офицера» уточните – это мнение нашей Фемиды или ваше личное?
Пристав пошёл пятнами, не в силах ответить на заданный вопрос. Тут ведь как ни крути, а любой ответ – неверный! Скажет «Фемиды», и неприятности по служебной линии гарантированны, потому как будучи в столь ничтожном чине, да за всю Фемиду Российскую говорить… Это, знаете ли, даже и не моветон, а натурально – вылететь со службы можно.
Скажет, что это его, сугубо личное мнение, и неприятностей не оберёшься уже от возвращающихся в Россию африканцев. Хоть лично, хоть через прессу, а хоть и по дипломатической части: стоит только довести, что некий полицейский офицер не считает Панкратова офицером и не получил за то хотя бы выговор, консул ЮАС в Москве сможет довести своё «Фи» очень высоко.
– Продолжайте обыск, – дёрнул шеей, скомандовал он, а битый жизнью Аверьян Иванович затеял с полицейским длинный и нудный спор, объясняя всю незаконность обыска и ничтожность добытых таким образом улик. Тот вяло отбрёхивался, скорее даже довольный переменой слишком уж неудобной темы.
Квартира тем временем наполняется всё новым народом. Полицейские чины и малопонятные агенты в штатском таскаются по комнатам, входя и заходя. Подкованные сапоги полицейских оставляют в паркете выбоины, рвут ковёр в гостиной, небрежные действия их оставляют царапины на мебели, а чужие руки, качающиеся одежды и белья, хочется – тесаком, да с оттяжечкой!
А у меня в голове, помимо нарастающего озлобления, одна только мысль вертится, как заезженная пластинка…
… почему?! Откуда такая прыть? Неужели Палываныч попался и раскололся?!
– Господа! – пошёл я ва-банк, – Объясните мне наконец толком основание для обыска, тем более столь бесцеремонного, похожего больше на погром!
– Убийство есаула… – заученно начал полицейский.
– Господин помощник участкового пристава, – перебил я его, – не буду скрывать, что не огорчён ни капли смертью этого человека! Но я решительно не согласен с отведённой мне вашим ведомством ролью обвиняемого! С момента приезда в Россию я окружён столь плотным кольцом полицейских агентов, что не мог бы сделать ни шагу без вашего ведома!
– А действительно! – оживился Аверьян Иванович, – Я и сам, признаться, был несколько ошарашен такой полицейской активностью! Посты полиции, да и филеры… Да-с! Извольте объясниться, господин помощник участкового пристава!
Последовало долгое и нудное объяснение, с каким-то выкладками полицейских чинов, согласно которым я имел основания и возможности…
– … и более того, – вытирая обильно потеющее лицо уже несвежим носовым платком, – неубедительно вещал пристав, – смерть есаула от коня, равно как и…
Он сбился и начал отдувать губы, промокая лицо.
– Ну же, господин помощник участкового пристава… – облегчение у меня – волной! Не поймали Палываныча! Не… просто подозревают, и скорее даже – хотят подозревать. Не знаю, удержал ли лицо, ох не знаю!
– … равно как и убийство Гиляровской Марии Ивановны, совершённой есаулом Лазаревым… так?
– Не сравнивайте умышленное убийство и несчастный случай, в коем виноваты не казаки, а согласно данным следствия – студенты! – огрызнулся полицейский, обнажив в оскале неровные прокуренные зубы, – Ведётся следствие, и виновные понесут заслуженное наказание, назначенное судом!
– Даже так? – нехорошо удивился я, – А виновные, случаем, заранее не назначены?
Дёрнув щекой, тот ничего не ответил, и только как-то по крысьи оскалился. Он уже ненавидит меня, ненавидит страстно и искренне – как человека, ставшего неудобным не просто системе, но и ему лично.
Едко комментируя действия полицейских, понятые сопровождали их при обыске, а комнаты наши чем дальше, тем больше напоминали картину самого безобразного погрома в еврейском местечке.
– Ну право слово… – только и смог вымолвить белеющий от ярости Кирилл Владимирович, глядя на полицейских, вскрывающих паркет в месте, показавшимся им подозрительным.
– Шшшх! – вспорота аккуратно, по шовчику, обивка дивана, и вспучился конский волос.
– Вашбродь… кажись оно! – и голос ликующий.
– … это мы конфискуем! – помощник участкового пристава полон торжества и нескрываемого злорадства, упаковывая документы. А я только сейчас понимаю…
… им нужен был просто повод. Любой. Ворваться, провести обыск, конфисковать мои расчеты и чертежи, наброски и всё-всё-всё…
И если прежде я чуточку, где-то в самой глубине души чувствовал себя не вполне правым из-за смерти казака… Нет, не виноватым! Око за око! Если закон работает только в одну сторону, то этот закон – беззаконный! Но…
… и я немногим лучше.
А сейчас – война, самая настоящая война, и плевать, что она не объявлена. Плевать, что государство… или что вернее, Романовы, считающие себя олицетворением страны, считают себя вправе на любые действия, воспринимая защиту – бунтом. Это – война…
– Господа, – голос у меня каркающий, – вы похищаете чужую интеллектуальную собственность. Вы понимаете последствия этого поступка для вас лично, для ваших покровителей и страны?
Голову чуть набок, смотрю… бледнеет помощник участкового пристава. А потом как встряхнётся, как передёрнет плечами… и улыбка взбесившейся крысы в ответ! Наглая! За ним – Государство. И как же он счастлив от того, что может – больше других!
Закончив чтение конфискованных документов, Александр Михайлович обессиленной медузой расползся по креслу, прикрыв ненадолго глаза. Грубо, топорно… но ведь вышло же!
Чертежи, рисунки, эскизы и записи были обрывочны, но всё же, всё же…
– Воздушному флоту – быть!
Двадцать пятая глава
Поморщившись от сильнейшей головной боли, Сергей Александрович прикрыл ненадолго глаза и начал массировать виски кончиками пальцев. Немного отпустило, и генерал-губернатор, вздохнув еле заметно, снова принялся за работу, просматривая бумаги и делая пометки.
Великий Князь старался не давать поблажек ни подчинённым, ни тем паче себе, но сказывалось воспитание при Дворе, и форма для него стала важнее содержания. Вот и сейчас, несмотря на небывалую для Москвы летнюю жару, он сидел, затянутый туго в мундир, позволив себе только расстегнуть пуговицу ворота.
Понимая таким образом свой долг, и стараясь быть эталоном чиновника и дворянина, Сергей Александрович никогда не жаловался, а частые свои мигрени и дурноту от жары лечил героином от «Bayer».
Не в силах более терпеть всё более усиливающуюся головную боль, Сергей Александрович подрагивающими руками налил лекарства в серебряную ложечку и проглотил. Ожидая, пока его отпустит, Великий Князь подошёл к окну и ещё шире распахнул, но лицо его обдало жаром раскалённой улицы. Настроение разом испортилось, но лекарство наконец-то начало действовать, и выдохнув беззвучно, он снова сел за стол.
Оживлённая, а порой и ожесточённая борьба с Найдёновым[50], активно противодействующего указу о запрете слива отработанных фабричных вод, ведется с переменным успехом. Кооперация дельцов, не желающих вкладываться в очистные сооружения, оказалась изрядно зубастой даже для генерал-губернатора. Но в голову Великому Князю пришла небезынтересная идея, способная при грамотном юридическом оформлении изрядно усложнить дела Найдёнова и Ко, и он набросал на полях краткие тезисы для канцелярии.
Негромкий стук прервал его размышления, и тотчас почти в кабинете возник адъютант, всем своим видом балансируя на грани меж деловитой почтительностью и едва заметной фамильярностью фаворита.
– Ваше Императорское Высочество, – чуть поклонился он, – в приёмной ожидает Зубатов Сергей Васильевич, начальник Московского охранного отделения[51], вы назначали на это время.
Кивок…
– Проходите, Сергей Васильевич, – негромко указал адъютант Зубатову, – Его Императорское Высочество ожидает вас.
– Есть ещё люди в России, – задумчиво констатировал Сергей Александрович после ухода Зубатова, пока адъютант массировал ему голову, – очень дельный человек. Идея спорная и на первый взгляд даже несколько сумасшедшая. Легальные рабочие организации… ближе к затылку… но если разбираться вдумчиво, то ведь правильные вещи говорит! Нужно различать, и главное – отделять рабочее движение от революционного! Вбить меж ними клин!
Пальцы адъютанта заскользили чуть медленней, и Великий Князь, хорошо зная своего любимца, пояснил:
– Рабочее движение в его чистом, дистиллированном виде, ведёт борьбу за копейку, за свои экономические нужды. Революционное внушает рабочим, что решения своих экономических проблем они могут добиться только путём социальной революции.
– Зубатов… теперь виски… Зубатов предлагает возглавить рабочее движение, сделав его легальным, и разумеется, полностью подконтрольным. Некоторые меры по улучшению быта рабочих, предлагаемые им, вполне осуществимы в самые короткие сроки. Не ослабляя нажима на сторонников революции социальной, мы дадим добро сторонникам эволюции экономической.
– Золотой мост[52]? – не прекращая массировать, спросил адъютант.
– Именно, – Сергей Александрович приоткрыл на миг глаза, встретившись взглядами с адъютантом, – есть категория людей, которые не видят себя без борьбы, и если они не могут заниматься таковой в рамках служебных обязанностей, то начинают искать возможности на стороне. Этакие справедливцы от интеллигенции. Показывая им принципиальную, и самую жёсткую позицию властей в части незыблемости устоев, мы одновременно показываем возможность борьбы за права экономические, поддерживаемые нами.
– Изящно, – оценил молодой офицер и замер ненадолго, – А если применить этот метод и по отношению к студенчеству?
– Следует обдумать, – согласился Великий Князь, приходя в самое благоприятное расположение духа.
– А в моей стране всё есть, – донеслось с улицы, и на Сергея Александровича навалился сильнейший приступ мигрени, – есть в ней нефть и лес[53] в ней есть. Уголь есть, и никель есть, меди в ней не перечесть! Есть в ней золото, алмазы, изумруды и топазы! Как же так, в стране всё есть, а народу нехер есть! Как же так, всё есть в стране, а народ живёт в говне! Ла-ла-ла-ла-ла, ла, ла!
Подскочив торопливо к окну, адъютант погрозил кулаком одному из полицейских, дежурящих у резиденции генерал-губернатора, и тот засвистел, затопал сапожищами в сторону легконого нарушителя спокойствия. Взявшись было закрыть окно, он покосился на Великого Князя, но тот раздражённо махнул рукой:
– Оставь! На Тверской уже… ну, Сандро, удружил! Мы с… пакт о ненападении фактически заключили, и такая…
Скривившись как от зубной боли, он махнул рукой, и офицер поспешно выскочил из кабинета. А в голове Великого Князя вертелись незамысловатые, но крайне назойливые строки, получившие необычайную популярность в народе, и от того слышанные едва ли не десятки раз.
«– А в моей стране всё есть, есть зерно и мясо есть, есть лосось и осетры, в них полным-полно икры. Есть и овощи и фрукты и молочные продукты. Как же так, продукты есть, а народу нехер есть? Как же так, всё есть в стране, а народ живёт в говне?»
– … весь народ живёт в говне, – прошептали его белеющие от ярости губы, – а говно живёт вполне[54]!
– Сандро… – Сергей Александрович плотно сжал губы и резко встал, отбросив кресло. Сделав несколько шагов по комнате, он взял пузырёк с героином, и зубами выдернув пробку, сделал глоток прямо из горлышка.
Успокоившись немного, Великий Князь уселся в кресло и погрузился в мрачные размышления. Сандро и прежде позволял себе самые нелицеприятные высказывания, называя его совершенно невежественным управленцем и человеком, в характере которого решительно невозможно найти хоть одну положительную черту[55]. Но это… это решительно переходит всякие границы!
Какого чорта Сандро закручивает интригу в Москве… в его Москве, да ещё и вербуя полицейских!? Грубо, грязно!
Московскую, именно Московскую… Его полицию склоняют ныне на все лады на страницах либеральной прессы! Ненадлежащие действия, грубейшие правонарушения, беззаконие… и прочие неласковые эпитеты от прессы. Заслуженные!
А главное, зачем?! Можно было деликатно… изъять. Хоть документы, а хоть и… но разумеется, за пределами России! Договориться, в конце-то концов! Не с ним, так подойти через близких, завербовать одного из окружения. Чуть дольше, зато и стократ надёжней. Вот только и лавры в таком случае…
– Шефом авиации захотел стать? Родоначальником? – сощурился Сергей Александрович, несколько раскрепощённый после лекарства, – Ну это мы ещё посмотрим!
Ники, недовольный позицией Московского генерал-губернатора в этом вопросе, отстранился от их конфликта и дал некоторым образом карт-бланш Сандро. Этого… мальчишку, он самым решительным образом отказывается видеть субъектом права, видя лишь объектом.
– Не забыл и не простил… – вспомнил Сергей Александрович давний эпизод, и настроение его сползло на самое дно. Он тоже… не забыл и не простил. Но эта злопамятность Ники бывает иногда так не к месту!
– Сэмен, нам таки надо поговорить, – решительно заявила Песса Израилевна, комкая в руках фартук, – и прямо сейчас, пока детей нет дома.
– Это то, о чём я думаю? – заулыбался Сэмен Васильевич, подшагнув и положив ладонь на живот женщины.
– Нет, но мине нравится ход твоих мыслей! Сэмен… не сейчас! – она мягко, но решительно отпихнула мужчину, раскрасневшись и часто дыша, – Ф-фу… Я таки волнуюсь за тибе, потому што мине кажется, шо ты слишком много увлёкся политикой, и так сильно, шо ещё немножечко, и она увлечётся тобой!
– Сёма! – уперев руки в бока, она перешла в нерешительное наступление, – Ты уже один раз бывал там как уголовный, и тибе сильно не понравилось! Или ты думаешь, шо у политических на каторге больше развлечений? Если да, то скажи мине, Сэмен, я пойму!
– Песя, золотце… – мужчина внимательно поглядел на неё, – скажи мине за пожалуйста, откуда у тибе такие необычные мысли?
– Ты сильно удивишься за то, шо у мине есть голова не только для есть? – подняла женщина брови, – Сэмен! Ты начал слишком много говорить о «Русском Собрании»! Я таки понимаю за твой интерес, но когда его начинает понимать половина Молдаванки, это уже немножечко чересчур!
– Помнишь, мы с тобой говорили за Африку? – вопросом на вопрос ответил мужчина, – Ты тогда громко и много сказала своё да в её сторону. Так вот… да, Песя, да! Я таки решил с тобой, Фирой и мальчиками туда, но если у мине и нас есть деньги, то вот с капиталом политическим немножечко хужей.
– А оно тибе зачем? – не поняла та.
– Песя! – он сделал большие глаза, – Я тибе не узнаю! Мы едем туда, где много людей, привыкших смотреть на других с помощью винтовки, ты это понимаешь? А я таки тоже да, но не там, а в совсем других местах. Жить просто так я не умею, и быстро найду сибе интересное занятие. А зная сибе и не зная Африку, это занятие может закончиться слишком быстро!
– За тибе многие знают, – нерешительно сказала Песса Израилевна, теребя фартук.
– Да, – согласился мужчина, – Но! Как кого? Умением стрелять и решительностью там никого не удивить! А вот если и когда я приеду с немножечко славой за политику в нужной части, то все скажут – Сэмен Васильевич, это голова!
– И, золотце… – он шагнул к ней, – ты таки не думай за меня слишком опасно. Мы занимаемся не террором и большой громкой политикой, а маленькими, но изящными операциями по дискредитации тех, кого надо. Ты мине понимаешь?
– Ну и самую множечко… – разговор прервал поцелуй, – наводкой на тех, ково надо. Такая маленькая большая помощь для людей, которые хотят сделать ноги имуществу одного из активных против нас. Где, што, привычки… нам несложно, а людям немножечко полезно и множечко приятно с мерси до нас.
– А потом приеду… – разговор прервался, и сильные руки зашарили по телу, – в Африку… Фима говорил таки, шо ему так сильно не хватает начальника полиции, шо он прямо спать не может! Все есть, а мине пока нет! Вот мы и подумали, а потом я решил…
Сэмен Васильевич подхватил на руки Пессу Израилевну, глянув мимоходом на ходики…
… у них всево-то сорок минут до прихода Фиры, какие тут разговоры!
Двадцать шестая глава
– Сон… – выдохнула Эсфирь облегчённо и одновременно разочарованно, вспоминая все-все детали… и чем дальше, тем больше пламенея щеками, а затем и всем лицом. Егорка… как же она соскучилась!
Перевернувшись на скрипнувшей кровати, девочка обхватила подушку, прижавшись к ней лицом. Потеревшись щекой, она смущенно прикусила губу и пискнула приглушённо в подушку, переполненная чувствами. Там, во сне, Егор… поцеловал её! В губы!
Она плотно зажмурилась и слегка вытянула губы, пытаясь заново пережить тот волнительный момент…
– Фир, доча… – заглянула в комнату мать, – да ты вся горишь!
– Жарко, мама! – отбивалась та смущённо, пока Песса Израилевна с озабоченным видом касалась лба дочери сухими губами, – Да нормально, нормально!
Соскочив с кровати и обившись от материнской заботы, Фира умылась и начала расчёсывать густые смоляные кудри, разглядывая себя в купленное у старьёвщика облупившееся зеркало, висящее над рукомойником в кухне. Придирчивый взгляд её находил всё новые и новые подтверждения собственного несовершенства. Крохотный прыщик сбоку носа, заветрившийся уголок губ, чуть оплывшие с утра веки.
– Как же, – прошептала Фира, и глаза её набухли слезами, – поцелует он такую… уродину! Ма-ам! Я сильно страшная?!
– Доча! – Песса Израилевна, возящаяся у плиты, даже выронила ложку, – Откуда такие странные мысли?! Што случилось?!
– Ма-ам! – из глаза девочки закапали первые слёзы, и красивые губы искривились в преддверии плача, – Скажи мине правду, не надо врать только потому, шо я твоя дочь! Все матери так говорят, но мине скажи такую правду, какой бы горькой она не была! Я приму это как лекарство, и пусть мине будет больно и плохо, но лучше горькая правда, чем сладкая ложь!
– Фира… – всплеснув руками и проводив потерянным взглядом выплеснувшуюся в дальний угол крышку от кастрюли, заплясавшую с дребезжанием на полу, – ну шо ты такое… Фира!
– Пойдём! – схватив её за руку, она подвела дочку к зеркалу, и обхватив сзади под затылок, приблизила голову почти вплотную к стеклу, – Смотри внимательно! Шо ты видишь?!
– Уро-одину, – начала подвывать та, но тяжёлая затрещина прервала начинающуюся истерику.
– Доча, имей совесть! У тибе есть такая красота, какой нет ни у ково на Молдаванке!
– Все матери так говорят! – притопнула маленькая босая ножка.
– Доча… не нервируй мине! Если я сказала да как мать, то ты таки можешь мине не верить, но если об том же говорит Двойра, которую мы турнули за приставания к Мише, то шо это значит?
– Прямо-таки и говорит? – засомневалась девочка, шмыгая покрасневшим носиком и отходя от почти случившейся истерики.
– Доча! – мать прижала её к объёмной груди и тут же оторвала от сибе, заглядывая в глаза, – Я тибе уверяю! Понятно, шо она говорит это другими словами, промеж которых много нехороших и гадких за твою и нашу мораль с гоями, но таки да! Я таки плюнула в сторону её рожи и сказала о ней то немногое, шо думаю об этой почти состоявшейся проститутки! Кто бы, но не она!
– Ну, если даже Двойра… – неуверенно протянула Эсфирь и тут же засомневалась, – а прыщи?
Песса Израилевна только закатила глаза так выразительно, что какая-нибудь начинающая провинциальная актриса изошла бы желчью от зависти, но ж Молдаванка! Играть лицом и разговаривать руками здесь могёт каждый, и некоторые даже – талантливо! Играют, правда, в основном не на театре, а в разных панамах, но таланта там нужно ничуть не меньше, потому как публика очень уж требовательная.
– Фира! Доча! Ты сибе помнишь, какой тибе Егор встретил? Одни глаза и волосы, да сплошные ободранности по всей моей маленькой девочки, от коленок и до лица! И шо ты думаешь? Егор заметил таки не ободранности, а именно тибе за всеми ими! Как в столб с разбегу! Ну! Лицо как после бамца!
Девочка хихикнула, заново вспоминая момент знакомства, зарумяниваясь от приятных воспоминаний.
– А я и правда была такая… ну, ободранная?
– И снова тибе шалом и здрасте, – всплеснула руками мать, – а я тибе об чём?! Ты за свой тогда возраст вспомни! Если бы ты в десять лет думала об прыщиках и ободранностях коленок, я бы первая заволновалась об твоём душевном здоровье!
– Мущщины, – продолжила она наставительно, – видят нас не по кусочкам, как курочку на тарелке, а целиком! И если ты им по сердцу, то целиком и вся, а не только безпрыщовыми местами! Когда он начинает морщить нос при виде какой-то твоей отдельной части, то тут два варианта – или эта часть стала больше тибе всей, или мущщина ищет повод! Для уйти или вообще.
– Я тибе даже так скажу, – она чуть понизила голос, – шо даже прынцессы какают, ты мине поняла?