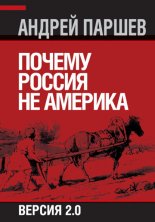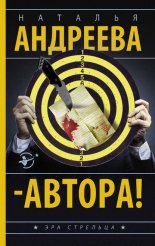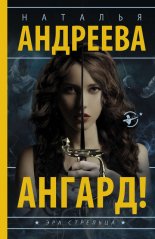Дань псам. Том 2 Эриксон Стивен

— И ты вообразил, что они могут преуспеть?
— Есть такая возможность, Шептун.
Дух помолчал, затем сказал: — Твой совет?
— Я приставлю к башне одного из своих наблюдателей. Он возвестит тревогу, если на тебя предпримут покушение.
— Предлагаешь вмешаться ради моей защиты, Верховный Алхимик?
— Да.
— Принимаю с условием, что это не будет считаться долгом.
— Разумеется.
— Тебе хотелось бы, чтобы я остался… нейтральным. Понимаю. Лучше так, чем видеть меня врагом.
— Когда-то ты был весьма могучим колдуном…
— Чепуха. Я был посредственностью. Был фатально неосторожен. И все же никому не захочется видеть меня на побегушках у злейшего врага. Посылай стража, согласен — только назови его имя, чтобы я мог позвать на помощь.
— Чилбес.
— Ох, — сказал Шептун. — Этот…
Возвращаясь в имение, Барук вспоминал последнюю встречу с Ворканой — несколькими ночами после ее воскрешения. Она вошла в комнату с привычной кошачьей грацией. Она успела исцелить полученные годы назад раны, нашла новую одежду, чистую, свободного покроя (что казалось не соответствующим ее профессии).
Он, стоявший у камина, небрежно поклонился, чтобы скрыть трепет. — Воркана.
— Извиняться не буду, — сказала она.
— Я и не прошу.
— У нас проблема, Барук, — продолжила она, проходя в комнату и наливая вина. — Это не вопрос предотвращения, ведь мы не сможем остановить грядущее. Вопрос в том, какую позицию мы займем.
— То есть обеспечим ли себе выживание.
Она слабо улыбнулась. — Не в выживании вопрос. В нас, троих последних из Кабала, будет нужда. Как было раньше, так будет и теперь. Я говорю скорее о степени комфорта.
В глазах Барука сверкнул гнев: — Комфорт? Какой в нем прок, если мы потеряем свободу?
Колдунья фыркнула: — Свобода — любимое требование лентяев. Давай же признаем, Барук: мы — лентяи. Но сейчас нам грозит конец лености. Какая трагедия! — Взор ее стал тверже. — Я намерена сохранить привилегированный статус…
— В качестве Хозяйки Гильдии Ассасинов? Воркана, в этой гильдии не будет потребности. Ее вообще не будет…
— Забудь о Гильдии. Она мне не интересна. Она была лишь функцией бюрократической машины города, и дни ее сочтены.
— Поэтому ты отослала дочь?
В глазах Ворканы мелькнуло искреннее раздражение. Она отвернулась. — Мои причины — вовсе не твоя забота, Верховный Алхимик. — Тон стал угрожающим: — Не лезь не в свое дело, старик.
— Тогда какую же роль, — удивился Барук, — ты отводишь себе в новом Даруджистане?
— Тихую.
«Да, тихую как гадюка в траве». — До тех пор, пока не представится возможность.
Она выпила вино и поставила бокал. — Мы поняли друг друга.
— Да, — отвечал он, — полагаю, поняли.
— Сообщи Дерудан.
— Сообщу.
И она ушла.
Воспоминание родило во рту Барука кислый привкус. Знает ли она о ИНЫХ столкновениях сил, что случатся в городе? Да и важны ли они ей? Что же, не она одна хитрит. Та ночь убийств заставила его понять одну вещь: Воркана каким-то образом догадалась, что именно грядет. Уже тогда она начала готовиться к… сохранению уровня комфорта. Отослала дочь, дистанцировалась от Гильдии. «И подарила остальным членам Кабала то, что считает милостью. Если бы ей удалось завершить задуманное, сейчас она была бы единственной оставшейся в живых.
Подумай хорошенько, Барук, в свете ее признаний. Она хотела занять подходящее положение.
Попытается ли снова?»
Он понял, что начинает верить в это.
Наступил миг зеркал, и следует понять это сейчас. Полированных, но сохранивших слабую неровность, отчего изображение идет рябью, увиденное кажется и знакомым, и слегка измененным. Глаза встречаются, узнавание высвобождает поток тихого ужаса. То, на что глядите, не смеется над вами, не поддается понимающему подмигиванию. Оно берет вас за похолодевшую, пересохшую ладонь и ведет по холодной глине, по дну души.
Люди будут скорбеть. По живым, по мертвым. По потере невинности и сдаче невинности, ведь это совершенно разные вещи. Мы будем скорбеть по выбору, который сделали или не сделали, по ошибкам сердца, что не исправить, по омертвевшим нервным окончаниям шрамов давних и еще не полученных.
Седовласый человек идет по району Имений. Более подробного описания не требуется. Кровь на руках стала воспоминанием, но от некоторых воспоминаний трудно отмыться. По природе он склонен к наблюдению. Наблюдает мир, мельтешение лиц, бурное море эмоций. Он бросатель сетей, он удильщик. Он говорит ритмами поэзии, напевами мелодий. Он понимает, что некоторых ран лучше не касаться, но есть и другие, согреваемые лаской рук. Иными словами, он понимает необходимость трагической ноты. Души, знает он, по временам не сопротивляются сказаниям, черпающим силу их потока крови.
Разбереди же старые раны. Они напомнят людям, что есть причины горевать. Напомнят, что есть причины жить.
Миг зеркал, мир масок. Они всегда готовы рассказать сказку. Снова и снова, друзья мои.
Вот, возьмите мою руку.
Он идет к имению. Полдень миновал, закат подкрадывается в поднятой днем пыли. В любой день есть мгновение, когда мир просто протекает мимо, оставив за собой марево зноя, еще не потревоженное наступлением ночи. Тисте Эдур поклоняются этому мигу. Тисте Анди замирают, недвижно ожидая темноты. Тисте Лиосан склонили головы и отвернулись, оплакивая уход солнца. В домах людей разжигают очаги. Люди идут по домам, ища убежища и воображая грядущую ночь.
Глазам наблюдателя все может показаться невещественным, готовым рассыпаться. Неопределенность становится законом, поднявшимся превыше всех прочих. Для барда это время — минорная нота, пассаж хрупкости, интерлюдия задумчивости. Печаль плывет в воздухе и мысли полнятся финалами.
Подошедший воротам имения быстро и безмолвно препровождается в главный дом, идет по коридору в огражденный высокими стенами сад, где ночь стекает по стенам и бутоны открываются, испивая надвигающийся сумрак. Маскированный телохранитель оставляет его. На миг оказавшись в саду один, бард стоит недвижимо. Воздух прян и сладок, пространство заполнено журчанием водяных струй.
Он вспоминает, как пел здесь тихие песни, не сопровождая их музыкой. Песни, собранные из сотни культур, из дюжины миров. Его голос сплетал воедино фрагменты наступающей Тени, соединял день уходящий и ночь, спешащую ему на смену.
В музыке и поэзии сокрыты тайны. Эти тайны мало кто знает — а понимающих еще меньше. Их сила чаще всего проникает в слушателя незаметно, она подобна памяти о принесенном ветерком аромате духов, она слабее шепотка, но может преобразить одаренного, даруя природный экстаз, уничтожая трудности, делая все великое доступным, находящимся на расстоянии протянутой руки.
Опытный бард, мудрый бард знает, что в некоторые мгновения дня и ночи путь в душу слушателя становится гладким, широким — что череда громадных врат распахивается от касания перышка. Эта тайна — самая драгоценная изо всех. Сумрак, полночь, странные периоды внезапной потери сна, известные как «бдения» — да, неслышно крадущаяся ночь владеет сердцем.
Услышав шаги за спиной, он поворачивается.
Она стоит, длинные черные волосы блестят, лицо не тронуто солнцем и ветром, глаза в совершенстве отражают фиолетовые оттенки увивших стены цветов. Он может увидеть сквозь складки белого льна очертания ее тела, округлости, изгибы и выпуклости эстетического идеала — формы и линии, бормочущие на своем тайном языке, пробуждающие желания в душе мужчины.
Каждое чувство, знает он, есть тропа к сердцу.
Леди Зависть смотрит на него, и он рад этому, и он в свою очередь любуется ею.
Они могли бы поговорить о сегуле — мертвых в амфорах и живых, охраняющих поместье. Могли бы погадать о том, что так быстро надвигается. Он мог бы говорить о своем гневе, о холодном и гибельном железе, столь холодном, что обжигает при касании — и она увидела бы истину слов в глазах его. Она могла бы расхаживать взад и вперед по скромному саду, проводя кончиками пальцев по трепетным лепесткам, и рассказывать о желаниях, сдерживаемых так долго, что она почти не чувствует мириад корешков и усиков, которые пустили они в тело и душу; а он бы, возможно, предостерег ее от опасностей, несомых желаниями, о риске неудачи, который следует видеть и честно принимать. А она могла бы вздохнуть и кивнуть, зная, что его устами говорит мудрость.
Дразнящий флирт, вызывающая зевоту одержимость собой — все то, чем забавлялась она в общении со смертными этого мира — не последовали за Леди Завистью в здешний сад. Они не годились для поджидавшего ее мужчины. Рыбак Кел Тат не был юным (иногда она гадала, смертен ли он, хотя ни разу не сподобилась искать истину), не был и богоподобно красивым. Его дары — если бы она потрудилась перечислить их — включали голос, гениальный талант игры на лире и дюжине иных загадочных инструментов и ум, прячущийся за глазами, но видящий всё и понимающий в увиденном слишком многое, все смыслы тайные и должные остаться тайными — да, ум за глазами и эти нехитрые намеки, которыми он пытается приоткрыть бездны ума, его способы наблюдения, его потрясающие способности к сочувствию, кои лишь отъявленные дураки назовут слабостью.
Нет, этого мужчину она не станет дразнить — да и не сможет, честно говоря.
Они могли бы обсудить многое. Вместо этого они стояли, встретившись взорами, и сумерки смыкались вокруг, неся ароматы и тайны.
Взбаламутить бездну и бросить наземь множество пораженных богов! Пусть небеса прорежет трещина от дня до ночи, пусть они разверзнутся, обнажая плоть пространства и кровь времени — глядите, как оно рвется, глядите, как истекает блестящими алыми каплями умирающих звезд! Пусть кипит море, а земля плавится и вздымает столбы пара!
Леди Зависть нашла любовника.
Поэзия и желание, отблески одного и того же и ох, как эта тайна заставляет негодяев и безмозглых олухов завывать в ночи.
Нашла любовника.
Любовника.
— Мне снилось, что я беременна.
Торвальд замер у двери, но сумел отозваться почти мгновенно: — О, это же здорово!
Тизерра метнула подозрительный взгляд над столиком, уставленным новейшими образцами глиняной посуды. — Неужели?
— Абсолютно, милая. Ты смогла пережить все ужасы беременности, не делая их реальными. Воображаю, как облегченно вздохнула ты, просыпаясь и понимая, что это лишь сон.
— Ну, стоит вообразить твои сны, любимый.
Он вошел в дом и плюхнулся в кресло, вытянул ноги. — Что-то странное происходит.
— Всего лишь временное умопомешательство, — сказала она. — Не беспокойся, Тор.
— Я имел в виду имение. — Он потер лоб. — Кастелян проводит все время, смешивая настои от болезней, которыми никто не болеет. Да если бы и болели, то от его настоев сразу померли бы. Охрана двора только и делает, что бросает кости. Разве этого можно было ожидать от сегуле — ренегатов? А самое невероятное — Скорч и Лефф восприняли свои обязанности с полной серьезностью.
Тут она фыркнула.
— Нет, реально, — настаивал Торвальд. — Похоже, я знаю отчего. Они могут ее чуять, Тиза. Странность. Хозяйка вошла в Совет и потребовала себе место, причем никто даже не пискнул — или так я слышал от Коля. Думаешь, тут же в особняк пошли визитеры от разных блоков в Совете, старающихся заполучить ее голос? Как бы не так. Никого. Разве это имеет смысл?
Тизерра внимательно смотрела на мужа. — Не обращай внимания, Тор. На всё это. Твоя задача проста — держаться подальше.
Он метнул на нее взгляд: — Хотелось бы, поверь. Вот только все инстинкты полыхают — словно к спине приближается треклятый раскаленный добела кинжал. И не только у меня так. У Леффа со Скорчем тоже. — Он встал и начал ходить по комнате.
— Я еще не ставила ужин, — сказала Тизерра. — Потребуется время. Почему бы тебе не пойти в «Феникс», не пропустить кружку — другую? Передай привет Крюппу, если встретишь.
— Что? А. Хорошая идея.
Она смотрела, как муж выходит; выждала несколько десятков сердцебиений, чтобы убедиться — он не переменил намерений и не вернется. Потом подошла к одному из тайничков в полу, потянула за крючок и вынула свою Колоду Драконов. Села за стол, осторожно сняла обертку из оленьей кожи.
Она делала это редко. Тизерра была достаточно чувствительна и сама ощутила, какие могущественные силы собираются в Даруджистане. Их присутствие делает попытку гадать опасным делом, но она хорошо понимала: инстинкты мужа слишком остры, чтобы пренебречь ими.
— Ренегаты — сегуле, — прошептала она, покачала головой и взялась за Карты. Она использовала Барукову версию с немногими собственными добавлениями — картой Города — в данном случае, Даруджистана — и еще одной… но нет, о ней она даже вспоминать не будет. Без крайней нужды.
По жилам пронесся трепет страха. Карты похолодели в руках. Она решила выложить карты по спирали и не была удивлена, опустив центральную и увидев, что это Город — силуэты знакомых зданий на закате, сияние голубых огней внизу, и каждый подобен закопанной звезде. Она долго смотрела на нее, пока огни не начали плясать в глазах, пока сумрак не пополз с карты в окружающий ее мир, пока внешнее и внутреннее не слились, пульсируя, не застыли на один миг, словно ножом приколоченные к столу. Она не искала будущего — пророчества слишком опасны при схождении сил. Она изучала настоящее. Вот этот самый миг, все точки крепления обширной сети, что накрыла Даруджистан.
Затем она опустила следующую карту. Высокий Дом Теней, Веревка, Покровитель Ассасинов. Ну, это тоже не очень удивительно, если учесть недавние слухи. И все же она ощутила, что дело гораздо сложнее, чем может показаться. Да, Гильдия ввязалась в дело более кровавое, чем ожидала. Тем хуже для нее. Но Веревка никогда не ведет одну игру. Под поверхностью ведутся и другие. Видимость — всего лишь завеса.
Третья карта шлепнулась на стол; она поняла, что рука не может остановиться, вытаскивая еще карту, и еще. Три тесно связанных. Три карты, формирующие узел сети. Обелиск, Солдат Смерти и Венец. Им нужна рама. Она положила шестую карту и что-то проворчала. Рыцарь Тьмы — слабый рокот деревянных колес, хор стонов, подобно дыму исходящий из меча в руках Рыцаря.
Итак, Веревка на одной стороне, Рыцарь на другой. Она видела, как задрожали руки. Быстро выбросила еще три карты — второй узел. Король Высокого Дома Смерти, Король-в-Цепях и Дессембре, Повелитель Трагедии. Рыцарь Тьмы как внутренняя рама. Она положила внешнюю и сипло вздохнула. Эту карту даже рисовать было нельзя! Тиран.
Замыкает поле. Спираль выложена. Город и Тиран в начале и в конце.
Тизерра не ожидала ничего подобного. Она не искала пророчества — она всего лишь гадала о муже и той сети, в которую он угодил — нет, не пророчества, особенно такого широкого…
«Я вижу конец Даруджистана. Спасите духи, я вижу конец родного города. Вот, Торвальд, твоя сеть».
— Ох, муженек, — прошептала она, — ты в настоящей беде…
Глаза вновь остановились на Веревке. «Ты, Котиллион? Или вернувшаяся Воркана? Это не просто Гильдия — Гильдия здесь не имеет значения. Нет, за завесой иные силы. Грядут ужасные смерти. Ужасные».
Она резко смешала карты, как будто этот жест способен отменить то, что неизбежно, порвать веревочки и освободить мир, чтобы он нашел себе новое будущее. Как будто это можно сделать так легко. Как будто мы действительно наделены правом выбора.
Снаружи прогремела телега, скрипя кривыми колесами по истертой мостовой. Копыта вола выбивали медленный, похоронный ритм, и его сопровождали лязг тяжелой цепи, скрип кожи и дерева. Тизерра завернула Колоду и спрятала в тайник. Затем подошла к другому, сделанному мужем (он, наверное, пытался сохранить его в секрете от жены, но ведь такое невозможно). Она знала, как скрипит любая доска пола, и поэтому нашла тайник несколькими днями позже его закладки.
Внутри предметы, завернутые в синий шелк — шелк Синих Морантов. Добыча Тора. Она давно гадала, где он ее взял. Даже сейчас, склоняясь над тайником, он могла почуять магию — густую, как смрад гнилой воды. Садок Рюз, не больше не меньше. А может, и нет. «Думаю, это Старшее. Магия от Маэла.
Но как связаны Синие Моранты и Старший Бог?»
Она протянула руку, сняла шелк. Пара перчаток из кожи тюленя, блестят так, словно только что вынырнули из ледяного моря. Под ним источенный водой метательный топор стиля, никогда ею не виданного — уж точно не морантский. Оружие морских налетчиков, голубое железо украшено узорами — водоворотами. Рукоять из какого-то вида поделочной кости — зверь, давший ее, должен быть ужасающе огромным. Рядом с топором заботливо уложены завернутые в тряпицы гренады, тринадцать штук — одна, как заметила она, свободна от загадочного зажигательного заряда. Странный обычай Морантов, который, однако, дал ей возможность внимательно изучить сделанные с необыкновенным мастерством идеально круглые фарфоровые сосуды, не рискуя разорвать на кусочки себя и весь дом. Да, она слышала, что морантские припасы делаются из глины — но эти, по какой-то причине, сделаны иначе. Покрытые толстым слоем лака, прозрачного, но тем не менее лазурно-голубого, гренады казались ее взору произведениями искусства, отчего их предназначение — нести гибель — казалось почти преступным.
«Ну, дорогой муженек, откуда они у тебя? Кто тебе их дал, или — что вероятнее — у кого ты их украл?»
Она знала, что если на него надавить, Тор выдаст истину. Но ей не хотелось так поступать. Успешный брак предполагает святость личных секретов. Когда столь многое разделено, следует сохранить при себе хоть что-то. Крошечные тайны, будем откровенны — но тем они драгоценнее.
Тизерра гадала, не предвидит ли муж потребность в подобных вещицах. Или это всего лишь очередной приступ природной склонности собирать сокровища, причуды одновременно разъяряющей и очаровывающей, забавной и потенциально опасной (таковы все лучшие наш черты).
Магия выводила на поверхности фарфоровых шаров бесконечные едва заметные узоры. Еще одна необычная черта. Зачарованные припасы. О чем думали Синие Моранты? Да уж, о чем они вообще думают?
На Крюппа взирали два пустых кресла — ситуация совершенно необычайная и весьма неприятная. Некоторое время назад они были заняты. Скорч и Лефф наскоро выпили по кружке, прежде чем отправиться к месту службы, на ночное бдение у ворот загадочного имения загадочной госпожи. Ох, воистину тревожащая парочка. Яростно нахмуренные лбы выражали нехарактерную мыслительную активность. Они глотали горький эль словно воду, не обмениваясь обычными благоглупостями. Следившему за их уходом Крюппу все это напомнило приговоренных на пути к виселице (или к венцу). Лишнее доказательство нечестности мира.
Но честность, будучи удобным обманом, является и понятием изменчивым, склонным вольно и беспорядочно блуждать по завиткам ракушки эго; когда одно течение столкнется с другим,… ну что же, честность покажет себя, монету с одной стороной. В злосчастном этом столкновении отыщем истоки всех типов конфликтов, от полонивших материки войн до соседской свары из-за криво поставленного забора.
Но к чему философские блуждания? Никакого воздействия на привычные дороги жизни, насколько можно судить. Пропустим их и перескочим к следующей исполненной мрачного значения сцене, в которой нахохленным стервятником входит в «Таверну Феникса» никто иной, как Торвальд Ном. Стоит на пороге, рассеянной улыбкой отвечает на небрежное приветствие Сальти, идет к бару, где Миза уже цедит для него кружку. Протянутая рука Торвальда схвачена у запястья, Миза привлекает его к себе и шепчет тихие слова, по — видимости, важные; Торвальд морщится и неохотно кивает — такого ответа достаточно, чтобы Миза выпустила его.
Подбодренный таким способом Торвальд Ном подошел к столику Крюппа и плюхается на стул. — Все плохо, — сказал он.
— Крюпп поражен, дражайший кузен Раллика, твоей жалкой жалостью к себе, твоим пессимистическим пессимизмом. Ужас, кривящийся Торвальд так замарал свой мир, что поражены даже ближайшие его приспешники! Гляньте! Темное облако уже застилает путь Крюппа. Необходимы жесты, изгоняющие подобное воздействие! — Тут Крюпп помахал рукой с малиновым платком, словно крошечным флагом. — Ах, так намного лучше. Будь уверен, Торвальд друг Крюппа, что «плохо» не так плохо, как могло бы быть, даже если оно действительно плохо.
— Раллик оставил письмо. Он желает меня видеть.
Крюпп насупил брови и попытался склониться над столом, но живот не позволил, так что он снова откинулся назад, на миг встревоженный возможностью чрезмерного разрастания объемов — но ведь это вопрос формы мебели, а значит, дела не так уж плохи, слава богам! — Не подлежит сомнению, Раллик желает всего лишь радостно поприветствовать давно потерянного кузена. То есть, утверждает Крюпп, не о чем беспокоиться.
— Видно, ты мало знаешь, — отвечал Торвальд. — Однажды я сделал нечто ужасное. Жуткое, отвратительное, порочное. Я подозреваю, что если он меня отыщет, то убьет. Как ты думаешь, почему я вообще убегал?
— Пролет в многие годы шириной ослабляет любой мост, пока он не рассыпается от толчка. Если не от толчка, то от бешеного удара кувалдой.
— Ты поговоришь с ним за меня? Крюпп?
— Разумеется. Но, увы, Раллик сделал Крюппу нечто ужасное, жуткое, отвратительное и порочное, и Крюпп не склонен прощать.
— Что? Что такое он сотворил?
— Крюпп будет думать думу кое о чем, достаточном для надежного защемления спускового крючка намерений, чтобы арбалет смог лишь бессильно и отчаянно коситься в твоем направлении. Тебе, дорогой друг, нужно будет лишь широко распахнуть объятия в нужный миг.
— Спасибо, Крюпп. Ты настоящий друг. — И Торвальд выпил залпом.
— Да, настоящий, хотя в данный миг и не стоЯщий. Крюпп благословляет тебя, но, увы, не предметом коллекции, специально предназначенной для того Синими Морантами — о, если бы Крюппу удалось самолично лицезреть эти исключительные и воистину уникальные знаки почитания! Сальти, сладкая милашка, не пора ли ужинать? Крюпп сгорает от нужды! О, и еще графинчик урожая…
— Постой. — Глаза Торвальда Нома остро заблестели. — Откуда, во имя Худа, ты о них узнал? И как? Кто тебе рассказал… никто не мог рассказать, потому что это тайна!
— Спокойнее, прошу, спокойнее, дражайший друг Крюппа. — Еще один взмах платком, завершившийся стиранием некстати выступившего на лбу пота. — Ну, слухи…
— Ни шанса.
— Тогда… э… признания умирающего…
— Мы чертовски близки к тому, чтобы услышать их прямо сейчас.
Крюпп торопливо промокал лоб. — Источник ускользает от меня, Крюпп клянется! Разве Моранты сейчас не на гребне волны?
— Они всегда на треклятом гребне, Крюпп!
— Точно. Тогда… а, волнения среди Черных бросили волнующий намек на сказанные воздаяния… или одеяния? В-общем, что-то религиозное…
— Почитания, Крюпп.
— Именно. Кто среди людей более заслужил подобное от Морантов? Никто, разумеется, что и делает их необыкновенно необыкновенными, вызывая топорщение экзоскелетных надбровий Черных и, без сомнения, Красных и Золотых и Серебряных и Зеленых и Розовых… а Розовые Моранты бывают? Крюпп не уверен. Так много цветов и так мало свободных ячеек в мозгах Крюппа! Может, Розовато-Сиреневые? — Тут он стряхнул переполненный влагой платок на сторону, что, к несчастью, совпало с прибытием Сальти, несущей поднос с ужином. Это происшествие позволило Крюппу открыть ценность дыхательной реинтеграции, хотя последующие замечания, что ужин малость пересолен, встретили холодный — очень холодный — прием.
Торвальд на удивление быстро потерял вкус к элю и ретировался (весьма невежливо!) в середине ужина Крюппа. Вот и доказательство, что манеры в наши времена уже не те, что раньше. Но когда они были еще те, скажите на милость?
Она не думает о нем — Резак был уверен. В этот миг он стал оружием, которым она пронзает себя, наслаждаясь запретным, оживляясь от измены. Она бьет себя снова и снова, замыкаясь и становясь недоступной для его касания и да, самопричиненные раны становятся намеком на направленное внутрь себя презрение, а может быть, и отвращение.
Он не знал, что думать… но есть нечто манящее в том, чтобы стать безликим, стать оружием, и эта истина заставляла его дрожать — как и тьма, которую он видел в ее глазах.
«Апсалар, этого ли ты боялась? Если так, то я понимаю. Понимаю, почему ты бежала. Ради нас двоих?» С этой мыслью он изогнулся, застонав, и излился в Чаллису Видикас. Она застонала и обмякла над ним. Пот на поте, волны жары окружили их.
Они молчали.
Снаружи чайки кричали что-то умирающему солнцу. Шум и смех, заглушенные стенами, тихий плеск волн о заваленный черепками берег, скрип трапов — корабли загружаются или разгружаются. Снаружи мир оставался таким же, как и всегда.
Резак думал о Сцилларе, о том, что совершил измену — как и Чаллиса. Да, Сциллара часто говорила, что их любовь рождена случаем и не связана обещаниями. Она настаивала на дистанции, и если в их любовных играх случались моменты бесконтрольной страсти, то оба самолюбиво старались как можно быстрее подавить ее. Он подозревал, что ранит ее — после прибытия в город некая часть души желала оставить позади все произошедшее а борту корабля, как бы завершить одну главу, обрезать все нити и начать сказку заново.
Но это невозможно. Всякие перерывы в истории жизни — не более чем следствие ограниченности дыхания, временного утомления. Воспоминания не пропадают; они сетью волочатся за нами следом, и в узловатых ячейках ее застряли все случившиеся с нами странности.
Он вел себя недостойно, ее это ранило. Это вредило даже их дружбе. Кажется, он зашел слишком далеко и уже не сможет вернуться к тому, что вдруг осознал как драгоценное, как более правильное, чем то, что он чувствует сейчас, лежа под этой женщиной.
Говорят, что радость быстро ломается под весом истины. И точно, распластавшаяся на нем Чаллиса стала куда тяжелее.
В своем молчании Чаллиса Видикас вспоминала утро, один из редких завтраков в компании супруга. На его лице читалось лукавое веселье, или, по крайней мере, намек на подобное чувство, отчего каждый продуманный жест стал казаться насмешкой — как будто, сидя за общим столом, они просто разыгрывали роли, полагающиеся домохозяевам. И находили, кажется, некое удовлетворение, сознавая лживость друг друга.
Чаллиса думала о даре привилегированности — ибо разве это не истинная привилегированность? Богатый супруг, ставший еще богаче, любовник из ближайшего окружения супруга (он запал на нее, так что можно воспользоваться им когда захочется) и еще один любовник, о котором Горлас вообще не знает. По крайней мере так она считает.
Тут сердце бешено забилось. «Что, если он послал кого-то следить за мной?» Такая возможность реальна, но что она может поделать? И что может сделать муж, узнав, что новейший любовник — не участник его игры? Что он, фактически, чужак, находящийся вне контроля и досягаемости? Не решит ли он, что и жена также вышла из — под контроля?
Горлас может запаниковать. Может стать смертельно опасным.
— Будь осторожен, Кро… Резак. То, что мы начали, очень опасно.
Он промолчал. Она слезла с него и встала около узкой кровати. — Он может тебя убить, — продолжила она, смотря сверху вниз, снова замечая, как годы закалили его тело, как бугрятся мускулы под старыми шрамами. Он не сводил с нее глаз, но выражение их было непонятным, отрешенным.
— Ведь он дуэлянт?
Она кивнула: — Один из лучших в городе.
— Дуэли, — сказал он, — меня не страшат.
— Это может стать ошибкой, Резак. Но, учитывая твое… положение, он вряд ли потрудится послать формальный вызов. Скорее наймет полудюжину негодяев, чтобы избавиться от тебя. Или даже ассасина.
— И, — спросил он, — что же мне делать?
Она заколебалась. Отвернулась, нагнувшись в поисках одежды. — Не знаю. Я только предостерегаю тебя, любимый.
— Могу догадаться, что ты в еще большей опасности.
Она пожала плечами: — Не думаю. Хотя… любой ревнивец непредсказуем. — Повернувшись, она снова оглядела его. — А ты ревнуешь, Резак?
— К Горласу Видикасу? — Вопрос, кажется, его удивил; она заметила, как напряженно он раздумывает. — Титул и богатство. Это, должно быть, славно. Родиться среди благ — не означает заслужить эти блага, так что, возможно, он недостоин своих привилегий… а может, и достоин — тебе лучше судить.
— Я не о том. Когда он берет меня, занимается любовью.
— О. Занимается?
— Иногда.
— Любит — или просто пользуется?
— Какой грубый вопрос.
В давние годы он вскочил бы и принялся расточать извинения. Сегодня он остался в кровати, следя за ней спокойным взором. Чаллиса ощутила в душе некий трепет и подумала, что это страх. Она предполагала получить контроль. Над всем этим. Над ним. Теперь она гадала, получила ли?
— Чего, — спросил он вдруг, — тебе нужно от меня, Чаллиса? Годов за годами вот этого? Встреч в пыльной пустой спальне? Хочешь владеть тем, что не принадлежит Горласу? Ведь ты же не бросишь его?
— Однажды ты звал меня бежать.
— Если и звал, ты явно отказалась. Что изменилось?
— Я.
Взор его отвердел: — Так теперь ты… решилась? Оставить за спиной все? Имение, богатство? — Он лениво обвел рукой комнатку. — Ради такой вот жизни? Чаллиса, пойми: мир большинства людей очень тесен. В нем больше ограничений, чем ты можешь вообразить…
— А ты вообразил, что среди благородных все иначе?
Он засмеялся.
По жилам ее пронеслась ярость; чтобы не выплеснуть ее, Чаллиса принялась торопливо одеваться. — Типично, — сказала она, радуясь, что сумела сохранить ровный тон. — И нечему было удивляться. Чернь всегда думает, что нам все досталось даром, что мы можем делать что захотим, идти куда захотим. Что нам дано ублажать любой каприз. Они не думают… — она развернулась и увидела, как расширяются его глаза — ведь он понял силу ее гнева. — Ты не думаешь, что люди вроде меня способны страдать.
— Я никогда не…
— Ты смеялся.
— Куда ты теперь, Чаллиса? Вернешься домой. В имение, где служанки сбегутся ожидать приказаний. Где готова смена одежды и драгоценностей. Разумеется, после расслабления в ванне. — Он резко присел. — Корабельный плотник, который жил здесь… он жил здесь, потому что больше было негде. Это и было его имение. Временное, зависящее от прихотей Дома Видикас. Когда работа была завершена, его прогнали, и он нашел новое пристанище — если повезло. — Он схватил рубашку. — А я куда пойду? На улицу. В той же одежде, в которой пришел, и смены не предвидится. Как насчет ночи? Может, перекантуюсь в номере «Феникса». Поработав на кухне, получу еду, а если Миза будет в хорошем настроении, то и помывку. А назавтра — те же жизненные трудности, тот же вопрос «что дальше?» — Она увидела на его лице иронию, но слишком быстро пропавшую. — Чаллиса, я не говорю, что ты неуязвима для страданий. Будь так, тебя здесь не было бы. Верно? Я говорю об ограниченных мирах. Они существуют повсюду, но это не означает, что они одинаковы. Иные чертовски более ограниченны, чем прочие.
— У тебя есть выбор, Резак. Он богаче, чем у меня.
— Могла бы отказать Горласу, когда он держал твою руку.
— Неужели? Да, одно в тебе не изменилось — наивность.
Он пожал плечами: — Как скажешь. Что дальше, Чаллиса?
Такое откровенное и почти не стоившее усилий отрицание всех ее аргументов потрясло Чаллису. «Ему не важно. Ничего не важно. Мои чувства, мои взгляды». — Нужно подумать, — отозвалась она, внутренне беснуясь.
Он кивнул без видимого удивления.
— Завтра вечером мы встретимся снова.
Он криво улыбнулся: — Поговорим?
— И не только.
— Ладно, Чаллиса.
Некоторые мысли, порожденные пугающим пониманием себя самого, умеют прятаться за другими мыслями, незримо скользить в тех же потоках, расти и избегать потрясенного осознания. Мы можем их ощутить, это верно — но это не то же самое, что выставить их нагими на жестокий свет правды, под которым они превращаются в пыль. Ум прячется в раковину, играет, восхищаясь своею шулерской ловкостью — по сути, так мы и живем, от мгновения к мгновению, бесконечно жонглируя отрицаниями, истолкованиями и лукавыми подмигиваниями зеркалу. Под всеми нашими «искренними» клятвами и обещаниями бушуют воля ко лжи и страсть к самооправданию.
Но разве это нам мешает?
Чаллиса Видикас спешила домой, не забыв, тем не менее, сделать круг предосторожности. Шепотки паранойи то и дело волновали море ее мыслей.
Она думала о Резаке, человеке, прежде бывшем Крокусом. Она думала о смысле нового имени, о сути найденного ею нового человека. И еще она думала (там, глубоко под поверхностью) о том, что с ним сделать. Горлас узнает, рано или поздно. Он может разгневаться, а может и нет. Однажды ей случится прийти в убежище только для того, чтобы обнаружить на кровати изрубленный, обескровленный труп Резака.
Она понимала, что попалась в ловушку. Свободные люди вроде Резака такого не поймут. Она знала, что все пути наружу сопряжены с жертвами, потерями, убытками и всяческими… мерзостями. Да, именно такое слово подходит.
Мерзость. Она заново ощутила вкус этого слова. Принялась гадать, сумеет ли жить в таком унижении. «Но зачем бы мне? Что такого я должна совершить, чтобы саму себя счесть мерзостной? Сколько жизней я готова разрушить ради свободы?» Сам вопрос отдает мерзостью. Ухватишь вожделенный цветок свободы — поранишься о бесчисленные шипы.
Но она уже крепко держит его, живет с болью, чувствует, как липкая кровь стекает по руке. Крепко держит, чтобы ощущать, чтобы вкушать, понимать грядущее и… и… принять его… если захочет.
Она может ждать действий Горласа. Или ударить первой.
Труп на кровати. Сломанная роза на полу.
Резак уже не Крокус — она видит это очень, очень ясно. Резак… опасен. Она вспомнила шрамы, старые раны от ножа, а может быть, и от меча. Другие могли остаться от стрел и арбалетных болтов. Он сражался, он забирал жизни — она уверена.
Не тот мальчик, каким был когда-то. Но взрослый мужчина… сможет ли она использовать его? Согласится ли он хотя бы моргнуть по ее просьбе?
«Когда я попрошу? Скоро? Завтра?»
Любой вздрогнул бы от таких мыслей, будь они откровенными — но ведь ее мысли были тайными, они не выходили на поверхность. Им дана была свобода плыть, кружиться в водоворотах, словно отрешаясь от реальности. Но они ведь не таковы, правда? Не отрешены от реальности.
О нет, не отрешены.
Но разве это помешает?
Оседлав волну неизмеримого удовлетворения, Баратол Мекхар вдавил громадный кулак в лицо мужчины, послав его кувыркаться по полу кузницы. Шагнул вслед тряся пронзенную острой болью руку. — Я буду рад заплатить годовой сбор Гильдии, господин, — сказал он, — когда Гильдия соизволит принять меня в члены. Если же вы будете требовать денег и одновременно отрицать мое право на профессию — что ж, первый взнос я отвесил.
Разбитый нос, поток крови, глаза, едва видные за растущими шишками… Агент Гильдии сумел лишь слабо кивнуть.
— Буду очень рад, — продолжал Баратол, — если вы через неделю зайдете за следующей порцией. А если случайно захватите пару десятков приятелей — полагаю, им я отвешу вдвое щедрей.
Собралась толпа зевак, но кузнец не обращал на нее внимания. Он не стал бы возражать против новых слухов, хотя, по всем сведениям, его личные разборки уже стали животрепещущей темой разговоров; нет сомнений, последние сказанные им слова тоже полетят по городу быстрее чумы в пустынных ветрах.
Он повернулся и ушел в лавку.
Чаур стоял около задней двери. На нем был всегдашний толстый фартук, сквозь многочисленные прожоги торчали пучки травы эсгир — единственно подходящей изоляции, растения, не горящего даже в самом буйном пламени. Руки до локтей закрывали рукавицы той же конструкции; в щипцах быстро остывал изогнутый кусок бронзы. Глаза Чаура сияли, он улыбался.
— Лучше верни это в горн, — сказал Баратол. Как и ожидалось, дела разворачивались вяло. Гильдия начала и подогревала компанию травли, а прочие гильдии готовы были поддержать ее «черные списки». Покупающие у Баратола могли обнаружить, что им откажут в продаже самых разных вещей, и это, разумеется, угрожало их разорить. Перед лицом самого Баратола уже закрылись двери большинства лавок, в которых он покупал необходимые материалы. Приходилось искать замену на черном рынке, что всегда бывает небезопасно. Как и предсказал его приятель Колотун, обитавшие в городе малазане не обратили внимания на угрозы и предостережения против торговли с кузнецом. В их натурах было, очевидно, что-то, заставляющее сопротивляться давлению — один намек на то, что им нельзя что-то делать, взъерошивал перья и зажигал в глазах упрямый блеск. Резня у К’рула показала, что подобная дерзость может оказаться фатальной. Горе навеки осталось в душе Баратола, но оно делило место с темной, холодной яростью. К невезению недавнего посланника Гильдии Кузнецов, ярость побудила Баратола действовать согласно инстинкту, едва он услышал требование денег.
Он приехал в Даруджистан не ради создания врагов, но, тем не менее, обнаружил себя в гуще войны. Может быть, нескольких войн сразу. Как тут не быть дурному настроению!
Он прошел в мастерскую, и жар двух растопленных печей обрушился на него дикой волной.
Секира требует нового лезвия; а может быть, следует изготовить и меч — что-то, с чем можно показываться на улицах.