Маяковский. Самоубийство, которого не было Быков Дмитрий
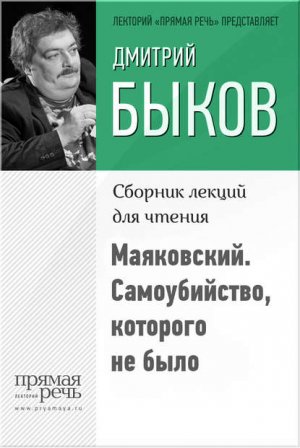
— Больше вас на вечера не зову: все смотрят только на вас.
Заказывал ей цветы — как всегда, корзинами.
Говорил:
— Вы самое чистое и хорошее, что на свете есть. Нет дня, чтобы я о вас не думал.
Однажды сказал:
— Вы будете моей невесточкой, пока не примете решения.
Она не знала, что думать — в шутку это или всерьез.
Он несколько раз оставлял ей московский адрес и телефон, приглашал к себе, «когда будете в Москве». Она отвечала неуверенным «может быть».
— Что я, тигр лютый, что девушкам нельзя ко мне в гости?
В феврале 1927 года он снова приехал в Харьков, на этот раз с Асеевым. Столь частое посещение наверняка связано с серьезными намерениями относительно Наташи Хмельницкой: приглашали отовсюду, но в первую очередь он откликался на приглашения из Харькова. Однокурсники, знавшие о Наташином знакомстве с ним, попросили устроить вечер в Институте народного хозяйства. Маяковский с Асеевым согласились, но назначили плату. Студенты были жестоко разочарованы: им представлялось, вспоминает Хмельницкая, что поэзия должна быть бесплатным удовольствием. Отчитав программу, Маяковский предложил пишущим студентам подняться на сцену и почитать свое: «Наверняка ведь есть пишущие?» Студент экономического факультета Банный заявил, что сейчас прочитает стихи, посвященные «поэту Владимиру Панковскому». И прочел. Были там среди прочего строчки: «Мы пришли к тебе, а ты забасил голосищем: гони двести рублей!» Маяковский слушал молча. Когда Банный отчитал, большая часть аудитории принялась громко негодовать, но нашлись и те, кто его поддержал, ринувшись к трибуне и демонстративно аплодируя. Маяковский встал и заговорил очень тихо — это был, вероятно, единственный способ угомонить публику. Говорил он обычные в таких случаях вещи — о том, что труд поэта «любому труду родствен», что поэт служит социализму и должен оплачиваться. Он был, как всегда, убедителен, и Банного потребовали даже удалить из зала. Наташа всего этого уже не видела — она убежала рыдать домой: ей казалось, что теперь-то Маяковский ее точно не простит, подумает, что это она подстроила. Но Маяковский с Асеевым прямо из института направились к ней — успокаивать. К дому их провожала толпа студентов, желавшая загладить скандал.
— Владимир Владимирович! — страшно смущаясь, говорила Наташа. — Банный — идиот! Вот знаете, какие стихи он пишет? — и процитировала глупости Банного, которыми он обчитывал сокурсников.
— Однако вы их запомнили, — сказал Маяковский.
— Это потому, что у меня абсолютная память на стихи, даже на самые плохие!
Она постоянно выбегала из комнаты — то за чаем, то за сладостями. Маяковский попросил:
— Не убегайте ежеминутно. Хочу после злых рож видеть доброе лицо прекрасной девушки.
Вечером у Маяковского и Асеева было запланировано выступление в библиотеке имени Короленко. Около семи вечера они отправились туда. Вскоре Маяковский вернулся:
— Наталочка, забыл палку.
В передней он крепко поцеловал Наташу — родителей дома не было, и это был единственный раз за весь день, когда ему удалось остаться с ней наедине. Наташа осталась дома, вполне утешенная. «Не было в ту зиму девушки более счастливой и уверенной в своем счастье, чем я», — пишет она.
Но с Маяковским ни в чем нельзя быть уверенной, ему иначе неинтересно.
С 15 апреля по 22 мая 1927 года он был за границей: Польша — Чехословакия — Париж — снова Польша. 25 июля опять приехал в Харьков, но почему-то без прежней охоты. Даже телеграфировал своему импресарио Лавуту: «Считаю бессмысленным устройство лекций Харькове летом. Предпочитаю лекции Луганске осенью. Прошу отменить. <…> Если отменить невозможно телеграфируйте срочно выеду».
Лавут телеграфировал: все билеты проданы, ажиотаж больше, чем зимой. И он поехал.
Из гостиницы 25 июля позвонил Наташе:
— Что это все я к вам? Приходите ко мне.
Все понятно: отношения надо переводить в другую стадию, сколько можно чай пить?
— Я к вам приду в Москве. А в Харькове — давайте вы ко мне.
— Приду немедленно.
«Но что-то изменилось в его отношении ко мне. Я не чувствовала прежней чуткости, понимания, так свойственных ему в первый год нашего знакомства».
Наташа недоумевает: может, виновато обилие заграничных впечатлений? Ей и в голову не приходит, что с момента их встречи прошел год, и за весь этот год Маяковскому достались два поцелуя. Он — не знаю, насколько интуитивно, вероятно, что и вполне сознательно, — меняет тактику: вместо вежливости и предупредительности — холод, почти грубость.
«И я потеряла веру в его чувство».
Не на такой результат он рассчитывал. Ему, видимо, казалось, что она попытается его удержать — и наконец сделает решительные шаги. А она думала, что больше ему неинтересна.
— Как похудела, побледнела, — сказал он однажды. — Тоскуете по мне?
Она кивнула. А когда подняла голову, увидела «его спокойное, очень довольное лицо».
Он уехал. Она написала ему и получила нейтральный ответ, почти отписку. Светлана Коваленко в книге «Звездная дань» справедливо называет и этот ответ, и все его тогдашнее поведение с ней несколько печоринским: «Письма Ваши получил. Но отсутствие на них ответа — отнюдь не мое нежелание. Каждое Ваше милое письмо я получал через месяц-полтора после его написания. А пока я переживал ужас несвоевременного получения — проходил еще месяц. Поэтому не гневитесь на меня и, если будете в Москве, немедленно требуйте меня перед свои ясные очи».
Семья, друзья, однокурсники — все наперебой внушают ей, что нечего и думать связать судьбу с Маяковским. Ей нужно совсем другое. Дома его уже воспринимали как жениха, ждали официального предложения, сама Наташа всерьез думала о том, чтобы остаться с ним навсегда (и очень может быть, что он сам задумывался о чем-то подобном — девушка красивая, преданная, обожает его талант), — но, видимо, для того, чтобы всерьез переломить свою жизнь, он еще недостаточно измучился в своем странном тройственном союзе. Два года спустя он будет умолять Веронику Полонскую, чтобы она ушла к нему от мужа, — а сейчас, видя девушку, которая «никого и ничего не может видеть рядом с собой», он медлит или нарочно ее игнорирует. Видимо, ему нужны были новые аргументы — скажем, ее готовность прийти к нему в гостиницу без всякого брака, без обещаний и гарантий. Или что-то в ней — ум, абсолютный вкус, — что так же приковало бы его, как приковала когда-то Лиля. Или ему просто было удобнее, чтобы его ждала в Харькове всегда на все готовая и вечно влюбленная Наталочка, а он оставался свободен и мог еще повыбирать, с кем и когда вырваться из бриковского круга. В любом случае ему нужно законсервировать ситуацию, а Наташа к этому никак не готова. Она ждет его очередного приезда, а он медлит и появляется в Харькове только 21 ноября (в воспоминаниях она ошибочно датирует эту встречу декабрем). Он выступает, как всегда, в драматическом театре. Обычно столь доброжелательная к нему харьковская пресса на этот раз пишет: «Нехорошо, т. Маяковский!» — его нападки на Полонского показались злыми и необоснованно грубыми. Видимо, действительно он выглядел злее обычного — есть такой феномен, все выступающие его знают: если ругаешься в благодушном настроении, ругань выглядит мирной. А тут он был в бешенстве, и причина этого бешенства понятна.
«Сказала, как в воду бросилась:
— Владимир Владимирович, я хотела написать вам, просить, чтобы вы не приезжали больше в Харьков, не приходили ко мне.
Владимир Владимирович вздрогнул от неожиданности, помолчал с минуту, потом необычно тихим голосом спросил:
— И я должен считать это письмо написанным?
— Да, да, — с решимостью отчаяния продолжала я, — прошу вас, так нужно, так будет лучше.
— Понимаю, — резко сказал Владимир Владимирович, — нужен господин доктор или господин юрист.
— Никто не может быть мне нужен, кроме вас, но я потеряла веру во все хорошее, лучше нам не встречаться.
— Девчонка, щенок, — с возмущением сказал Владимир Владимирович, — что вы смыслите в жизни, как же вы можете так легко, сразу решать?
— Я не девчонка, верьте, мне нелегко, я знаю, мы никогда не найдем общего языка».
Он уговаривал, она настаивала на своем. Он вскочил, рявкнул: «Прощайте!» — и пошел, побежал по коридору, споткнулся, чуть не упал. Только после этого обернулся к ней и вдруг смущенно улыбнулся.
— Не уходите! — попросила она, но он сбежал по лестнице и оглушительно хлопнул дверью.
Наутро она побежала к однокурснице (та как раз собиралась замуж и была полна «молодым, ничем не омраченным счастьем»), стала плакать, жаловаться, — подруга потащила ее гулять по Сумской, и тут, конечно, навстречу им Маяковский с другом-чекистом Горожанином. Холодно поздоровался, прошел мимо.
В Харьков полтора года не приезжал. Приехав 14 января 1929 года — не позвонил.
Последняя встреча, как и первая, была на курорте, в Сочи, в конце июля 1929 года, в санатории «Ривьера». Хмельницкая только что окончила институт. Маяковский стоял у газетного киоска и заметил ее.
— Наталочка, вы здесь? Не узнал от неожиданности. Куда вы едете? Можно мне с вами?
Она ехала на открытие нового санатория, предполагался праздничный вечер, ее пригласили медики, коллеги отца. Маяковский поехал с ними, его упросили прочесть несколько стихов, он читал с успехом и подъемом.
Стали опять гулять вместе.
— Я изменился? Совсем старым кажусь вам?
— Напротив, вы как будто моложе.
— Это вы привыкли к моим морщинам.
— Нет, это я сама стала старше.
Она заметила, что отношение отдыхающих к нему было подозрительным и недобрым. Одна дама в санаторной аллее спросила:
— Ведь вы поэт, как можно было назвать пьесу безобразным словом «Клоп»?
— Вы эту пьесу видели? — спросил он. — Читали?
Она не видела и не читала.
Здесь Хмельницкая впервые заметила, что Маяковский, прежде столь боевитый, даже как будто радующийся нападкам, стал реагировать на них крайне нервно.
— Говорят, вы вчера поздно вернулись с выступления, ворота были заперты, и пришлось вам лезть через забор.
— Обо всем знают, обо всем разговаривают! — взорвался он.
Часто ходил на почту, ждал писем. Писем не было.
Последнее выступление в Сочи — в Зеленом театре. Наташа пошла с матерью. Мать долго наставляла ее: «Не сделай несчастными себя и нас». Маяковский стоял в тени большого платана, они его не замечали. Мать ушла, Маяковский подошел к Наташе.
Пошли к театру, он долго молчал.
— Напрасно волнуется ваша мама, — сказал наконец. — Я никого не сделаю несчастным.
После вечера, ни на следующий день, ни потом, к Наташе не подходил. Подошел только попрощаться.
— Я еще не сказал в гостинице, что освобождаю комнату. Если хотите, переезжайте. У меня просторно.
Она отказалась: неловко.
— Заходите на почту. Если будут письма, передадите.
Она пообещала и заходила, но писем не было.
И никогда они не виделись больше.
Почему на этот раз не вышло — и могло ли выйти? — можно спорить долго, но все, в общем, понятно. Она была слишком молода, слишком добропорядочна, слишком мало всего этого для долгой любви, а одного почтения к его дару недостаточно, чтобы стать его спутницей. Ему было надо, чтобы его любили, — и на любовь он мог рассчитывать, — но надо было еще, чтобы понимали, а для этого даже не обязателен был литературный талант: нужны были трагический темперамент, сложный характер, сочетание подростковой ранимости и зрелого, сильного ума. Он вечно искал такую — или уж такую, чтобы наслаждалась полной гармонией, идеальным спокойствием, чтобы рядом с такой женщиной сразу успокаиваться, — но такая ни разу ему не встретилась, и время к появлению таких женщин не располагало.
Кажется, только теперь он понял, что «с мирным счастьем покончены счеты», — понял в том же примерно возрасте, что и Блок; но попыток завести семью не оставил — просто с самого начала сознавал их обреченность.
Отношения с Наташей Самоненко начались раньше, закончились позже и складывались безоблачнее. Она обо всем подробно рассказала в мемуарах «Киевские встречи», написанных в 1940 году по просьбе Лили Брик и опубликованных тогда же. Познакомились они в ее родном Киеве 12 января 1924 года. Он приехал с докладом «О Лефе, белом Париже, сером Берлине и красной Москве». Выступал в Пролетарском доме искусств. Наташа — ей было шестнадцать — увидела его еще на улице, он шел к Владимирской горке. Он ее тоже запомнил. Вечером, после концерта, они с подругой решили пройти мимо Маяковского, который разговаривал с поклонниками в зале. Один из этих слушателей, молодой режиссер Глеб Затворницкий, был с Наташей знаком и даже к ней неравнодушен. Когда Наташа проходила мимо, Маяковский «сделал один большой шаг в сторону и преградил нам путь».
— Шли к нему, а меня испугались?
— Нет, испугались его, а шли к вам!
— Правильно, мы ведь с вами знакомы. Вы днем за билетами ходили. Только у вас чулки были коричневые, а теперь черные.
— Ну, — сказал Затворницкий, — вам теперь только портретик с подписью попросить у Владим Владимыча!
Наташу это обидело: просить портретик — такая пошлость! Не желая выглядеть кисейной барышней, собирательницей автографов, она дерзко стрельнула у Маяковского папиросу и закурила — впервые в жизни.
И больше в тот раз ничего не было. Правда, Наташа пошла на второе его выступление и запомнила, что на нем он — такой благодушный накануне — был почему-то «зол и нервен». Доказывал, что реклама и есть сегодня настоящая лирика. Требовал внедрять искусство в массы: «У папиросной коробки шесть сторон. На каждой надо печатать стихи!»
Интересно, зачем? Он действительно верил, что стихами — хоть бы и на папиросной коробке — можно облагородить любого? Вероятно, верил: для модернистов эта убежденность в великой преображающей силе рифмованных строк, картинок, даже рисунка на ткани, совершенно естественна. В этом и заключается сущность модернизма — стереть грани между искусством и жизнью; еще одна утопия XX века, провалившаяся вместе с остальными. Я вот это пишу, а мне звонят издатели и просят начитать несколько стихотворных строчек для поездов московского метро. «Осторожно, двери закрываются!» — и дальше, при влете в туннель, стишки. Может, и правда — две-три стихотворные строчки запомнятся и спасут в критический момент? Но ведь это бред, он не мог не понимать этого, потому что сам знал наизусть тысячи строк, все книги Блока и почти все — Гумилева, страницу за страницей, не говоря про «Евгения Онегина», плюс всего себя. И ничего не спасло.
А в феврале 1925 года он приехал в Киев опять, и Наташа пошла на его выступление — на этот раз с отцом. Маяковский позвал ее пить чай. «Пошли в артистическую. Там было много народу. Я стеснялась и спешила уйти. Владимир Владимирович рассердился:
— Я сейчас еду в исполком, буду читать всего „Ленина“, поедемте со мной. И потом не отпущу вас, будем у меня чай пить. Стихи вам прочту, какие захотите!
Дальше произошла история, которую я долго не могла вспоминать без стыда и смущения. <…> Мой отец тоже был на вечере, и ему кто-то сообщил, что меня, чуть не насильно, увел в артистическую Маяковский. Разгневанный „благородный отец“ решил помешать такому насильственному умыканию собственного дитяти и остался среди толпы, дожидающейся Маяковского. На улице отец, увидев, что домой, видимо, я не собираюсь, так как Владимир Владимирович подсаживает меня на извозчика, не выдержал и схватил меня за рукав.
— Таська, ты куда?
Смертельно испуганная и смущенная, я ничего не могла сказать. На помощь пришел Маяковский, познакомился, стал объяснять, что едем в исполком, будет читать „Ленина“, очень будет рад, если отец поедет с нами. Был так любезен, что папа даже стал соглашаться. Но тут я, не выдержав больше, со слезами на глазах вырвалась из рук их обоих и, прорвавшись через толпу, бросилась бежать по Крещатику. За мной бежал папа, за папой Владимир Владимирович, сзади следовал извозчик, а за извозчиком заинтересованная любопытным происшествием публика. В таком порядке мы достигли здания исполкома, где Маяковский обогнал папу и подошел ко мне.
— Плакать не надо. Вот вам пропуск на лекцию. Приходите с папой. После читки мы его укротим и помиримся с ним. Я же пока пойду, меня ждут там.
Я взяла пропуск, но ревела, ревела без конца и на лекцию не пошла. На другой день Владимир Владимирович еще оставался в Киеве, но я не нашла способа выйти из дому и так и не видала его больше в том году».
Строгости домашнего воспитания были такие, что на следующий год — это ей уже восемнадцать — при очередном визите Маяковского в Киев, 26 января 1926 года, ей приходится напрямую шантажировать родную тетку. Маяковский прислал письмо — нарочито детским почерком, чтобы никто в семье ничего не заподозрил, — с приглашением в отель «Континенталь». Дальше процитируем собственноручные воспоминания Наташи (уже Рябовой), потому что писала она хорошо, весело, и можно понять, что он в ней находил:
«Что делать, кем написано письмо, как выйти из дому, как войти в громадный (мне он казался громадным тогда), ярко освещенный отель? Решение нужно было принимать быстро, до прихода отца. Выйдя в столовую я подошла к одной из теток (их всегда у нас в доме было великое множество) и ласково стала уговаривать ее пойти погулять со мной.
Когда мы вышли и, болтая, незаметно дошли до гостиницы, я приняла решительный вид и сказала:
— Сейчас я получила записку, подписанную поэтом Маяковским; я думаю, записка написана не им, мне известен его почерк. Ты пойдешь вот в эту гостиницу, отдашь ему записку и скажешь, что я жду его на углу Николаевской и Крещатика.
Увидев протестующий и растерянный вид тетки, я быстро добавила:
— Иначе я брошусь под первую же машину!
Тетка пошла в отель. Сверх ожидания она очень быстро вышла обратно, но уже сопровождаемая Владимиром Владимировичем. Они шли так быстро, что не заметили меня в тени афишной тумбы, и мне пришлось чуть не бегом, а было очень скользко, догонять их уже на Крещатике. Когда я добралась до них, уже остановившихся, тетка, растерянно озираясь, говорила:
— Не знаю, не знаю, где она, была со мной!
— Растаяла? Быть не может — мороз! — улыбался Владимир Владимирович, уже видя меня.
— Иди домой! Скажи что хочешь! Но не смей говорить, где я! — погрозила я тете.
Мы остались одни.
— Кто писал записку? — замирая, спросила я.
— Я, конечно! Почерк детский для строгого родителя, — улыбался Владимир Владимирович.
— Кроме почерка, записка безграмотна, отсутствуют знаки препинания.
— Уверяю вас, записку писал Маяковский. А кого это вы посылали ко мне?
— Тетку.
— Красивая была женщина!
Оба засмеялись. В это время мы уже дошли до угла Институтской и Ольгинской. Маяковский остановился. Указывая мне на видневшийся из-за забора и деревьев дом, сказал:
— Видите балкончик, на нем я в 14-м году с генеральшей целовался!
Я ничего не ответила. Мое провинциальное воспитание не позволяло мне вести разговоры на подобные темы, а кроме того, я очень боялась и стеснялась Владимира Владимировича.
(В четырнадцатом году, с 28 по 31 января, он действительно был в Киеве, дважды выступал — с аншлагами и непременной последующей руганью в газетах: „У „футуристов“ лица самых обыкновенных вырожденцев, с придавленными головами и мутными взглядами — такие лица можно видеть в суде на неинтересных делах о третьей краже“, — писала „Киевская мысль“. Что же это была за генеральша, не испугавшаяся вырожденца? Каменский молчит, других источников нет.)
Сказала, что родители отказываются меня пустить на лекцию, не знаю, как быть. <…>
— Скажите, что идете на „Нибелунгов“, картина длинная.
Помолчав:
— Там крокодил плачет.
— Какой крокодил?
— Плачет дракон, которого кто-то там убивает.
— Зигфрид.
— Может, Зигфрид, очень жалко.
— Кого?
— Крокодила.
Посмотрела на Маяковского исподлобья.
— Вы нарочно говорите, что не знаете, кто убивает дракона, — это ведь и не из кино можно узнать, это германский эпос — Кольцо Нибелунгов.
— Да, а вы из Вагнера знаете?
— Нет, мы в школе проходили, и папа рассказывал, — ответила я уже со смехом.
— Натинька, вы образованнейшая женщина, какую мне довелось видеть!
Становилось холодно. Маяковский предложил пойти в цирк греться. Я очень люблю цирк. В фойе, где с арены слышна была тихая музыка, сопровождающая обыкновенно какой-нибудь трудный номер, я почувствовала себя настолько смелой, что сказала:
— Мне хорошо с вами, Владимир Владимирович!
Маяковский посмотрел на меня внимательно. Ответил шуткой, но почему-то серьезным голосом:
— Знаки препинания ничего, я стихи пишу хорошие!»
Видно из всех этих реплик, однако, что говорить с девушками ему не о чем, — да и девушка, верно, «не для того, чтоб с нею говорить». После цирка отправились в отель: Наташа боялась, что если откажется — Маяковский сочтет ее мещанкой и дурой. Никакого штурма и натиска, однако, не последовало: он стал ей читать Есенина.
— Вы вообще Есенина любите?
— Я Маяковского люблю, а не Есенина. И мне пора домой.
— Не отпущу, пока не полюбите Есенина.
Стал читать «Черного человека», потом «Песнь о собаке», после которой Наташа расплакалась.
— Видите! А говорите — не любите.
Отпустил домой. Весь следующий день они гуляли вместе. Маяковский похвастался маленьким пистолетом «Баярд» и кастетом.
— Зачем вам столько оружия?
— Чтобы вас не отняли.
Вечером следующего дня, 28 января, зал Домкомпроса трещит по швам: молодежь кричит: «Нэпманов пускаете, а у нас нет денег на билеты! Нам, значит, не надо знать Маяковского?» Маяковский требует пустить всех. Читает американский цикл. Аудитория в таком восторге, что почти все стихи приходится бисировать. После вечера Наташа отпросилась у отца — якобы на день рождения к подруге.
«Извозчик был старик, видимо, строгих правил, потому что, когда мы отъехали и я сдавленным голосом сказала ему:
— На Подол ехать не надо, поезжайте в „Континенталь“, — обернулся ко мне и с возмущением стал меня отчитывать:
— Так-то, барышня, папашу обманывать! Это за каким же делом вам в гостиницу надо?
В комнату к Владимиру Владимировичу я ввалилась с такой физиономией, что Маяковский сразу рассвирепел:
— Кто? Папа? Мальчишки? Что случилось?!
Рассказ об извозчике подействовал на него странно.
— Я думал, вы смелая, большая девушка, а вы крохотка совсем, — говорил он явно разочарованно. Увидев, что я совсем растерялась и расстроилась, заслужив еще и его неодобрение, Владимир Владимирович стал говорить мне приятные вещи, стараясь утешить. По его словам, я была и красавицей, и умницей, и платье у меня было замечательное, и „копытца“ (туфли) хорошие, и вообще я была лучшей из всех девушек. „И девушку Дороти, лучшую в городе, он провожает домой“. Я спросила, чьи это стихи. Сказав, что начинает разочаровываться в моей „образованности“, Маяковский очень хвалил Веру Инбер. Помню его слова:
— У нее крепкий мужской стих.
Рассказал мне содержание „Веснушчатого Боба“, из которого помнил только вышеприведенные строки, „Сороконожки“ тоже помнил плохо, но зато „Сеттер Джек“ знал и прочел все. Особенно нравились ему строчки „Уши были, как замшевые, и каждое весило фунт“. Несколько раз в течение всего вечера говорил эти слова и при этом делал такие движения руками, что еще больше становилось ясным, какие это милые, приятные уши и как приятно их подержать в руках. Помню, что в этот вечер упоминал имена Сельвинского и Пастернака. Помню, что Пастернака называл „лучшим русским поэтом“».
Он много раз еще приезжал в Киев (однажды — с Асеевым), всегда приглашал ее к себе — то в уже родной четырнадцатый, то в шестнадцатый, то в сорок третий номер «Континенталя». Один раз, когда накануне его отъезда она сидела у него молча и грустила, кто-то принялся стучать в дверь, колотил все настойчивее — Маяковский не открывал. Наконец послышались удаляющиеся шаги — назойливый посетитель убрался. Тут она и расплакалась.
— Да что с вами такое?!
Признаться, что плачет из-за его отъезда, она не могла.
— Я подумала, что меня примут за «веселую девушку».
— Господи! Да за кого ж вы меня-то принимаете!
Он посадил ее на колени, стал утешать, целовать — она не возражала, потом вдруг, кажется, осознала происходящее, и лицо у нее сделалось такое испуганное, что он засмеялся:
— Это вы папу представили? Что бы с ним было, если б он увидел, как его дочь целует Маяковского!
— Это вы меня целуете.
— А вы не возражаете!
Он еще несколько раз приезжал, о чем подробно рассказано в ее записках. Развивалось все по харьковскому, «Хмельницкому» сценарию — но в мажоре; Наташа Самоненко, в отличие от Хмельницкой, рвать с Маяковским не спешила и даже отозвалась на его приглашение — приехала в Москву, побывала в Лубянском проезде, но отношения не продвигались дальше флирта, хотя и многообещающего. Периодически они в Киеве встречались, ругались, мирились, — однажды Маяковский, говоря о Москве, в очередной раз употребил свое вечное «мы»: у нас там, в Москве, собака…
— Кто — мы? — не удержавшись, спросила наконец Наташа.
— Мы — это семья: Лиля Юрьевна Брик, Осип Максимович Брик и я.
В эту семью Наташа не захотела и на обещание познакомить ее с Лилей ответила резким отказом. Маяковский почувствовал ее разочарование и тоже взял обиженный, гордый тон — как всегда поступал, когда чувствовал, что девушке стало неинтересно. Продолжал, впрочем, закидывать ее шоколадными конфетами, дарить цветы, назначать свидания — но называл уже не Натинькой, а Наташей.
В конце концов она переехала в Москву, устроилась на учебу, вышла замуж, став Рябовой и не сказав об этом Маяковскому.
— Осупружились? — спросил он во время очередной встречи, сразу обо всем догадавшись по ее новому облику, по новой уверенности и раскованности в разговоре.
Светлана Коваленко в «Звездной пыли» указывает, что в последние два года жизни Маяковского они с Наташей «стали близки»; никаких указаний на это в ее записках нет, хотя она и пишет постоянно, что проводила с Маяковским много времени. Возможно, Коваленко что-то слышала от нее лично, а может, ограничивается домыслами, — но копаться в чужом белье, в общем, довольно скучно; отношения в любом случае были поверхностные. Стихов Наташе (как и двум другим Наташам) он не посвящал, о своей работе и жизни не разговаривал — был предупредителен, мил, но и только. В январе тридцатого он предложил ей «резать и клеить» для выставки. Она с восторгом согласилась — ей хотелось быть ему полезной; однажды она ему призналась, что он всегда будет для нее тем, кем стал с января двадцать четвертого, — но кем, собственно, он для нее стал? Любимым поэтом? Кумиром? Мечтой? Ему хотелось другого, он мечтал заменить Лилю — а заменить ее доброй и веселой киевской девочкой было никак нельзя; в общем, все закончилось по обычной схеме. С кем-то он заходил дальше, с кем-то останавливался раньше — но в какой-то момент он предупреждал: Лиля всегда будет для меня номером один. Только Татьяне Яковлевой он не сказал ничего подобного — и тут же за это поплатился.
Правду сказать, он был готов в тридцатом успокоиться уже и на браке с Вероникой Полонской, которая, при всем своем очаровании, была и поверхностнее, и тщеславнее, и попросту глупее прежних его возлюбленных; но пропустил время, когда еще можно было это сделать. В сущности, он и сам мало верил, что сможет еще приноровиться к жизни с молодым, прелестным и неглубоким существом, сколь бы сильно новая избранница ни любила его поначалу. С Натинькой он все время говорит о старости. Она признается, что боится смерти.
— Умереть не страшно, — говорит он. — Страшно жить старым.
— Старым — это каким?
— Мужчина стар в тридцать пять. Женщина раньше. Но вам все равно еще нескоро.
Тридцать пять ему исполнилось в двадцать восьмом, и с этого момента депрессия стала постоянной, безвыходной.
Именно поэтому отношения с Наташей Брюханенко были с самого начала такими грустными, сначала элегическими, а потом тягостными.
Третья Наташа родилась в 1906 году. С пятнадцати лет она бегала на выступления Маяковского, знала наизусть множество его стихов и пыталась подражать его манере чтения. Жизнь ее не баловала: «Моя семья — обычная московская семья средней интеллигенции. Отец мой был преподавателем естествознания в гимназии, мать — учительницей французского языка. Родители разошлись, когда мне было пять лет, а когда исполнилось одиннадцать — умерла мама. Это было в июле 1917 года. Я попала в семью тетки, маминой сестры, но в девятнадцатом году она отдала меня и брата в детские дома. Брат попал в детский дом им. Луначарского, а я в пришкольный детдом, кажется, номер 159. Жили мы в первые годы революции очень неважно. Ученье было поставлено плохо. Я, например, никогда в жизни не учила географии». После окончания школы девушку взяли на работу в Госиздат, где в 1926-м и произошла их встреча.
Ухаживания Маяковского — красивые, демонстративные — ее так же шокировали, как и первый его штурм, еще до всяких ухаживаний. У него только эти две крайности и были: либо мгновенное сближение, либо бесконечные — обиженные — китайские церемонии. «Как-то я пробегаю по лестнице госиздатовского коридора. Навстречу мне Маяковский и обращается ко мне:
— Товарищ девушка!
Я останавливаюсь. Я польщена и, конечно, очень волнуюсь, но прямо смотрю ему в глаза и стою спокойно, как ни в чем не бывало. Маяковский сразу спрашивает меня:
— Кто ваш любимый поэт?
Это было очень неожиданно. Такой прямой вопрос ошеломил меня, но я мгновенно поняла, что не отвечу ему — „вы“, и сказала спокойно:
— Уткин.
Тогда он как-то очень внимательно посмотрел на меня и предложил:
— Хотите, я вам почитаю свои стихи? Пойдемте со мной по моим делам и по дороге будем разговаривать.
Я согласилась. Забежала в библиотеку, под каким-то предлогом отпросилась с работы и ушла.
Маяковский ждал меня у выхода, и мы пошли по Софийке по направлению к Петровке. На улице было светло, тепло и продавали цветы. Маяковский держит себя красиво и торжественно — он хочет мне понравиться. Я шагаю рядом очень радостная. Я ведь иду с любимым поэтом, знаменитым человеком, очень приветливым, любезным и замечательно одетым. Я горда и счастлива. Это очень приятно вспоминать!
На Петровке мы зашли в кафе, там Маяковский встретился с Осипом Максимовичем Бриком. Знакомя нас и показывая на меня, Маяковский сказал:
— Вот такая красивая и большая мне очень нужна.
Маяковскому нравилось, что я высокая. Он всегда это подчеркивал. Уже как-то после кто-то из его знакомых увидел меня на улице и сказал Маяковскому, что уж не такая я высокая, как он рассказывал. Маяковский ответил:
— Это вы ее, наверно, видели рядом с очень большим домом.
В кафе Маяковский прочел Осипу Максимовичу новые стихи, которые должны были завтра напечатать в „Известиях“. Осипу Максимовичу стихотворение очень понравилось, и он ушел.
А Маяковский пригласил меня к себе в гости. Мы вышли из кафе и на извозчике поехали на Лубянский проезд. Я боялась Маяковского, боялась встретить кого-нибудь из госиздатовцев или вообще знакомых. На извозчиках в ту пору я не ездила. По дороге Маяковский издевался надо мной и по поводу Уткина, и по поводу моих зачетов. Он говорил:
— Вот кончите свой университет, а в анкетах все равно должны будете писать: образование низшее — окончила 1-й МГУ.
У меня с собой была книжка „Курс истории древней литературы“, и Маяковский чуть не выбросил ее за ненадобностью прямо на мостовую.
Приехали на Лубянский проезд в маленькую комнату, которую Маяковский назвал „Редакция ЛЕФа“. В комнате — письменный стол, телефон, диван, шкаф. В углу камин, а на нем верблюдик какой-то металлический.
Маяковский угостил меня конфетами и шампанским и действительно, как обещал, достал свои книжки и стал мне читать по книжке тихо, почти шепотом, свои стихи. Это было для меня так странно — Маяковский и шепотом! Читал он тогда „Севастополь — Ялта“, „Тамара и Демон“, а потом подарил мне книжку „Только новое“ и берлинское издание „Для голоса“ с автографом: „Наташе Маяковский“.
Потом он подошел ко мне, очень неожиданно распустил мои длинные косы и стал спрашивать, буду ли я любить его. Мне захотелось немедленно уйти. Он не стал спорить, взял из стола какие-то бумаги, и мы вышли.
На лестнице, этажом ниже, жил венеролог. Маяковский предупредил меня:
— Не беритесь за перила — перчаток у вас нету. — И потом, когда я стала часто бывать у него, он каждый раз не забывал напоминать об этом.
Начавшееся так необычайно в первый день знакомства романтическое свидание немного разочаровало меня в конце.
Я даже сказала об этом Маяковскому, когда мы вышли с ним на улицу.
— А вы, оказывается, обыкновенный человек…
— А что же бы вы хотели? Чтоб я себе весь живот раскрасил золотой краской, как Будда? — ответил он и сделал рукой такой жест, будто бы красит себе живот.
Но я ничего этого не хотела, и как только мы дошли до Лубянской площади, я вдруг вскочила в трамвай, крикнула „до свиданья“ и уехала».
Это его, наверное, сильно обидело — он лишний раз убедился, что с этими странными девушками новой породы, комсомолками и пуританками, не проходят приемы десятых годов: женщины времен «Бродячей собаки» — тоже, правда, не все, но большинство, — считали нормой и даже честью уступить притязаниям поэта. Роскошь их сражала, стремительность восхищала. Эти новые были другими: они стеснялись, когда им дарили цветы, и негодовали, когда на них набрасывались. Наташа Брюханенко была, что называется, из самых типичных представительниц — этот контраст яркой, праздничной внешности и строгих нравов его потом многажды поражал. Но до настоящего сближения (Наташа, впрочем, всегда повторяла, что «романа в полном смысле слова не было» и обещаний совместной жизни тоже) оставался год — они опять случайно встретились и после этого уже надолго не расставались, хотя в последние два года жизни Маяковского встречались реже.






