Маяковский. Самоубийство, которого не было Быков Дмитрий
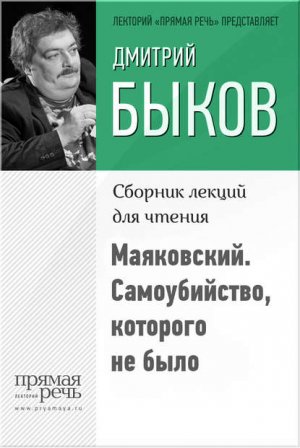
— Значит, нет никого? Совсем?
— Совсем никого.
— Здорово!
— А кто говорит?
— Ленин.
Трубка повешена. Маяковский долго не мог опомниться. Этот разговор я помню, вероятно, дословно, столько раз Маяковский тогда рассказывал об этом».
Разговор показательный: Ленина не взбесило отсутствие главных бюрократов, — а, напротив, восхитило. Он вообще любил всяческую самоорганизацию, не зря написал о ней «Великий почин», который Маяковскому очень нравился, поскольку соответствовал собственным его глубинным интенциям. Он с наслаждением цитировал в «Хорошо»:
- — Дяденьки!
- Что вы делаете тут —
- Столько больших дядей?
- — Что?
- Социализм —
- свободный труд
- Свободно собравшихся людей.
Ленинские оценки творчества Маяковского тоже широко известны и не слишком лестны. Мы уже цитировали подозрительные слова из горьковского очерка — подозрительные, впрочем, в обоих смыслах: не слишком уважительные и не особенно достоверные. Записка насчет «150 000 000» с предложением «Луначарского сечь за футуризм» содержит припечатывающее определение: «Вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность. По-моему, печатать такие вещи лишь 1 из 10 и не более 1500 экз. для библиотек и чудаков». Луначарский в своем ответе пытается защитить не столько себя, сколько Маяковского. Есть разные свидетельства насчет разговора Ленина с актрисой Гзовской, читавшей «Наш марш», — Крупская вспоминает, что Ленин был напуган ее напором и попросту вжимался в кресло, когда она наступала на него. Сама Гзовская говорит, что Ленин Маяковского не ругал, но посоветовал со сцены читать Пушкина. Не менее известен и его единственный положительный отзыв — о стихотворении «Прозаседавшиеся»: «Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики это совершенно правильно».
Советское литературоведение находилось в известном затруднении насчет полярных по сути оценок Ленина и Сталина, данных Маяковскому с тринадцатилетним интервалом. Ильич, в отличие от иудушки Троцкого и любимца партии Бухарина, литературной критикой после 1917 года почти не занимался, сделав исключения доя Джона Рида и Аверченко (в последнем случае роль стимула сыграла личная обида — Аверченко коснулся ленинского семейного быта, а этого Ленин не прощал). Российских и советских поэтов он хвалил редко: Демьян ему казался примитивным («идет за читателем, а надо впереди»), а Блока он просто не читал (если бы читал — страшно подумать, что сказал бы). Остальных, надо полагать, не открывал вовсе, Брюсова знал как организатора науки, а вообще мерил всех исключительно партийной принадлежностью (Куприн в ужасе вспоминал, как Ленин при единственной встрече его спросил: «Вы какой же партии?»). Надо заметить, он и до революции редко баловал читателя оценками поэзии, хваля, да и то с оговорками, разве что Некрасова. Новейшие поэты его не интересовали вовсе и представлялись сплошь декадентами, без внутренних различий. Сталин, в отличие от Ленина, был не прагматиком, а истинным диктатором, любил стихи и сам их сочинял в молодости; он-то в поэзии немного разбирался.
Поэма «Владимир Ильич Ленин» при своем появлении вызвала полярные и преимущественно прохладные оценки. Вот какова была свобода! Главный революционный поэт написал эпическую стихотворную биографию главного революционного божества, и рапповец Лелевич (один из многих гонителей Маяковского, кому не удалось уцелеть в 1937 году) в «Печати и революции» называл поэму «неудачной, но знаменательной», «рассудочной и риторичной». И он это предвидел, отлично все понимая:
- А где-ж душа?..
- Да это-ж — риторика;
- Поэзия где-ж? —
- Одна публицистика!..
«Высокая болезнь» Пастернака, — к которой в ЛЕФе как раз отнеслись иронически ввиду ее патетической невнятности и ценили лишь как отклик Пастернака на современность, — встретила при появлении куда большую доброжелательность. Бухарин назидательно цитировал ее 12 лет спустя на Первом съезде писателей — как первую попытку лирической ленинианы; понятное дело, большевикам хотелось, чтобы о них писали красиво. «Владимир Ильич Ленин» — совсем не то, чего ждали. Им хотелось поэтический памятник, а Маяковский, хоть и посвящает поэму «Российской коммунистической партии», решает сугубо личную задачу. Да, товарищи! Поэма «Про это», которую Лелевич противопоставляет «Ленину» как сочинение гораздо более искреннее и личное, на самом деле «по личным мотивам об общем быте», а «Ленин» — именно личная попытка объяснить себе самому, почему он, Маяковский, вечный ниспровергатель, «тринадцатый апостол» при любом мессии, вдруг так лоялен — да что там! — так восторженно принимает этого вождя?
Ведь в самом деле: Маяковский никогда не искал личной близости к власти, не держался за должности, не замечен в бюрократическом рвении. Луначарский, который в него просто влюблен и постоянно защищает его от наскоков, получает от него щелчки, как любой покровитель; покровительствовать Маяковскому нельзя, даже у Ленина не вышло бы, — но Ленин и не пробовал. Почему же тогда этот человек, несколько раз высказывавшийся о его поэзии непонятливо и обидно, страшно далекий от литературы, особенно в послереволюционные годы, — вызывает у Маяковского чувства столь нехарактерные, так ему несвойственные? Нам трудно представить этого грубого футуриста робким и нежным, трогательно заботливым в дружбе, — это еще допустимо, ибо в личных-то отношениях любой громила бывает ангелом, но Маяковский, восторгающийся политиком? Еще в 1923 году («Мы не верим!») он пишет о Ленине стихи выдающейся лирической силы — и это как раз не риторика, и повод тут личный — ленинская болезнь, правительственный бюллетень:
- Тенью истемня весенний день,
- выклеен правительственный бюллетень.
- Нет!
- Не надо!
- Разве молнии велишь
- не литься?
- Нет!
- не оковать язык грозы!
- Вечно будет
- тысячестраницый
- грохотать
- набатный
- ленинский язык.
- Разве гром бывает немотою болен?!
- Разве сдержишь смерч,
- чтоб вихрем не кипел?!
- Нет!
- не ослабеет ленинская воля
- в миллионносильной воле РКП.
- Разве жар
- такой
- термометрами меряется:
- Разве пульс
- такой
- секундами гудит?!
- Вечно будет ленинское сердце
- клокотать
- у революции в груди.
Вот это детское «Не надо!» — это уж никак не политическая риторика. И тема здесь опять-таки не только и не столько ленинская — это вечный, характернейший для Маяковского протест: природа не смеет класть предел человеческой воле, болезнь не властна над революцией и ее творцами, никакие законы — ни физические, ни биологические — не устоят перед сверхчеловечностью.
«Владимир Ильич Ленин» — отчаянная (и безнадежная, пожалуй) попытка объяснить себе самому, почему он, ниспровергатель и кощунник, добровольно и радостно признает над собой власть этого человека, почему хочет стать солдатом этой армии. Автор и сам озадачен:
- Отчего ж,
- стоящий
- от него поодаль,
- я бы
- жизнь свою,
- глупея от восторга,
- за одно б
- его дыханье
- отдал?!
В самом деле, сравним:
- Слушайте ж:
- все, чем владеет моя душа,
- — а ее богатства пойдите смерьте ей! —
- великолепие,
- что в вечность украсит мой шаг,
- и самое мое бессмертие,
- которое, громыхая по всем векам,
- коленопреклоненных соберет мировое вече, —
- все это — хотите? —
- сейчас отдам
- за одно только слово
- ласковое,
- человечье.
Это «Дешевая распродажа», 1916 год.
А восемь лет спустя всё, и богатства, и самое бессмертие, отдается уже не за «человечье слово», а за одно дыханье конкретного «самого человечного человека». В самом деле, парадокс: ради него-то и написана вся поэма. Потому что — ну самому же непонятно!
Не для того он писал «Ленина», чтобы разагитировать пролетария: пролетарий за Ленина сам кого хочешь разагитирует. Маяковскому важно понять, почему он сам, ни с какой массой отродясь не сливавшийся, выламывающийся даже из коллектива единомышленников, с таким горячим энтузиазмом вливается в ряды ленинской армии: это что же, он утратил наконец ту самую «ин-ди-ви-ду-альность», за которую его столько костерили? Но ведь революцию, кажется, не за тем делали, чтобы революционеры утрачивали индивидуальность? Во всяком случае признать безликость главной добродетелью советского человека Маяковский не согласился бы и в страшном сне. Но тогда почему он посвящает поэму — партии, а сам делает главной темой произведения именно «новое причастие»: «Сильнее и чище нельзя причаститься великому чувству по имени „класс“»? Ведь поэма — про это, а не про Ленина: про Ленина и так все известно. «Коротка и до последних мгновений нам известна жизнь Ульянова». «Ленин» — и есть настоящее «Про это»: та любовь, которая не обманет, которая не утонет в быте и не будет опошлена канарейками. Собственно, это в некотором смысле вторая часть поэтической дилогии «Про это» — про то, как любовь в конце концов неизбежно иссякает и оказывается поругана. А «Ленин» — про ту любовь, которая не ржавеет; про то, что приходит на место любви частной, «личной и мелкой». Личное счастье не состоялось — говоря по-блоковски, «обманула та мечта, как всякая мечта». Любовь в идеале — избавление от индивидуальности, растворение в другом; так вот, главная тема Маяковского в 1923–1925 годах как раз и есть крах частной утопии. «Вот и любви пришел каюк, дорогой Владим Владимыч». Он долго обожествлял Лилю, ставил на любовь, пожалуй, слишком много — но «эта лошадь кончилась», как всякая лошадь. Можно сохранять внешнюю оболочку, мертвую, сухую, — подписываться «щеном», нанизывать эпитеты к «лисячьему детику кису», рыцарственно служить; но в 1923 году что-то навсегда надломилось, и Маяковский, болезненно чуткий к любым катастрофам, вообще ко всему роковому и трагическому, — иллюзий не питает. Лиля в поэме ничего не поняла (да и кто бы понял?), а это был реквием.
«Владимир Ильич Ленин» в этом смысле противопоставлен поэтическому мейнстриму двадцатых. Большинство — пусть «симпатическими чернилами» — писало о своем разочаровании в революции, которая ушла в быт, поругана нэпом и на глазах омещанивается. Люди уходят в личную утопию — именно потому, что не состоялась общественная; это Маяковскому ненавистнее всего. «Кто воевал — имеет право у тихой речки отдохнуть»: Иван Молчанов ведь той же породы, тоже по-своему разочарован, просто у него все пошлее, чем, допустим, у героини толстовской «Гадюки». Маяковский делает ровно наоборот: поскольку в семье бессмертие оказалось недостижимо (не удалось избавиться от личности, которая и есть — смертность), он растворяется в «великом чувстве по имени класс». Или, как сам он сформулировал: «Я ж с вершин поэзии бросаюсь в коммунизм, потому что нет мне без него любви» — или, называя вещи своими именами, потому что всякая другая любовь обречена. А с пролетариатом есть надежда — и на растворение, и на бессмертие, и на вечную, недосягаемую в жизни верность. Так один предмет культа сменился на другой, одно рыжее скуластое существо — на другое, столь же недосягаемое, вечно предпочитающее других. «Поэт всегда должник Вселенной», — уверял Маяковский три года спустя; добавим — поэт всегда служитель культа, и чем безнадежнее служение, тем больше лирических стихов о трагической любви можно из него добыть.
Если тебе изменила жена, радуйся, что она изменила тебе, а не Отечеству, писал его любимец Чехов; сколь же радостнее прекрасное вне тела, писал его наследник Бродский! Как сладостно любить Отечество! — он еще думал тогда, что оно не изменит.
Ну-ну.
Глубокая личная тема появляется в самом начале поэмы: сравнение человека с лодкой у Маяковского одно из любимейших и интимнейших. Тут и «В порту» («В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей»), и «Военно-морская любовь» («По морям играя носится с миноносцем миноносица»), и «Разговор на рейде», и предсмертное «Любовная лодка разбилась о быт». Жизнь — море, человек — пароход: «Много всяких разных ракушек налипает нам на бока». Ленинская тема — последняя и решающая попытка очиститься перед новым рывком, новым плаваньем. Знаменитое «Я себя под Лениным чищу» — где Ленин становится чем-то вроде солнца («Сядешь, чтобы солнца близ»), — сказано коряво и неуклюже, а на грубый вкус и двусмысленно («под Лениным»!!!), — но Маяковский не особенно заботится о гладкописи.
«Ленин» — вещь, дышащая свежей обидой: упреки и насмешки в адрес «семьи» — на каждом шагу. «Нравимся своей жене — и то довольны донельзя». «Я буду писать про то и про это», — прямая полемическая отсылка к предыдущему опусу, — «но нынче не время любовных ляс». И в центре поэмы — грубая отповедь отдельному человеку, надеющемуся сохранить свою отдельность в этот ужасный век масс:
- Единица! —
- Кому она нужна?!
- Голос единицы
- тоньше писка.
- Кто ее услышит? —
- Разве жена!
- И то
- если не на базаре,
- а близко.
(Разумеется, где жена — там базар: семантический ряд неизменен.)
И, естественно, — «Я счастлив, что я этой силы частица»: личное наконец исчезло, все тяготившее — отброшено. «Я счастлив. Звенящего марша вода относит тело мое невесомое». Чистый оргазм — хотя, конечно, заверять «я счастлив» в апогее самой скорбной части поэмы несколько рискованно; но это и есть высшая точка скорби — ее превращение в высшее счастье полного слияния с миллионами.
В остальном, конечно, произведение чудовищное.
Можно понять недоумение современников: даже со стороны формальной, — где он давно уже не знает равных, изобретает фантастические рифмы, разит врага каламбурами, — поэма вышла чрезвычайно бедной: метафоры на уровне «Окон РОСТА», буржуи жирные — и только, пролетариат тощий — и всё. Образов ноль, случаются рифмы «зубами» — «штыками», «прорва» — «прорвана», «пломба» — «бомба», некоторая выразительность достигается лишь в третьей части — которая вся, в сущности, плач по «любимому и милому». И здесь, стараясь всеобщую скорбь превратить в личную, интимно пережить всероссийскую и всепролетарскую трагедию, Маяковский впадает в предсказуемые бестактности: мертвые коммунары у него шепчут Ленину: «Любимый и милый!» Господи, ну какой милый? Это слово к нему наименее применимо, и поневоле опять подивишься, до чего они с Есениным были, в сущности, едины, при всех противоположностях. «Застенчивый, простой и милый» — это ведь из есенинского фрагмента о Ленине, еще более бездарного, чем две трети поэмы Маяковского. Можно представить, в каком ужасе был бы Ленин от этой скорбной третьей части с ее гиперболами — и от первых двух с их лобовыми агитками, с негром, призывающим Ильича-мстителя, с коллективными стонами китайцев и британцев. Но Маяковский, повторяем, писал «Ленина» не ради агитации, не ради подтверждения собственной лояльности, не для того, чтобы занять господствующее положение в пролетарской литературе. Правда, одна личная цель — сведение счетов с еще живым Савинковым — реализована: в последних числах октября 1917-го («Это было в дни наступления Краснова на Петроград», вспоминает Тамара Миклашевская-Красина) Маяковский в «Привале комедиантов» встретился с Савинковым. Тот его высокомерно спросил: «А вы, молодой человек, почему же не на фронте?» Маяковский был еще в солдатской тужурке, но уже без нашивок. «Потому что я больше не солдат, а поэт», — ответил он. Савинков кокетничал перед Ольгой Глебовой-Судейкиной: за ним приехала машина, явился адъютант, Ольга просила: «Не уезжайте». — «Вы приказываете?» — спросил Савинков и отослал машину. В поэме о Ленине ему достается:
- И в довершение
- пейзажа славненького,
- нас предававшие
- и до
- и потом,
- вокруг
- сторожами
- эсеры да Савинковы,
- меньшевики —
- ученым котом.
Но в целом корыстных и прикладных задач у Маяковского нет — есть одна: объяснить себе, каким образом он из бунтаря превратился в солдата-ленинца. И потому главное в поэме (что в советских перепечатках, в тридцатые — сороковые, из нее как раз убиралось по причинам слишком очевидным) — вот:
- Если б
- был он
- царствен и божествен,
- я б
- от ярости
- себя не поберег,
- я бы
- стал бы
- в перекоре шествий,
- поклонениям
- и толпам поперек.
- Я б
- нашел
- слова
- проклятья громоустого,
- и пока
- растоптан
- я
- и выкрик мой,
- я бросал бы
- в небо
- богохульства,
- по Кремлю бы
- бомбами
- метал:
- долой!
В это, конечно, слабо верится — но почему бы и не допустить, что сравнительно ранний, революционный Маяковский в самом деле восстал бы против вождизма? Так-то, в личной практике, что особенно печально, он из всех наркомов нападал только на Луначарского, точно зная, что ничего не будет; когда началась травля Троцкого — он в ней никак не поучаствовал, но не потому, что высоко чтил Троцкого (никаких свидетельств в пользу этого у нас нет), и не потому даже, что не хотел быть сто первым в этой травле (мы не помним случая, чтобы он выступал в защиту травимых), а потому, что уважал вождей и ни об одном из них не сказал плохого слова. Мало ли, сегодня травят, завтра славят — он уже понимал, что партия меняет фаворитов, как Лиля, если не быстрее, и спорить с ней по этому поводу так же бессмысленно, как с Лилей. Иное дело, что ожидать от Маяковского особого вождеборчества тоже не приходится: это он Богу может говорить — «раскрою отсюда до Аляски», а с реальными земными богами вполне уважителен. Мертвого пнуть — это да, бывало (хотя в 1928 году он как раз попытался защитить мертвого императора, сказав в черновике: «Коммунист и человек не может быть кровожаден», — но это так и осталось в записной книжке); вообще же обещание «метать бомбами по Кремлю» стоит счесть чистейшей гиперболой. Ни до, ни после семнадцатого года он по Кремлю бомбами не метал, присоединяясь к революции уже постфактум; видимо, он действительно мало верил в Бога, считая, что уж за богоборчество точно ничего не будет, а насчет Кремля еще неизвестно.
Для поэта, сколь это ни странно звучит, естественно искать союза с властью — прежде всего потому, что поэзия существует в мире иерархий. Понимать главенство, уделять внимание первостепенному — для нее естественно; и сколь ни горько в этом признаваться, соблазн «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» для поэта вечно актуален. Пушкин пишет «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину» — и вполне искренен в этом; Мандельштам пытается жить, «дыша и большевея»; Пастернак сочиняет «Стансы», а уж сколько сегодняшних литераторов поспешили поприветствовать русский Крым и проклясть недавних братьев-соседей, без всякой корысти, без малейшей личной выгоды! И все они — недурные поэты, и в этом качестве отличают верх от низа, и потому присоединение Маяковского к большинству — акт понятный и в каком-то смысле высокопоэтический.
Иное дело, что в таком веке, как двадцатый, с иерархиями — что эстетическими, что политическими — надо обращаться крайне осторожно; но поэзия и должна брать на себя главные соблазны эпохи — чтобы остальные, внимательно глядя на поэтов, могли от них воздерживаться.
ТРИ СОЛНЦА
В классической статье 1937 года «Статуя в поэтической мифологии Пушкина» друг Маяковского и один из основателей ОПОЯЗа Роман Якобсон разбирает три пушкинских текста (все три написаны в Болдине): «Каменный гость» (1830), «Медный всадник» (1833) и «Сказка о золотом петушке» (1834). Сюжетную схему всех трех сочинений Якобсон обобщает так: «Усталый, смирившийся человек мечтает о покое, и этот мотив переплетается со стремлением к женщине. Статуя, вернее существо, неразрывно связанное с этой статуей, обладает сверхъестественной, непостижимой властью над желанной женщиной. После безуспешного бунта человек гибнет в результате вмешательства статуи, которая чудесным образом приходит в движение; женщина исчезает». Еще один важный лейтмотив, прослеженный Якобсоном, — стремление самого героя принять облик статуи, сделаться таким же холодным и неподвижным («Царствуй лежа на боку!»).
Маяковский, видимо, действительно жил в напряженном диалоге с Пушкиным, как свидетельствует «Юбилейное». Будучи близким другом Якобсона — а это значимо, учитывая малое количество подлинных, взаимно уважительных дружб в его биографии, — он вполне мог вести с ним разговоры об оживших статуях, а мог и подсказать ему эту идею, поскольку «Юбилейное» варьирует эту тему. Не исключено, что Маяковский втайне считал себя поэтической реинкарнацией Пушкина — параллели с его поэтической судьбой прослеживаются у него часто, он признается в любви его цитатами и бравирует знанием наизусть всего «Онегина», — и трудно сказать, насколько это намеренно, однако у него тоже три стихотворения, в которых неодушевленный предмет оживает, чтобы вступить в диалог с автором. Эти три текста, во многом родственных, — «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче» (1920), «Юбилейное» (1924) и «Разговор с товарищем Лениным» (1929). Последние два стихотворения — действительно юбилейные, к 125-летию Пушкина и к пятилетию смерти Ленина. Сама ситуация «Необычайного приключения» вызывающе — и тут уж явно осознанно — дублирует фабулу «Каменного гостя»:
- Я крикнул солнцу:
- «Погоди!
- послушай, златолобо,
- чем так,
- без дела заходить,
- ко мне
- на чай зашло бы!»
Сравним:
- Я, командор, прошу тебя прийти
- К твоей вдове, где завтра буду я,
- И стать на стороже в дверях. Что? будешь?
Изначальное несходство ситуаций прежде всего в том, что Дон Гуан перед Командором явно виноват, а Маяковский перед солнцем ни в чем не провинился; однако в обоих случаях перед нами демонстративное кощунство. Трудно сказать, что так взбесило Маяковского-героя в «Необычайном приключении» — то ли жара, то ли сам ненавистный ему изначально ход вещей, постоянство календаря и дневного распорядка; и уж, конечно, приглашение на чай с вареньем куда любезнее обращения к убитому мужу, с тем чтобы он «стал на стороже», пока убийца будет соблазнять его вдову. Соответственно и результат получается противоположный: Командор является, чтобы забрать Дон Гуана в преисподнюю, — а солнце наносит Маяковскому визит, чтобы упрочить его земные позиции:
- Про то,
- про это говорю,
- что-де заела Роста,
- а солнце:
- «Ладно,
- не горюй,
- смотри на вещи просто!
- А мне, ты думаешь,
- светить
- легко?
- — Поди, попробуй! —
- А вот идешь —
- взялось идти,
- идешь — и светишь в оба!»
- <…>
- И скоро, дружбы не тая,
- бью по плечу его я.
- А солнце тоже:
- «Ты да я,
- нас, товарищ, двое!
- Пойдем, поэт,
- взорим,
- вспоем
- у мира в сером хламе.
- Я буду солнце лить свое,
- а ты — свое, стихами».
По воспоминаниям Лили Брик, в 1916 году Маяковский написал поэму «Дон Жуан», принялся ей читать, но она отозвалась скептически — «Опять про любовь!» — и он порвал листки и пустил их вдоль улицы Жуковского. Правда, потом она заметила некоторые строчки из этой вещи во «Флейте-позвоночнике» (название которой, в общем, так же случайно, как и вынужденное «Облако в штанах»), — у поэта ничего не пропадает. (Якобсон утверждал, что в текст «Флейты» попали только отдельные строки, а замысел был совсем другой — сюжетная поэма про Дон Гуана, нашедшего настоящую любовь в самом конце, перед смертью.) Как бы то ни было, Дон Гуан — разумеется, пушкинский, — занимал его воображение, и вот он совершил истинно дон-гуановский поступок — зазвал солнце в гости на дачу. Любопытно, что у Маяковского в это время была и своя «Бедная Инеза» — Антонина Гумилина, покончившая с собой в 1918 году. Как уже говорилось, о ее самоубийстве он отозвался равнодушно, чуть не презрительно: «Ну как от такого мужа не броситься в окно…» Реплика о муже тоже неявно отсылает к «Каменному гостю»:
- Муж у нее был негодяй суровый,
- Узнал я поздно… Бедная Инеза!..
Почему всякий Дон Гуан обязан не только покорить (и разбить) сотни женских сердец, но и обязательно совершить громкое, демонстративное, отважное кощунство? Потому что в нем его единственное моральное оправдание: не просто гедонист, каким его рисуют недоброжелатели, не развратник, а поднимай выше — разрушитель устоев мироздания! И мироздание в случае Маяковского вполне одобряет такую дерзость. Прежний, дореволюционный Маяковский — Хлебников в письме Шкловскому это подчеркивает — ни за что не стал бы гонять чаи с солнцем: «Ненависть к солнцу!» Ссылается он при этом на строчки из пролога «Владимира Маяковского»: «Пухлыми пальцами в рыжих волосиках солнце изласкано вас назойливостью овода — в ваших душах выцелован раб. Я, бесстрашный, ненависть к дневным лучам понес в веках». Солнце двадцатого года — совсем другое: никаких пухлых пальцев, никакого назойливого овода — свой брат, товарищ, чуть не коллега по РОСТА. Любопытно, что двум из трех великих собеседников — Солнцу как таковому и Солнцу русской поэзии — Маяковский предлагает работу: Солнце помогает ему в общем деле просвещения, а Пушкину найдется дело в ЛЕФе и рекламе.
- Были б живы —
- стали бы
- по Лефу соредактор.
- Я бы
- и агитки
- вам доверить мог.
- Раз бы показал:
- — вот так-то, мол,
- и так-то…
- Вы б смогли —
- у вас
- хороший слог.
- Я дал бы вам
- жиркость
- и сукна,
- в рекламу б
- выдал
- гумских дам.
- (Я даже
- ямбом подсюсюкнул,
- чтоб только
- быть
- приятней вам.)
Кажется, только колоссальный пиетет — плюс уже усвоенная, почти религиозная интонация, — мешает ему обратиться с подобным заявлением к третьему солнцу, к Ленину: давайте, мол, Владимир Ильич, возвращайтесь, кругом много мерзавцев, будем громить вместе… Заметим, что еще в 1924 году Маяковский мог представить Ленина рядом с собой, допустить почти фамильярное сравнение: «Скажем, мне бильярд — отращиваю глаз, шахматы ему — они вождям полезней». В 1929-м перед нами в чистом виде разговор с божеством, которое никогда не вернется, и разговор с ним возможен только заочный.
Почему солнце перестало быть враждебным? Потому что теперь, пишет Шкловский, Маяковскому есть с кем поговорить. После революции — не навсегда, но по крайней мере на первые пять лет, — мир стал дружелюбен, старье устранено, и Вселенная, которая только что безмолвствовала в ответ на самые яростные призывы — «Вселенная спит, положив на лапу с клещами звезд огромное ухо», — теперь отозвалась: «Ко мне, по доброй воле…» Раньше он кричал — «Эй, небо! Снимите шляпу! Я иду!» — и все было глухо; теперь солнце идет к нему чаи гонять, отвлекаясь от повседневных обязанностей, потому что все радикально изменилось. Что называется, достучались до небес. В двадцатом году Маяковский искренне верит, что мироздание на его стороне, и они с солнцем — коллеги.
Обращаясь четыре года спустя к статуе Пушкина, он далеко не столь оптимистичен. Во-первых, герой пережил разрыв; во-вторых, кончилась та самая РОСТА, которую он вроде бы и ненавидеть был готов — но вместе с тем она давала ему важнейшую и любимейшую идентификацию, была его вкладом в общее дело, гарантировала «место поэта в рабочем строю». Так что признание: «Я теперь свободен от любви и от плакатов» — выдает не новую степень внутренней свободы, не готовность начать с чистого листа, а глубочайшую внутреннюю опустошенность. Вообще, если уж говорить о свободе, то зацитированное: «Можно убедиться, что земля поката — сядь на собственные ягодицы и катись!» — как раз отсылает к фольклорному «катись колбаской по Малой Спасской»: «свободен» — в смысле «пошел отсюда». «Юбилейное» — удивительно мрачное сочинение, переломное во всем корпусе лирических стихов Маяковского: дальше — если отбросить газетчину — темы одиночества, ненужности, бесполезного противоборства ничтожествам будут только нарастать. Вспомним, о чем заходит речь в этом подчеркнуто неюбилейном обращении, звучащем как горькая жалоба старшему товарищу (кстати сказать, и в «Необычайном приключении» Маяковский поначалу жалуется, получая в ответ универсальное: «Смотри на вещи просто»). Сначала — стон вместо стука в грудной клетке. Там поселился львенок, усмиренный до состояния щенка, — метафора откровенная. Цель, с которой Маяковский заставляет Пушкина сойти с пьедестала, до конца остается неясной: «разговаривать не хочется ни с кем» — и тут же «давайте мчать, болтая»? «Не навяжусь в меланхолишке черной» — и тут же: «Я тащу вас»? Так противоречить себе можно только в крайнем смущении, когда не решаешься признаться в истинной цели визита; из стихотворения, впрочем, эта истинная цель делается ясна — речь именно о том, чтобы застолбить место рядом с Пушкиным, вписать себя в общий контекст.
К 1924 году положение Маяковского в русской поэзии двусмысленно: сильнейшие конкуренты умерли, убиты или уехали, равняться не с кем, а сам он прочно записан критикой в агитпоэты, и лучшая из поэм — «Про это» — глухо ухнула, не получив ни внятной интерпретации, ни достойной оценки. Маяковскому тридцать один — время, когда пора определяться со статусом. Отсюда — дерзкое «у таких, как мы» (кто — МЫ?!), и «после смерти нам стоять почти что рядом». Но помимо своего права на прямой (временами панибратский) разговор с Пушкиным — чего ради он все-таки оживил статую? «Юбилейное» не по-маяковски сбивчиво: обычно архитектоника его стихов логична, риторика безупречна, а тут он сбивается на каждом шагу, начал тему — бросил, словно в припадке внезапной застенчивости. «Но бывает — жизнь встает в другом разрезе, и большое понимаешь через ерунду»: это о чем и к чему, собственно? Наскоки на лирику были напрасны, «поэзия — пресволочнейшая штуковина, существует — и ни в зуб ногой», — но чем иллюстрируется этот тезис? Тем, что аббревиатура «Коопсах» — кооператив рабочих и служащих сахарной промышленности Москвы — неблагозвучна? Это вы еще не видели рекламного плаката «Коопсаха», на котором сахарная голова, вертикально возвышающаяся перед зрителем, до боли напоминает страшно сказать что в состоянии полной боеготовности, но поэзия тут при чем? Дальше предлагается выпить (хотя Маяковский отнюдь не имел привычки «с горя дуть винище», да и Пушкин в зрелые годы им отнюдь не злоупотреблял), повторяется жалоба на полную опустошенность («Вот когда и горевать не в состоянии — это, Александр Сергеич, много тяжелей»), а дальше — смутный намек на критическую травлю с неожиданной стороны. Та самая республика, которой Маяковский щедро приносит в дар все свои способности, — начинает упрекать его в индивидуализме: «Говорят, я темой и-н-д-и-в-и-д-у-а-л-е-н!» Он оправдывается: «Видали даже двух влюбленных членов ВЦИКа!» То есть без индивидуализма и любви — и поэзии, которая «существует, и ни в зуб ногой», — никак не получается, новая страна без них не строится, а то, что построилось в результате, Маяковского изумляет и смущает. «Хорошо у нас в Стране Советов: можно жить, работать можно дружно… Только вот поэтов, к сожаленью, нету. Впрочем, может, это и не нужно».
Но если это не нужно — для чего тогда все? Вспомним, ведь для Маяковского революция — прежде всего эстетический проект, бунт художников, триумф искусства, как оно и было изначально. А тут выясняется, что нет места тому единственному, что для него имеет смысл! И причина, разумеется, не в том, что кончилась любовь и он теперь ощущает себя всюду неуместным: это скорее любовь кончилась потому, что не состоялся великий утопический проект, что быт торжествует, что индивидуальность прежде была травима, а теперь вообще отменена. Маяковский жалуется Пушкину, потому что больше его выслушать некому; никогда в жизни он не высказывался так резко о конкретных современниках — отвергнув практически всех, с особой жестокостью отомстив Есенину за «Сыпь, жарь, Маяковский бездарь». Ситуация здесь — если все рассматривать в контексте «ожившей статуи» — радикально изменилась: Дон Гуан зовет командора, чтобы пожаловаться на одиночество и непонимание. И командор, надо сказать, принимает эти жалобы без раздражения. Вообще сквозная тема всех трех обращений Маяковского к Верховной Инстанции — будь то Ленин, Пушкин или само Солнце — это поиск собственной легитимности поверх голов современников, жажда высшего одобрения вне контекста сиюминутных разборок. Собственно, время всегда было единственным союзником Маяковского — в настоящем ловить нечего, акценты расставит будущее: «Время! Хоть ты, хромой богомаз…» — потому что сегодня он одинок, «как последний глаз», и, кроме времени, надеяться не на кого.
И в пушкинском случае, и во всех трех обращениях Маяковского речь идет о расплате, — но если у Пушкина мироздание (руками своего страшного представителя) наказывает протагониста за дерзость, у Маяковского, напротив, только от верховной власти и дождешься одобрения, потому что бесконечные и самодовольные посредники ни в жисть не скажут поэту доброго слова. Он слишком для них велик. Конечно, лейтмотив прежний — «Какими Голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный?» — но этот современный Голиаф только и может дождаться одобрения и защиты от такого же большого (и такого же ненужного, как подчеркивается в «Юбилейном»: «Может, я один действительно жалею, что сегодня нету вас в живых»). Поверх барьеров, поверх голов обратиться к главному источнику правды и самой жизни, — чтобы получить от него одобрение и призыв к дальнейшему творчеству, — вот сквозной сюжет всех трех текстов, формально сходный с пушкинским, но противоположный ему по вектору.
Если бы «Каменного гостя» дописывал Маяковский, — как Брюсов дописал «Египетские ночи», — Командор, по его логике, должен был бы сказать: давай, поэт, жарь дальше, покажи им всем, что такое настоящая любовь!
Трагические обертона появляются у этой темы и в «Юбилейном» — потому что очень уж жалка современность и унизителен ее гнет, — но по-настоящему звучат в «Разговоре с товарищем Лениным». Любопытно сравнить эту вещь — последний текст ленинианы Маяковского, — с поэмой 1924 года. Выше мы эту поэму подробно разбирали и показали, что скорбь Маяковского по Ленину в известной степени связана со страхом перед новыми временами: уходит тот, кто создал новый мир, оставляя поэта наедине с людьми совсем другого калибра. Ленин был — несмотря на свою ругань в адрес «150 000 000» — покров и защита; от Ленина «и хула — похвала». С ним Маяковский чувствует нечто вроде кровной связи, глубинного родства, и в самом деле — ленинское презрение к быту, ненависть к государству роднят их двоих, и как знать, не вдохновлялся ли Маяковский в строительстве собственной уникальной семьи слухами о тройственном союзе Ленина — Крупской — Арманд? (Источник вдохновения в семейном вопросе у них уж точно общий — «Что делать?».) «Разговор с товарищем Лениным» исполнен в традиционном жанре обращения к небесному покровителю; что символично, он еще и тезка — тоже Владимир. Маяковский и здесь пытается воззвать к Ленину — но уже не в надежде на сотрудничество (как с Пушкиным и Солнцем); ему он, конечно, не осмелится предложить «жиркость и сукна». Речь о посмертной защите — что-то вроде булгаковского «укрой меня своей чугунной шинелью».
- А рядом с этим,
- конешно,
- много,
- много
- разной
- дряни и ерунды.
- Устаешь
- отбиваться и отгрызаться.
- Многие
- без вас
- отбились от рук.
- Очень
- много
- разных мерзавцев
- ходят
- по нашей земле и вокруг.
Мерзавцы, впрочем, специфические — всё это никак не представители народа, не люди из большинства. В основном Маяковский жалуется Ленину на начальство, которое «отбилось от рук», — ясно же, что непосредственных контактов с Лениным у подавляющего большинства граждан не было. Далее Маяковский рисует портрет классического бюрократа — пролетарии, чай, ручек в нагрудных карманах не держали, значков не надевали:
- Ходят,
- гордо
- выпятив груди,
- в ручках сплошь
- и в значках нагрудных…
- Мы их
- всех,
- конешно, скрутим,
- но всех
- скрутить
- ужасно трудно.
(И, добавим, это не самая его любимая работа — «скручивать»; Маяковский предпочитал что-нибудь более созидательное, хотя всегда отзывался о работе чекистов с исключительным уважением.)
Кстати о ручках, раз уж зашла речь об этом атрибуте не столько даже благосостояния, сколько сановитости; не исключено, что здесь Маяковскому вспоминается разговор с эстрадником-фельетонистом (и выдающимся библиофилом) Николаем Смирновым-Сокольским. Ему Демьян Бедный к 30-летию подарил роскошное механическое перо с выгравированной дарственной надписью. Сокольский, зная слабость поэта к хорошим перьям, показал ему подарок и в качестве ехидного утешения пообещал: ничего, Владимир Владимирович, и вам такую же надпишут…
— А мне кто ж надпишет? — ответил Маяковский молниеносно. — Шекспир умер.
Тема шутки, в сущности, та же — апелляция к товарищу по вечности, к будущему соседу по пантеону поверх голов бедных современников. Правда, Шекспира загнали «куда-нибудь на Ша», но что значат 12 букв и четыре века в масштабе таких собеседников!
Если в поэтическом мире Пушкина над героем — и автором — всегда висит расплата, то лирический герой Маяковского всегда уверен в конечной справедливости, в том, что будущее правильно расставит акценты — и ради этого стоит терпеть настоящее. Золотой петушок, срываясь со спицы, прилетает клюнуть не Дадона, а его противников; мироздание — не грозный враг, а тайный союзник. Маяковский сомневался во всем, только не в будущем: оно-то ему воздаст, как это и происходит в последней поэме. Он апеллирует к будущему всегда, когда терпит поражение в настоящем. Подмеченная Якобсоном мечта о покое трансформируется в мечту о смерти, которая одна знает правду и приготовит поэту достойный пьедестал; у Пушкина, при всем его сознании собственного величия, этой мысли нет, и покупать правоту такой ценой он не готов.
Что до «женщины», которая присутствует во всех трех сюжетах у Пушкина, — у Маяковского в самом деле «женщина исчезает», потому что в качестве подразумеваемого объекта желания везде, как и положено на концерте, присутствует публика. Это ею автор пытается овладеть, это она, уже покоренная Солнцем, Пушкиным и Лениным, должна теперь прибавить его к этому ряду. В полном соответствии с якобсоновской догадкой в момент смерти публика исчезает — потому, рискнем добавить, что бессмертному она не нужна.
СОВРЕМЕННИКИ: ХОДАСЕВИЧ
С Ходасевичем вышло совсем нехорошо.
3 июля 1923 года в Малом зале консерватории проходил диспут «ЛЕФ и марксизм». Маяковского на нем не было, хотя имя его постоянно упоминалось и стихи цитировались. Против ЛЕФа выступал главный редактор ГИЗа Николай Мещеряков. Он утверждал, что книжки лефовцев не продаются. Ему возражал напостовец Семен Родов: «Конечно, Ходасевич имеет 5 тысяч буржуев, которые купят его книжку и положат неразрезанной на стол!»
Почему Родов напал на Ходасевича, уже два года как уехавшего, понятно: у них своя история отношений, изложенная Ходасевичем в очерке «Господин Родов». Он знал будущего пролеткультовца начинающим еврейским стихотворцем, помнил его поэму «Октябрь», пронизанную ненавистью к революции и впоследствии перелицованную, уже в одически-гимническом духе. Родов ненавидит Ходасевича именно потому, что тот много про него знает. Вот откуда попытки использовать любой шанс, чтобы его уязвить, хотя бы и заочно.
Но не одна жажда мести двигала Родовым. Ходасевич тут упомянут как сознательный, опасный антипод Маяковского. И можно ли найти явления более полярные, чем Ходасевич и пролетарская культура, о которой шел главный спор? Но нет. «Знать, какое-то общее лихо приковало железным кольцом к драной пятке бегущего психа взгляд царя под лавровым венцом. Знать, бессилье — всесилию ровня, так и сводят друг друга с ума», — как писал другой поэт по другому поводу.
Но вот и Шкловский туда же: в одной из лучших книг, когда-либо написанных о Маяковском, он цитирует стихи Ходасевича 1914 года — шуточный текст «Из мышиных стихов», напечатанных в «Аполлоне». У Ходасевича действительно есть большой мышиный цикл, посвященный второй жене Анне Чулковой, которую он в домашнем обиходе называл Мышь, Мышонок, Бараночник или Пип.
«Мы сейчас не занимаемся, конечно, Ходасевичем. Пусть будет мертв. Его подполье все же было попыткой не в лоб писать, не славить вместе с другими».
(Хотя Маяковский-то написал не только «Войну и мир», не только «Маму и убитый немцами вечер», но и цикл ура-патриотических плакатов, которые как раз Ходасевич припомнил ему в памфлете-некрологе.) Ходасевич в 1940 году, когда вышла книга Шкловского, был и без разрешения автора уже год, как мертв. И тем не менее его, к тому времени почти забытого на родине, не публикуемого здесь с середины двадцатых, — почему-то надо было вспомнить, причем в положительном контексте. Вот не славил вместе с другими, сопротивлялся, хоть и в мышином масштабе — столь же демонстративно-мышином, сколь демонстративна и гигантомания Маяковского. Снова эти крайности сходятся.
Ходасевич, которого с Маяковским внешне ничто, кроме очень шапочного знакомства, не связывало, дважды подставился, посвятив ему совершенно неприличные даже по футуристическим скандальным меркам статьи, написанные ровно в том стиле — если не хлеще, — в каком Маяковский разделывался с литературными противниками. Первая написана при жизни, и в ней он начисто отказывал Маяковскому в таланте; вторая — некролог, о котором с негодованием отозвался Якобсон: «Несравненно тягостней, когда помои ругани и лжи льет на погибшего поэта причастный к поэзии Ходасевич. Он-то разбирается в удельном весе — знает, что клеветнически поносит одного из величайших русских поэтов. <…> Ведь это — самооплевывание, это пасквили висельника, измывательство над трагическим балансом своего же поколения. Баланс Маяковского — „я с жизнью в расчете“; плюгавая судьбенка Ходасевича — „страшнейшая из амортизаций, амортизация сердца и души“».
«Плюгавая судьбенка» — не то еще оскорбление, слыхивал Ходасевич и похлеще; а вот «причастный к поэзии» — это уже наотмашь. О Ходасевиче, которого Набоков назвал прямым наследником Пушкина по тютчевской линии, который не без оснований полагал себя первым поэтом эмиграции, сказать «причастный» — месть жестокая, хотя и не сказать, чтобы вовсе не заслуженная. Его эпитафия Маяковскому в самом деле за гранью «добрых нравов литературы», здесь чувствуется глубочайшая личная обида — что, казалось бы, Ходасевичу в Париже до Маяковского, и если он в самом деле так поэтически ничтожен, откуда эта кипящая желчь? «Нет, Родион Романыч, тут не Миколка»; тут что-то личное, усугубленное, как ни странно, глубоким сходством, пожалуй даже, что и родством. Николай Богомолов — автор одной из немногих статей о взаимоотношениях Маяковского и Ходасевича («Из истории одного культурного урочища русского Парижа», 2006) — сам говорит: «Разговор об отношениях Маяковского и Ходасевича, который в той или иной форме уже начинался, но так, кажется, нигде и не был проведен сколько-нибудь полно, с привлечением всех известных материалов 1913–1930 годов». Статья, впрочем, содержит несколько ссылок на разборы статей Ходасевича о Маяковском. Маяковский упомянул Ходасевича единожды — в письме Лиле Брик от 9 ноября 1924 года: «Сегодня идем обедать с Эльзой, Тамарой и Ходасевичами. Не с поэтом, конечно!» Другое упоминание, без имени — в статье 1914 года «Война и язык»: «В чью безумную голову вкралась мысль красоту сегодняшней жизни аргументировать этим столь далеким прошлым?» Безумная голова принадлежала как раз Ходасевичу, и мысль собрать в «Универсальной библиотеке» тексты русских лириков о войне была в 1914 году вполне здравой, но Маяковского уже тогда категорически не устраивала любая архаика.
Ходасевич возненавидел Маяковского сразу и навсегда, да так, что долго и серьезно обижался на Ивана Трояновского, который на поэтическом вечере в Обществе свободной эстетики 8 февраля 1915 года, где выступал в числе прочих Ходасевич, выпустил на сцену Маяковского со Зданевичем. «Нас обидели, заставив читать в прошлый четверг стихи, а после нас выпустив Маяковского и Зданевича. Будут большие бои», — пишет Ходасевич Борису Садовскому по этому поводу. «Тут что-то личное», — полагает Валерий Шубинский, комментируя на радио «Свобода» свою книгу о Ходасевиче «Чающий и говорящий». «Обращает на себя внимание прежде всего то, что во всех отмеченных сторонними мемуаристами или документами ситуациях Ходасевич оказывается в положении проигравшего», — замечает Богомолов в цитированной статье, не забывая упомянуть и о том, что в знаменитой (благодаря «Охранной грамоте») партии в орлянку Ходасевичу тоже приходится платить проигрыш. Безусловно, Ходасевич старался избегать совместных с Маяковским выступлений отчасти потому, что не видел ни возможности, ни смысла с ним конкурировать: скандалом ли (в глазах недоброжелательной публики), эффектностью ли (в глазах доброжелательной) — Маяковский забивал всех. В конце января 1918 года Ходасевич в числе прочих читал у Цетлина (Амари) — в частности, прочел только что написанный «Эпизод», вызвавший, по его свидетельству, восторги и воздевание рук Вяч. Иванова; однако ни о каких восторгах другие мемуаристы не упоминают — все запомнили только триумфальный успех Маяковского и признание его «стариками», в том числе Бальмонтом, который тут же посвятил ему экспромт. Маяковский читал «Человека» — правду сказать, даже и без авторского исполнения вещь потрясающую. Павел Антокольский вспоминает: «Ходасевич был зол. Маленькое, кошачье лицо его щерилось в гримасу и подергивалось».
Странно, что никому еще не пришло в голову: вещи, в сущности, об одном и том же — о посмертном опыте, о буквальном «выходе из себя».
У Ходасевича:
- Самого себя
- Увидел я в тот миг, как этот берег;
- Увидел вдруг со стороны, как если б
- Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
- Закинув ногу на ногу, глубоко
- Уйдя в диван, с потухшей папиросой
- Меж пальцами, совсем худой и бледный.
- Глаза открыты были, но какое
- В них было выраженье — я не видел.
- Того меня, который предо мною
- Сидел, — не ощущал я вовсе. Но другому,
- Смотревшему как бы бесплотным взором,
- Так было хорошо, легко, спокойно.
- И человек, сидящий на диване,
- Казался мне простым, давнишним другом,
- Измученным годами путешествий.
- Как будто бы ко мне зашел он в гости,
- И, замолчав среди беседы мирной,
- Вдруг откачнулся, и вздохнул, и умер.
- Лицо разгладилось, и горькая улыбка
- С него сошла.
- Так видел я себя недолго: вероятно,
- И четверти положенного круга
- Секундная не обежала стрелка.
- И как пред тем не по своей я воле
- Покинул эту оболочку — так же
- В нее и возвратился вновь.
У Маяковского:
- Мутная догадка по глупому пробрела.
- В окнах зеваки.
- Дыбятся волоса.
- И вдруг я
- плавно оплываю прилавок.
- Потолок отверзается сам.
- Визги.
- Шум.
- «Над домом висит!»
- Над домом вишу.
- Церковь в закате.
- Крест огарком.
- Мимо!
- Леса верхи.
- Вороньем окаркан.
- Мимо!
- Студенты!
- Вздор
- все, что знаем и учим!
- Физика, химия и астрономия — чушь.
- Вот захотел
- и по тучам
- лечу ж.
- Всюду теперь!
- Можно везде мне.
- Взбурься, баллад поэтовых тина.
- Пойте теперь
- о новом — пойте — Демоне
- в американском пиджаке
- и блеске желтых ботинок.
После тысячи лет в небесах герой Маяковского точно так же возвращается, как и герой Ходасевича (правда, там не прошло и четверти минуты): «Поскользнулся в асфальте. Встал».
Кроме исходной ситуации, несходно тут всё: поэтический инструментарий, темперамент, жанр, в конце концов, — но показателен интерес не просто к посмертному бытию, — кого оно не интересует? — но именно к опыту экстериоризации, к выходу из тела, к созерцанию себя со стороны. И тут уже непринципиально, что Ходасевич видит себя после смерти «худым и бледным», вжавшимся в диван, а Маяковский даже после смерти демонически триумфален, и пиджак на нем американский. Важны попытка вырваться из жизни, ощущение ее роковой недостаточности, жажда иного опыта (третье в этом ряду сочинение о выходе за собственные пределы — «Поэма воздуха» Цветаевой, которая учитывает опыт предшественников и при этом физиологичнее, убедительнее обоих; правда, ее героиня как будто не возвращается).
И в общем, Маяковского и Ходасевича это в самом деле роднило — роковая недостаточность, неспособность удовлетвориться земным, жажда иной жизни и, пожалуй, уверенность в посмертном реванше:
- Она (улица Жуковская. — Д. Б.) —
- Маяковского тысяча лет.
- Он здесь застрелился у двери любимой.
- В России новой, но великой
- Поставят идол мой двуликий…
Маяковского и Ходасевича никто не поставил бы рядом при жизни (а 37 лет жизни Маяковского целиком умещаются в жизнь Ходасевича, тоже не слишком долгую: родился семью годами раньше, умер девятью годами позже). А между тем очень многое в характере и даже темпераменте, в круге тем, в маниях и фобиях их роднит — и поэтому старший горячо ненавидел младшего, а младший высокомерно игнорировал старшего.
Первое, что бросается в глаза, — игромания; недаром Пастернак вспоминает, что Маяковский играл с Ходасевичем в орлянку в кофейне «У Грека». Вспомним бесконечные пасьянсы Ходасевича в конце двадцатых (иногда кажется, что Берберова из-за них и ушла: «Он теперь вечерами раскладывал бесконечные пасьянсы под лампой и садился работать после полуночи, после того, как я ложилась спать»). В пасьянсах этих он спрашивал, вероятно, уйдет ли она — и именно из-за этого она и ушла. Кто из нас не раскладывал таких пасьянсов? Было время бифуркации, перелома к новой мировой войне, до прихода Гитлера к власти оставался год, и в России становилось хуже и хуже, а Ходасевич был необычайно чуток и чувствителен — «но тайно сквозь меня летели колючих радио лучи»; говорил же он, что слышит землетрясение в Австралии! Впрочем, тут еще одно совпадение, а точнее, откровенное эпигонство: как-никак Маяковский написал «Пятый интернационал» за два года до «Встаю расслабленный с постели», — и там читаем:
- Пространств мировых одоления ради,
- охвата ради веков дистанций
- я сделался вроде
- огромнейшей радиостанции.
Есть тут, правда, принципиальная разница: Ходасевич всю жизнь спрашивает игру о своем праве на существование — как и Маяк, разумеется, — но помимо заполнения времени, или даже убийства его, и помимо чаемой победы над противником есть у него и чисто коммерческий интерес. Маяковского деньги интересуют в последнюю очередь: гонорары — да, выигрыши — нет. Он чаще играет «на позор», «на желание», а к коммерческим играм питает непобедимое отвращение и даже пишет по этому поводу «Стих резкий о рулетке и о железке» (железка или «шмен-де-фер», немудреная карточная игра, была одной из страстей Ходасевича; рулетка — никогда, ибо его не интересует слепой случай).
- Удел поэта — за ближнего болей.
- Предлагаю
- как-нибудь
- в вечер хмурый
- придти ГПУ и снять «дамбле» —
- половину играющих себе,
- а другую —
- МУРу.
Впрочем, публикации он предпослал две строчки: «Напечатайте, братцы, дайте отыграться»; самоирония понятна, поскольку о его страсти к азартным играм знали все, да и не сам ли он написал за семь лет до того:
- А я вчера, не насилуемый никем,
- просто,
- снял в «железку» по шестой руке
- три тысячи двести — со ста.
- Игроческие очи из ночи
- блестели, как два рубля,
- я разгружал кого-то, как настойчивый рабочий
- разгружает трюм корабля.
Ирония иронией (стихи сатириконские), но ненависть к скучному труду — вполне искренняя, очень ему с юности присущая.
Но и Ходасевич, никогда не умевший зарабатывать и видевший в картах серьезный источник дохода, и Маяковский, относившийся к деньгам весьма широко и с тринадцатого года не знавший финансовых затруднений, по-пушкински видели в игре не способ наживы, а своеобразный пакт с судьбой, подтверждение собственной удачи, даже правильности пути, если угодно. Происходило это от роковой неуверенности в собственном праве на существование, — а откуда взяться такой уверенности у человека с болезненным, гиперболическим переживанием трагического?
«Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что этот ужас по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вдруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растет и душит его» — это Берберова о Ходасевиче.
А ведь как будто Полонская о Маяковском!
Тут возникнет, конечно, вопрос об отношении к революции: Маяковский восторженно принял, Ходасевич неутомимо насмехался и в конце концов уехал. С восприятием революции у Ходасевича, однако, все не так просто: отношение поэта к эпохе определяется не тем, что он в ней принимал или не принимал, а тем, как и сколько он в эту эпоху написал. Дореволюционный Ходасевич — поэт третьего ряда, и сколько бы он в «Некрополе» ни цитировал задним числом свои блестящие отповеди Брюсову и шпильки в адрес Белого, по опубликованным инскриптам видно, что он по крайней мере имитировал преклонение и понимал иерархию. Большим поэтом Ходасевича сделала революция, и первые годы после нее — счастливо совпавшие с главной в его жизни любовью. Да, «привил-таки классическую розу к советскому дичку» — но к тому, что ненавидят, классическую розу не прививают, это было бы непозволительным смешением стилей, и ничего хорошего из такого гибрида не вышло бы.
Ходасевич о революции — обо всех революциях — высказался достаточно жестко: «И революции не надо. Ее рассеянная рать одной венчается наградой, одной свободой — торговать». Это, однако, упрек не справа, а слева: Ходасевич искренне жаждал уничтожения старого мира, страшного мира, как назвал его Блок: апокалиптический пафос присущ ему не в меньшей, а то и в большей мере, чем большинству современников. Революция для Ходасевича недостаточно радикальна, а дорога она была ему именно тем, что временами напоминала подлинный конец света. Потому он так и полюбил призрачный Петроград, куда в 1919 году переехал из Москвы. Кто не цитировал его восторженных строк о зданиях, обретших стройность и отрешенность дворцов, о первых, еще не безобразных признаках распада? Именно послеоктябрьский Петроград, ДИСК, главная любовь, чувство великого исторического перелома, тютчевское «Блажен, кто посетил сей мир» — всё это сделало Ходасевича одним из лидеров поэтического поколения, в котором были имена куда более громкие. В тяжкий, голодный, звероватый период — с 1917 по 1922 год — многие замолчали, а Ходасевич пережил свой высший взлет: ненавистнику жизни досталось время, когда жизни не стало, врагу быта повезло прожить пять лет без быта, в высшем напряжении чувств, в полном расцвете дара. В России 1918 года было, пожалуй, два счастливых поэта (не забудем, впрочем, и Цветаеву с гениальным борисоглебским циклом, с великими романтическими драмами, писанными для вахтанговцев и для Сонечки): Маяковский — и Ходасевич. Именно от Ходасевича слышим мы в эпоху военного коммунизма много странных, совершенно неожиданных для него слов о благотворности перемен, и даже временами о сочувствии этой революции. Пусть она очень скоро выродилась, но поначалу он симпатизировал ей — и это подтверждается многими красноречивыми цитатами. А всего красноречивее две книги — «Путем зерна» и «Тяжелая лира», которые можно, пожалуй, причислить к самым ценным эстетическим результатам Октябрьского переворота.
Да и не так уж скоро он к этому перевороту охладел. В декабре семнадцатого пишет Садовскому: «Будет у нас честная трудовая страна, страна умных людей, ибо умен только тот, кто трудится. И в конце концов монархист Садовской споется с двухнедельным большевиком Сидором, ибо оба они сидели на земле, — а Рябушинские в кафельном нужнике. Не беда, ежели Садовскому-сыну, праправнуку Лихутина, придется самому потаскать навоз. Только бы не был он европейским аршинником, культурным хамом, военно-промышленным вором. К черту буржуев, говорю я». Ему случалось называть себя даже «приверженным к Совдепии» — эстетически, конечно, а не политически. И отъезд его не в последнюю очередь связан с тем, что вместо апокалипсиса — который и Блока вдохновил — началось то, что тот же Блок называл «марксистской вонью», реставрация империи в более убогом варианте, да еще и с нэповским триумфом того самого буржуя, которого Блок, Маяковский и Ходасевич солидарно ненавидели до рвоты.
В 1923 году, в Саарове, Ходасевич пишет — но не публикует — стихотворение о своем разочаровании в русской революции: приведем его полностью, поскольку оно выражает — как всегда у Ходасевича, зло и точно, — настроения многих:
- Помню куртки из пахучей кожи
- И цинготный запах изо ртов…
- А, ей-Богу, были мы похожи
- На хороших, честных моряков.
- Голодали, мерзли — а боролись.
- И к чему ж ты повернул назад?
- То ли бы мы пробрались на полюс,
- То ли бы пошли погреться в ад.
- Ну, и съели б одного, другого:
- Кто бы это видел сквозь туман?
- А теперь, как вспомнишь, — злое слово
- Хочется сказать: «Эх, капитан!»
- Повернули — да осволочились.
- Нанялись работать на купца.
- Даже и не очень откормились —
- Только так, поприбыли с лица.
- Выползли на берег, точно крабы.
- Разве так пристало моряку?
- Потрошим вот, как на кухне бабы,
- Глупую, вонючую треску.
- А купец-то нами помыкает
- (Плох сурок, коли попал в капкан),
- И тебя не больно уважает,
- И на нас плюет. Эх, капитан!
- Самому тебе одно осталось:
- Греть бока да разводить котят.
- Поглядишь — такая, право, жалось.
- И к чему ж ты повернул назад?
Обращено это, конечно, не к Ленину — вряд ли Ходасевич считал его истинным капитаном мирового корабля, первопричиной революционной бури; мы почти не найдем у него ни апологетических, ни саркастических высказываний о Ленине, потому что не в нем дело (он и о Луначарском, и о Каменеве писал только потому, что знал их лично и они ему были смешны). Скорее тут обращение к Богу, который «повернул назад», спас свой мир от гибели — а чего ради? Только и осталось теперь разводить всякую умилительную мелочь, новых людишек нового мирка. Ходасевич здесь странно и почти буквально совпадает с известным хокку Акико Ёсано: «Сказали, что эта дорога меня приведет к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мной кривые, глухие, окольные тропы». По Ходасевичу, честный моряк — мертвый моряк.
Маяковский примерно за полгода до Ходасевича написал ровно о том же самом — и не сказать, чтобы сильно плоше («Спросили раз меня: вы любите ли НЭП?»). Чувства выражены сходные, и с той же силой, и с прежним сатирическим блеском — но Маяковский не был бы Маяковским, если бы и здесь не призвал к борьбе, сопротивлению, к тому, чтобы добить врага его же оружием… Очень может быть, что его стихи подняли настроение многим разочарованным, но эстетически он, конечно, Ходасевичу проигрывает, поскольку отчаяние всегда выигрышнее надежды, если, конечно, речь о поэзии, а не о повседневной практике. Многие товарищи повесили нос.
— Бросьте, товарищи!
Очень не умно-с.
- На арену!
- С купцами сражаться иди!
- Надо счетами бить учиться.
- Пусть «всерьез и надолго»,
- но там,
- впереди,
- может новый Октябрь случиться.
Весьма любопытно, что новая жизнь Маяковскому (как и Ходасевичу) кажется отвратительнее прежней, дореволюционной: в той хоть какая-то честность была, а нынче всё — сплошная имитация:
- С Адама буржую пролетарий не мил.
- Но раньше побаивался —
- как бы не сбросили;
- хамил, конечно,но в меру хамил —
- а то
- революций не оберешься после.
- Да и то
- в Октябре
- пролетарская голь
- из-под ихнего пуза-груза —
- продралась
- и загнала осиновый кол
- в кругосветное ихнее пузо.
- И вот,
- Вечекой,
- Эмчекою вынянчена,
- вчера пресмыкавшаяся тварь еще —
- трехэтажным «нэпом» улюлюкает нынче нам:
- «Погодите, голубчики!
- Попались, товарищи!»
- Против их
- инженерски-бухгалтерских числ
- не попрешь, с винтовкою выйдя.
- Продувным арифметикам ихним учись —
- стиснув зубы
- и ненавидя.
- <…>
- Не нравится-то, не нравится,
- а черт их знает,
- как с ними справиться.
- Раньше
- был буржуй
- и жирен
- и толст,
- драл на сотню — сотню,
- на тыщи — тыщи.
- Но зато,
- в «Мерилизах» тебе
- и палъто-с,
- и гвоздишки,
- и сапожищи.
- А теперь буржуазия!
- Что делает она?
- Ни тебе сапог,
- ни ситец, ни гвоздь!
- Она —
- из мухи делает слона
- и после
- продает слоновую кость.
Надо сказать, эта блестящая характеристика применима ко всему, что тут делалось после революции: империя возрождалась, хотя и в карикатурном виде, с куда более тупой и тотальной цензурой, с деградировавшей и разросшейся бюрократией, с масскультом, который был много хуже «Санина». Но скажем печальную вещь — о большинстве послереволюционных поэм Маяковского можно сказать теми же словами. Сравните «Облако» и «Хорошо», сопоставьте хоть «Во весь голос» и «Трагедию» — это оно и есть: из мухи делать слона и продавать слоновую кость. Гений есть гений, даже когда толком не сознает, на кого направлены его удары.
Маяковский вместе со своим кораблем повернул обратно. Отсюда и «кривые, глухие, окольные тропы». Очень может быть, что этого-то Ходасевич и не простил — ведь для него Маяковский был именно практиком, ушлым малым; конечно, дело тут не в материальной выгоде, а в чем-то большем, — в литературной славе, например, — но во всем, что делает и пишет Маяковский, Ходасевич видит именно корысть. Он не хочет понимать, что стратегия Маяковского тоже самоубийственна, что его путь — внешне вполне благополучный и даже конформистский — еще трагичнее и обреченнее, чем эмигрантское прозябание. По-разному можно гибнуть — но Ходасевич, впрочем, никогда, даже перед лицом смерти, не проявлял уважения к чужой гибели и тем более к чужой стратегии. «Только тот мне брат, — говорил он перед смертью, — кто мучился, как я». Как я — а не иначе.
Тынянов в «Промежутке» (где о Ходасевиче сказано бегло и скептично) сказал о Маяковском едва ли не самые точные слова:
«Русский футуризм был отрывом от срединной стиховой культуры XIX века. Он в своей жестокой борьбе, в своих завоеваниях сродни XVIII веку, подает ему руку через голову XIX века. Хлебников сродни Ломоносову. Маяковский сродни Державину. Геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века. <… > Маяковский возобновил грандиозный образ, где-то утерянный со времен Державина. Как и Державин, он знал, что секрет грандиозного образа не в „высокости“, а только в крайности связываемых планов — высокого и низкого, в том, что в XVIII веке называли „близостью слов неравно высоких“, а также „сопряжением далековатых идей“. Его митинговый, криковой стих, рассчитанный на площадный резонанс (как стих Державина был построен с расчетом на резонанс дворцовых зал), был не сродни стиху XIX века; этот стих породил особую систему стихового смысла».
Но это же прямо о Ходасевиче, который своей гипертрофированной, демонстративной архаикой отвечает на тот же вызов! Ходасевич, написавший романизированную биографию Державина, — вероятно, лучшую, — точно так же протягивает руку XVIII веку, оттуда выводит свою линию: «Но первый звук Хотинской оды нам первым звуком жизни стал». Четные века в России — в силу разных причин, о которых здесь говорить не место, — всегда революционны, тектоничны, всегда рвут с наследием более спокойных, плавно-эволюционных времен; цикл наш не столетний, а двухсотлетний, но в нечетные столетия колебания затихают и все происходит вполруки. Архаика Ходасевича — такой же вызов обыденному языку эпохи, как словотворчество Маяковского. Порыв к за-человеческому, надчеловеческому — один и тот же: «Здесь, на горошине Земли, будь или ангел, или демон». И поэма Маяковского «Человек» — о сверхчеловеке, а никак не о мирном обывателе. Демоном он и называет себя — только новым, в желтых ботинках. И восторг перед этой своей надчеловеческой природой у Ходасевича тот же, хотя и сдобрен изрядной дозой желчной самоиронии: «Я сам себе целую руки, сам на себя не нагляжусь» — это ли не «слаще слюны моей сока»?
Тынянов не увидел стратегии Ходасевича, не оценил его обращения к державинской поэтике, не заметил классической розы на стволе советского дичка — и вообще, кажется, проигнорировал этого современника. Больше того: он этому игнорированию подобрал методологическое обоснование:
«Возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили. „Недооценки“ современников всегда сомнительный пункт. Их „слепота“ совершенно сознательна. (Это относится даже к таким недооценкам, как недооценка Тютчева в XIX веке.) Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право. (Я говорю не о новом метре самом по себе. Метр может быть нов, а стих стар. Я говорю о той новизне взаимодействия всех сторон стиха, которая рождает новый стиховой смысл.)».
Именно за это — думаю, другой причины не доищемся, хотя формальный метод отталкивал Ходасевича как таковой, — ему и прилетело с такой силой за «Восковую персону»; и это еще один случай, когда личная обида совершенно заслонила Ходасевичу реальный масштаб оппонента: «Для развития самых идей формализма Тыняновым не сделано ничего. Судьба сулила ему быть эпигоном школы, в задорном словаре которой не было более бранного слова, чем эпигон». Можно не уважать формальный метод, но желательно по крайней мере знать, кто был его основоположником; вообще хорошо бывает разбираться в предмете — полистать для примера хоть «Проблему стихового языка», а уж потом определять место Тынянова в истории литературоведения. Но Ходасевича в иные моменты объективность не интересовала вовсе — и это тоже роднит его с Маяковским, который часто не читал тех, с кем полемизировал.
«Но дарования художественного у него нет. Его новый прием оказался простою вычурой, насильно вымученной и не вяжущейся с предметом». Это сказано, напомним, о «Восковой персоне», смысла которой Ходасевич не увидал вообще: ему неясно, с какой стати Тынянов в 1932 году обращается к 1725-му, и надо было, вероятно, жить в России, чтобы заметить связь одной эпохи исторического окостенения, послереволюционного замерзания — с другой. Вероятно, ему и пастернаковское «Столетье с лишним — не вчера» ничего не сказало о параллелях николаевской России со сталинской, послепетровской России — с Россией начала тридцатых (а ведь уже в «Высокой болезни» сказано было о петровском масштабе ленинских преобразований, и немудрено, что окостеневающая, застывающая эпоха слишком живо напоминала сумерки Петра). Всего и надо было — вчитаться; но Ходасевич так презирал Тынянова, что где уж ему было вчитываться. Он ведь не намеки ловил, а оценивал, как ему казалось, чистое литературное качество. На самом деле он сводил счеты за «Промежуток», в котором державинская стратегия Маяковского обозначена, а про Ходасевича не сказано ни слова. Даром что XVIII век — их общий источник.
Трудно сказать, читал ли Маяковский «Декольтированную лошадь», а если читал — включил бы он ее в экспозицию «Двадцати лет работы» как доказательство эмигрантской ненависти к себе или побоялся бы фельетонной хлесткости Ходасевича. Процитируешь — еще пристанет… Но трудно спорить с тем, что из всего написанного о Маяковском эта статья наименее доказательна и наиболее несправедлива: в ней, против воли Ходасевича, чувствуется живая, неподдельная зависть. Шубинский, автор первой русской биографии Ходасевича, справедливо замечает, что даже памфлет Шенгели не в пример основательнее.
«Маяковский никогда, ни единой секунды не был новатором, „революционером“ в литературе, хотя выдавал себя за такового и хотя чуть ли не все его таковым считали. Напротив, нет в нынешней русской литературе большего „контрреволюционера“ (я не сказал — консерватора)… Маяковский молча произвел самую решительную контрреволюцию внутри хлебниковской революции. В самом основном, в том пункте, где заключался весь пафос, весь (положим — бессмысленный) смысл хлебниковского восстания в борьбе против содержания, — Маяковский пошел хуже чем на соглашательство: не на компромисс, а на капитуляцию. Было у футуристов некое „безумство храбрых“. Они шли до конца. Маяковский не только не пошел с ними, не только не разделил их гибельной участи, но и постепенно сумел, так сказать, перевести капитал футуризма на свое имя. Сохранив славу новатора и революционера, уничтожил то самое, во имя чего было выкинуто знамя переворота. По отношению к революции футуристов Маяковский стал нэпманом».
«Нэпман» для Ходасевича — самый обидный ярлык, он и для Маяковского особенно обиден, — не покидает ощущение, что Ходасевич отлично знает, как больнее всего уязвить поэта, ибо чувствует его изнутри; так больнее всего ранит кровный родственник — «враги человеку домашние его»! Со стороны все обвинения Ходасевича убедительны, даже логичны — разве Пастернак инкриминировал Маяковскому не то же самое? «И вы с прописями о нефти! Теряясь и оторопев, я думаю о терапевте, который вернул бы вам гнев». Был борец, а стал защитник новой буржуазии! Но Ходасевич не может не знать — следит же он за творчеством критикуемого автора, вот и пятый том сочинений упомянул, — что как раз на эту новую буржуазию Маяковский обрушивается всей мощью; что и дореволюционный, и пореволюционный обыватель ему омерзительны, и второй, может быть, хуже; что бичевать бюрократизм — как раз и значит ополчаться на ожиревших грабителей награбленного! Кроме того, попытки поссорить Маяковского с друзьями его молодости — уехавшим Бурлюком, умершим Хлебниковым, замолчавшим Крученых — искусственны и неосновательны. В поэзии Маяковского — и до-, и послеоктябрьской — нет ничего, что противоречило бы литературным и моральным установкам Хлебникова, который, кстати, тоже не отличался особой щепетильностью:
- Стариков со звездой,
- Нагишом бы погнать,
- Ясноликую знать.
- Все господское стадо,
- Что украинский скот,
- Толстых, седых,
- Молодых и худых,
- Нагишом бы все снять,
- И сановное стадо,
- И сановную знать,
- Голяком бы погнать,
- Чтобы бич бы свистал,
- В звездах гром громыхал.
- Где пощада? Где пощада?
Это из кантаты «Настоящее», из которой пришло потом блоковское «полосну, полосну». Видеть в Хлебникове исключительно блаженного, «гениального кретина» — близорукость непозволительная для серьезного критика, извиняемая только тем, что она намеренна, сознательна. Маяковский — прямой продолжатель футуристов, и ЛЕФ не отрицает футуристический опыт, а распространяет его на весь постреволюционный быт, требует слияния искусства с жизнью в ущерб эстетике, но уж по крайней мере конформизмом и буржуазностью здесь не пахнет. Я не говорю о том, каким безмерным упрощением было утверждение Ходасевича о футуристическом отрыве формы от содержания, — это именно сознательное оскорбление, а не анализ. Но главный пафос статьи Ходасевича, — написанной как раз в том 1927 году, когда Маяковский напечатал несколько бесспорных трагических шедевров и опроверг разговоры о своем закате, — вполне очевиден: Ходасевич не прощает Маяковскому того, что тот выбрал жизнь. То есть повернул с полдороги к океану смерти. Пошел с той революцией — недореволюцией по сути, — которая выродилась. Вместо того чтобы, — как скажет позднее Пастернак, — «гибнуть откровенно».
Но Маяковский погиб, а Ходасевич выжил.
Впрочем, и это не заставило Ходасевича устыдиться. Смерть для него не аргумент и ничего не списывает. Странно, что он, не простивший себе самоубийства Муни («Мне лет шесть не спится тоже»), самоубийство Маяковского вообще не принимает в расчет: даже Сельвинский устыдился сказать: «Труп врага хорошо пахнет», а Ходасевич — хоть бы что. В некрологе он повторил большую часть статьи трехлетней давности, хотя, по подсчетам Богомолова, вдумчиво изучившего его рабочий график, неделю перед этим думал, не решаясь опубликовать памфлет вместо некролога. Победили соображения литературные и личные, этические были отброшены. Да и то сказать — что значит для сноба смерть, тем более чужая? Он и своей не боялся. «Будь или ангел, или демон». Муравьиный спирт вместо крови, как сказал Шкловский. Больную жену бросил, ничего не сказал, уехал с молодой возлюбленной, заботы о брошенной жене поручил Чуковскому, которого потом оплевал в заграничных фельетонах, — но ведь он и не претендовал на мораль, и считал себя падшим, и, правду сказать, любовался этим, целую поэтику на этом построил. Тиняковских глубин падения, конечно, не достиг, но, кажется, Тиняковым интересовался не зря. А то, можно подумать, Маяк много церемонился с мертвыми противниками или помнил о добрых нравах литературы, когда травил Пильняка, Замятина, того же Булгакова, когда тому же Чуковскому говорил — жалко, мол, что вашу дочь не сослали в Нарым! Близнецы, чего там; самые верные дети Серебряного века.
Но одно разделяет их с Маяковским безоговорочно — это особенно ясно видно там, где они скрыто, никогда не напрямую, полемизируют. В 1923 году Маяковский написал (а 8 февраля 1924 года в «Огоньке» напечатал) стихотворение «Киноповетрие» (первоначальное название — «О развлечениях Европы»).
- Не вы,
- я уверен, —
- не вы,
- я знаю, —
- над вами
- смеется товарищ Шарло.
- Жирноживотые.
- Лобоузкие.
- Европейцы,
- на чему вас пудры пыльца?
- Разве
- эти
- чаплинские усики —
- не всё,
- что у Европы
- осталось от лица?
Тут, конечно, обычная его ненависть к жирным с их желеобразными подбородками и — шире — к обывателю вообще. Присутствует и чрезвычайно характерная для русской поэзии солидарность с Чаплином; нигде в мире ему не посвящали столько лирических стихов и песен, вспомнить хоть «Чарли Чаплин» Мандельштама или «Памяти Чаплина» Евтушенко, но, думается, русской поэзии здесь сослужила дурную службу традиционная любовь и жалость к маленькому человеку. Чаплин, в общем, не совсем про то, а временами и совсем не про то. Он сентиментален ровно в той степени, в какой это позволяет еще жестче, еще беспощаднее посмеяться; приписывать ему жалость к маленькому человеку не стоит — мсье Верду из его лучшего и уж во всяком случае самого совершенного фильма тоже маленький человек и притом безжалостный убийца, почему эту картину, так виртуозно сделанную, и не приняли по обе стороны океана. Михаил Трофименков не так уж и преувеличивал, когда писал о холодном и даже, пожалуй, лощеном лице женоненавистника и мизантропа, которое высовывается вдруг из-за почти приросшей маски маленького бродяжки. Чаплин вовсе не такой друг угнетенных и защитник бедных, каким его привыкли изображать в СССР; в «Новых временах» он весьма жестко иронизировал над социалистической утопией. Маяковский идеализировал его напрасно — так же наивно, в сущности, как и в случае с Пикассо, которому он от души предлагал перебираться в Москву и расписывать здания к первомайским праздникам: у нас, мол, свобода без ограничений! Пикассо так ни разу и не приехал в Советскую Россию, равно как и Чаплин, всё про нее понимавший; и когда Маяк видел в комедиях Чаплина чуть ли не обещание мировой революции — «Будет — не соусом, будет — не в фильме!» — его подводила не только вера в революционную суть любого кинематографа, роднейшего из искусств, а еще и трогательное желание в любом настоящем художнике видеть идейного союзника. Ходасевич, кажется, гораздо адекватнее оценивал «идиотства Шарло», когда прямо, не стесняясь, ответил Маяковскому в «Балладе» 1925 года:
- Мне лиру ангел подает,
- Мне мир прозрачен, как стекло,
- А он сейчас разинет рот
- Пред идиотствами Шарло.
Но этот самый обыватель, который «разинет рот», вызывает у Ходасевича не отвращение (у Маяковского-то над Чаплином хохочут «жирноживотые, лобоузкие»), а глубочайшее сострадание, чувство непонятной вины. Герой Ходасевича вроде бы ничем не виноват перед безруким ветераном и его беременной женой. Но этот герой отчего-то уверен, что когда он будет жариться в аду — безрукий сможет в раю пожалеть о нем, облегчить его участь! По Маяковскому, обыватели Европы навеки прокляты; по Ходасевичу, прокляты именно поэты — а обыватели в своем раю смогут уронить перышко «с прохладнейших высот». Ходасевич понимает, что проклят — «за жизнь надменную мою», — а у Маяковского и намека на это нет, и не только в откровенно агитационном «Киноповетрии», а и в серьезных вещах вроде «Про это». Там, конечно, заходит речь о посмертной муке, которая станет лишь продолжением прижизненной, но допустить, что поэт будет в аду, а обыватели в раю…
Хотя постойте. Есть ведь и у Маяковского это допущение. Рай-то уж точно не для него:
- И когда это солнце разжиревшим боровом
- Взойдет над грядущим без нищих и калек —
- Я
- уже сгнию,
- умерший под забором
- Вместе с десятком моих коллег.
А в «прохладнейшем раю», по Ходасевичу, кто же у него оказывается? Присыпкин, Пьер Скрипкин, помещенный в стеклянный, прозрачный, идеальный зверинец. В будущей энциклопедии, хотя бы среди пережитков, упоминается Булгаков. О Маяковском там нет ни слова. В семнадцатом году он допускал, что его именем будет названа улица Жуковского. Десять лет спустя, в «Клопе», и мысли нет ни о каком увековечении. Пролетарскому поэту предписана скромность.
Важно в этом противопоставлении одно: Ходасевич, известный своей надменностью, жалеет обывателя, ибо, как сказано в одном из писем к Берберовой, «все люди лучше, чем литераторы». Для Маяковского художник — звание, оправдывающее всё, и обывателю, всегда сытому, он не сочувствует ни секунды. Безрукий со своей беременной женой, если не хотят бороться за свои права, не вызывают у него ни малейшего сострадания: осмысленность и наполненность жизни — вопрос личного выбора.
И вот что странно: как же Ходасевич, — всегда считавший себя проклятым, никогда не претендовавший на моральность, вечно занимавший место отверженного среди отверженных, — никогда не поддался соблазну самоубийства? Уж сколько он с этим играл, как вокруг этого ходил, едва ли не чаще, чем Маяковский, — мы знаем об этом из собственных его свидетельств (он рассказывает в «Некрополе», как сумел его спасти вовремя примчавшийся Муни), из воспоминаний Берберовой («Не открыть ли газку?», не говоря уж о вечно соблазняющем прыжке из окна), — и все-таки никогда этому соблазну не поддался. Может быть, как раз потому, что внутреннего конфликта такой силы, какой в конце концов привел Маяковского к катастрофе, — у него не было: он с готовностью признавал себя последним из последних, безоговорочно первенствуя в эмигрантской поэзии, но ни за что не борясь в жизни. Первый среди маргиналов, лидер среди отверженных — это ниша трагическая, но по-своему комфортная: «в роскошной нищете». Маяковский никогда бы на это не пошел — и вот почему все проигрыши Ходасевича, хотя бы и в орлянку, стратегически обернулись выигрышами.
А Ходасевич умер героически, в 1939 году, от рака печени, без единой жалобы. Сноб живет безнравственно, хотя какие уж тут в XX веке разговоры о морали, а умирает героем, потому что ему небезразлично, как он выглядит. В этом и причина, что Горький не мог закончить «Жизнь Клима Самгина», герой которой так явно списан с Ходасевича. В сущности, вещь и задумывалась для расправы над ним — всегда правым и притом вовсе не таким умным и одаренным, каким он умудрялся выглядеть на фоне инфантильных, инфернальных, романтических детей Серебряного века. Скептик всегда умен, но внимание современников приковано не к нему. Он будет прав потом, когда напишет «Некрополь». Претензии Горького к Самгину вполне убедительны, не понимает он одного — что этот пустой Самгин не может умереть на улице, затоптанный рабочей демонстрацией. Он умрет героем, ничего не поделаешь, потому что ему не все равно, как на него смотрят и что о нем говорят. Его, в сущности, только это и интересует. Написать Самгину героическую смерть — хотя бы и в нищей парижской больнице — было выше горьковских сил.
И еще одно: их женщин часто называли «миссис Серебряный век», и в обоих случаях это была пошлость, но и Нина Берберова, и Лиля Брик с равным правом могут претендовать на звание символа эпохи. Есть нечто общее в этих столь несхожих романах — притом что Маяковский всегда играл при Лиле роль младшего (да младшим и был), а Ходасевич оставался безоговорочно старшим и, бесспорно, играл в этих отношениях первую скрипку, даже когда к 1932 году оказался практически беспомощен, безнадежно подавлен. Общего тут, пожалуй, только то, что обе эти женщины любили расти и меняться, и страстно желали шагать в ногу с веком, и это им удавалось; обе были фантастически адаптивны и чрезвычайно умны, — и этот ум помешал Нине и Лиле создать нечто в искусстве, хотя у Берберовой, безусловно, литературный талант был. Но ведь и у Лили Брик, судя по мемуарам и дневникам, есть искусство точных формулировок и пластический дар, — просто ее всегда больше интересовало жизнетворчество.
В общем, это, конечно, роман поэта с жизнью — с жизнью вообще и с жизнью собственной. Жизнь Ходасевича, что говорить, была более талантливой и менее вульгарной. От обоих, как это всегда бывает, она ушла — но Ходасевич с ней расстался мирно. В случае же Маяковского не обошлось без предсказанного в «Человеке» двойного самоубийства: «Так и валялись тело на теле».
И тем страннее, что главное любовное стихотворение Ходасевича называется «К Лиле», и полно оно совершенно Маяковских гипербол:
- Скорее челюстью своей
- Поднимет солнце муравей;
- Скорей вода с огнем смесится;
- Кентаврова скорее кровь
- В бальзам целебный обратится,
- Чем наша кончится любовь.
Никакого загробного примирения, конечно. Когда гремит гром и блещут молнии — это на том свете Маяковский с Ходасевичем играют в орлянку. Если же говорить серьезно, вечная борьба двух литературных стратегий продолжается всерьез, и посмертно примирив и уравняв их, мы унизили бы обоих.
АМЕРИКА
Великий пародист Александр Архангельский после публикации американских стихов изобразил «Мое открытие Америки» так:
- Пропер океаном.
- Приехал.
- Стоп!
- Открыл Америку
- в Нью-Йорке
- на крыше.
- Сверху смотрю —
- это ж наш Конотоп!
- Только в тысячу раз
- шире и выше.
- Городишко,
- конечно,
- Москвы хужей.
- Нет Госиздата —
- все банки да баночки.
- Дома,
- доложу вам,
- по сто этажей.
- Танцуют
- фокстрот
- американочки.
- А мне
- на них
- свысока
- наплевать.
- Известное дело —
- буржуйская лавочка.
- Плюну раз —
- мамочка-матъ!
- Плюну другой —
- мать моя, мамочка!
- Танцуют буржуи,
- и хоть бы хны.
- Видать, не привыкли
- к гостю московскому.
- У меня
- уже
- не хватило слюны.
- Шлите почтой:
- Нью-Йорк — Маяковскому.
Тут все очень точно — возникает даже крамольная мысль, что большую часть американских текстов (кроме, пожалуй, «Барышни и Вульворта», начала «Нит гедайге» и середины «Бруклинского моста») можно было вовсе не писать: пять строф Архангельского заменяют их полностью. Иное дело проза: автор этих строк уже писал о том, что одним из надежнейших критериев оценки поэта служит именно качество его прозы. Маяковский, увы, так и не написал романа, но очерки его превосходны: пластичны, экономны, полны афористичных определений и прекрасных шуток (чего стоит «манго — шарж на банан с большой волосатой косточкой»). Как ни парадоксально, в стихах отчетливо идеологическое задание, без которого было не выстроить лирический сюжет; в прозе он свободнее — от дневника фабула не требуется. Из всех русских травелогов «Мое открытие Америки» едва ли не самый сжатый и, вероятно, самый растерянный: автор все время признает, что из-за незнания языка во многом не разобрался. «Без языка» вообще путешествовать трудно, разве что в Антарктику, — муки поэта, запертого в стенах родного наречия, он с убийственной силой описал в рассказе «Как я ее рассмешил»: «Переведи им, — ору я Бурлюку, — что если бы знали они русский, я мог бы, не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек, я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию…» Чувствуется, однако, некоторая свежесть, стыдливая радость от знакомства с другим миром, с просторными пейзажами, небывалыми дождями и кактусами. В стихах: «А на что мне это все?» В прозе — восторг перед Атлантикой, небоскребами и светляками. В прозе поэт проговаривается, в стихах надо выстраивать лирического героя, а в прозе необязательно. В американских стихах Маяковский почти всегда ворчлив или тосклив, а в прозе иногда по-мальчишески восторжен. И все путешествие прошло под этим знаком: поверхностный эмоциональный восторг новизны — и сплошная тоска, неспособность ответить на главное, не находящая разрешения в этой новизне.
Маяковский попал в Америку с третьей попытки, и в последний момент судьба попыталась помешать ему особенно насмешливо: 10 июня 1925 года в парижском отеле «Истрия», где он всегда останавливался, его обокрали, вытащив из кармана пиджака бумажник с лилиной карточкой и 25 тысячами франков. «Вор снял номер против меня в Истрие, и когда я на двадцать секунд вышел по делам моего живота, он с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажники (с твоей карточкой со всеми бумагами) и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему, только по приметам сказали, что это очень известный по этим делам вор» (письмо Лиле от 19–20 июня). Янгфельдт предполагает, что Маяковский, может статься, деньги просто проиграл, как незадолго до того в Москве. Эльза, впрочем, очень уж достоверно рассказывает о том, как он стал даже не белого, а серого цвета, сунув руку в карман и не найдя бумажника.
Впрочем, как большинство невротиков, он немедленно принялся выправлять положение: влез в долги, набрал денег у кого мог, а торгпредство отправило в Москву телеграмму: «Находящегося Париже отправляющегося Мексику Маяковского обокрали. Пароход уходит девятнадцатого билет куплен. Торгпредство ознакомившись заключенным им Госиздатом договором Полное собрание сочинений согласно выплатить Маяковскому сейчас двести червонцев с тем чтобы вы в ноябре декабре удержали причитающиеся ему эти месяцы двести червонцев каковые переведите нам не позже конца декабря сего года. Телеграфируйте немедленно согласие». Госиздат согласился, и 21 июня Маяковский, имея в кармане 21 тысячу франков, отплыл на пароходе «Espagne» в Мексику.
Предпоследняя суша, которую предстояло ему увидеть перед неделей трансатлантического рейса, — Испания, порт Сантандер. Сойти на берег ему не разрешалось, поскольку у Испании с Советским Союзом все еще не было дипломатических отношений. Это не помешало Маяковскому написать испанское стихотворение, довольно мрачное, впрочем:
- Ты — я думал —
- райский сад.
- Ложь
- подпивших бардов.
- Нет —
- живьем я вижу
- склад
- «ЛЕОПОЛЬДО ПАРДО».
Только это он и видел с парохода. Далее перечисляется набор испанских штампов:
- Чернь волос
- в цветах горит.
- Щеки в шаль орамив,
- сотня с лишним
- сеньорит
- машет веерами.
- Кастаньеты гонят сонь.
- Визги…
- пенье…
- страсти.
- А на что мне это все?
- Как собаке — здрасьте!
Дело, видимо, не в том, что он таким образом себя утешал (мол, не пускаете — не больно и надо), а в том, что от себя уезжать бесполезно: лейтмотивом этой поездки, сколь ни ужасно, будет скука. Ничто его не радует, все противны, — иногда только эта скука переходит в более высокий регистр, становясь настоящей «божьей тоской», как называла это Ахматова. Вообще же он большую часть 1925 года мрачен, угрюм, неприветлив, и величие океана его не впечатляет вовсе («Атлантический океан есть дело воображения»). Напротив, появляется «Мелкая философия на глубоких местах», одно из самых безнадежных его стихотворений. Поистине, «12 дней воды это хорошо для рыб и для профессионалов открывателей, а для сухопутных это много».
- Годы — чайки.
- Вылетят в ряд —
- и в воду —
- брюшко рыбешкой пичкать.
- Скрылись чайки.
- В сущности говоря,
- где птички?
- Я родился,
- рос,
- кормили соскою, —
- жил,
- работал,
- стал староват…
- Вот и жизнь пройдет,
- как прошли Азорские
- острова.
Последние строчки «Мелкой философии» ушли в обиходную речь, даром что подавляющее большинство его сограждан никаких Азорских островов не видели отроду, да не очень и скучали по ним. Почему выраженное им чувство оказалось столь универсально? Вероятно, потому, что жизнь примерно так и проходит, как Азорские острова: как что-то далекое, чего мы так и не увидели… а может, оно и не нужно было. Азорские острова — архипелаг вулканического происхождения, известный несколькими эндемиками да еще тем, что там по подозрению в пиратстве на обратном пути из Америки был арестован Христофор Колумб. Так что называется красиво, и хотелось бы, наверное, повидать… но, в сущности, ничего особенного. Вот и всё так. Фраза «В сущности говоря, где птички?» принадлежит отцу Брика. Лиля в воспоминаниях осторожно пишет, что «в 1923 году Маяковский увлекся птицами» — с чего бы? Маяковский не Багрицкий, птицами не интересовался, просто посылал их Лиле во время затворничества, в дни работы над «Про это». А когда отношения наладились — выпустил. Тогда и была сказана фраза, которая Маяковскому запомнилась и попала наконец в стихи.
Перед Мексикой остановились на Кубе, где Маяковский провел день и написал по впечатлениям два стихотворения — «Блэк энд уайт» и «Сифилис». Оба появились уже по возвращении в Москву. Там наконец пригодилась цитата, о которой Маяковский просил: «Асейчиков, продайте мне строчку. Или подарите, если забогатели. Вот эту — „От этой грязи отмоешься разве?“ Зачем — еще не знаю, но очень зачем-то нужна». Асеев подарил, благо строчка была из проходного стиха о беспризорниках, и она стала внутренним монологом негра Билли: «От этой грязи скроешься разве? Разве бы стали ходить на голове, и то намели бы больше грязи: волосьев тыщи, а ног две». Это тоже не бог весть какие стихи — и первый из двух случаев, когда Маяковский вступился за уборщиков и уборщиц: четыре года спустя в «Парижанке» он опишет девушку из парижского общественного сортира, которая «подаст пипифакс и лужу подотрет». Разумеется, в Советской России такое унижение было бы невозможно: возле советской конторы никто не стоит со щеткой (тем более негр), а в советском клозете никто не подаст пипифакса. Наивность этих агиток вполне искупается, однако, их риторической убедительностью: «Белый ест ананас спелый, черный — гнилью моченый. Белую работу делает белый, черную работу — черный». Или: «Очень трудно в Париже женщине, если женщина не продается, а служит». Любопытно, что в Нью-Йорке, на Кубе, в Париже Маяковскому для подчеркивания социальной несправедливости нужны либо чернорабочие, либо уборщицы, либо офисные рабы. Разумеется, советский пролетарий не имеет с рабом ничего общего. Как он себя в этом убеждал — уму непостижимо. Вероятно, искренне верил, что когда «под старою телегою рабочие лежат», они не матерятся, а горячо себя уговаривают: «Через четыре года здесь будет город-сад». Вообще увидеть в Гаване одного только Вилли, стоящего со щеткой, — и тут же выдумать историю о том, как он спрашивает работодателя: «Почему и сахар, белый-белый, должен делать черный негр?» — значит действительно страшно сузить собственное зрение; но «мерещится мне всюду драма», сказал о себе еще его любимец Некрасов. Зато при появлении первых лодчонок, торгующих «местной картошкой — ананасами», он испытал краткий прилив национальной гордости: «На двух конкурирующих лодках два гаванца ругались на чисто русском языке: „Куда ты прешь со своей ананасиной, мать твою…“».
Ночная дорога из Веракруса в Мехико-сити — кажется, первое за все путешествие, что по-настоящему понравилось ему. Это было наконец новое, ни на что не похожее: «В совершенно синей, ультрамариновой ночи черные тела пальм — совсем длинноволосые богемцы-художники.
Небо и земля сливаются. И вверху и внизу звезды.
Два комплекта. Вверху неподвижные и общедоступные небесные светила, внизу ползущие и летающие звезды светляков. <…>
Я встал рано. Вышел на площадку.
Было все наоборот.
Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.
На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль, любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, вырастал могей. Его перегоняют в полупиво-полуводку — „пульке“, спаивая голодных индейцев.
А за нопалем и могеем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темно-зеленый, в иголках и шишках».
Он посетил кинематограф (смотрел американские вестерны), «батаклан» (стриптиз-клуб, где главный номер — вращение задом — изящно назвал изнанкой танца живота) и бой быков. О последнем оставил чрезвычайно красочную зарисовку — вероятно, самое откровенное в американском очерке:
«Я испытал высшую радость: бык сумел воткнуть рог между человечьими ребрами, мстя за товарищей-быков.
Человека вынесли.
Никто на него не обратил внимания.
Я не мог и не хотел видеть, как вынесли шпагу главному убийце и он втыкал ее в бычье сердце. Только по бешеному грохоту толпы я понял, что дело сделано.
Внизу уже ждали тушу с ножами сдиратели шкур.
Единственное, о чем я жалел, это о том, что нельзя установить на бычьих рогах пулеметов и нельзя его выдрессировать стрелять.
Почему нужно жалеть такое человечество?»
Сравните: «Мы и отца обольем керосином, и в улицу пустим — для иллюминаций» или «Стар — убивать. На пепельницы черепа». Человека ему не жалко, а быка жалко. Как-то он действительно не совсем человек. Страус, по автохарактеристике. Правда, он, в отличие от Есенина, никогда бы не пошел смотреть на расстрелы — если жалко быка, можно себе представить его эмоции при виде казни; но вот человека, которого бык пропорол, ему не жалко вовсе. В чем-то он тут совпадает с Блоком, который, узнав о гибели «Титаника», записывает: «Есть еще океан».
Но в общем Мексика ему скорее понравилась — даром что грязна, плохо организована, дышит вонью гнилого банана и ананаса. Дело даже не в экзотике, а, так сказать, в напряжении жизни:
- Там доблести —
- скачут,
- коня загоня,
- в пятак
- попадают
- из кольта,
- и скачет конь,
- и брюхо коня
- о колкий кактус исколото.
Он рассчитывал получить американскую визу в Мексике — думал, что это будет проще, и не ошибся: 24 июля ему в Мексике выдали американскую визу на полгода. Правда, для этого в заявлении пришлось указать, что он художник, рекламщик «Резинотреста» и едет в Штаты организовывать свою выставку. Потребовали 500 долларов залога. Маяковский взял их в долг в советском посольстве в Мехико, которое открылось на улице дель Рио, 37, за год до того, когда Мексика признала СССР. Он дал интервью местному «Эксцельсиору» (переводил первый секретарь посольства Виктор Волынский, присутствовал Диего Ривера) и сообщил, что планирует написать о Мексике книгу: «Русских очень интересует мексиканский темперамент». Интервью проходило на крыше посольства. Возникла некая двусмысленность — у Маяковского поинтересовались, не встречал ли его в Веракрусе Хуан Проаль, создатель замечательной организации неплательщиков («Мексиканец въезжает в квартиру и выкидывает флаг. Это значит: „Въехал с удовольствием, а за квартиру платить не буду“»). Встречал его, однако, другой Проаль — друг Риверы Эрон.
За мексиканский месяц он успел многое: подружился с Риверой, восхищался его фресками, познакомился с министром просвещения Мануэлем Пуигом Касауранком, очаровал всех в консульстве, выслушал десятки экзотических рассказов о мексиканских революциях и переворотах (часто с восхищением повторял цифру — 37 президентов за 30 лет, пять конституций!), записал предание о мексиканском флаге, раскрашенном в честь арбуза (революционеры ели арбуз, вспомнили, что флага у них еще нет, и тут же придумали — зеленый, белый, красный). Купил расписной мексиканский платок, который повесил потом в кабинете — это было там единственное украшение. Мексиканская поэзия ему не понравилась — даже революционеры пишут главным образом о любовных утехах, называя своих женщин нубийскими львицами. Темы борьбы и труда не отражены вовсе.
Насчет желания уехать — или остаться подольше — однозначно сказать трудно: Лиле он жаловался на скуку, мексиканским друзьям говорил, что хорошо бы выбраться в джунгли. Этой мечтой заканчивается и очерк о Мексике: «Я хочу еще быть в Мексике, пройти с товарищем Хайкисом еще Мореном намеченную для нас дорогу: из Мехико-сити в Вера-Круц, оттуда два дня на юг поездом, день на лошадях — и в непроезженный тропический лес с попугаями без счастья и с обезьянами без жилетов».
Думаешь иной раз — не в Париже спасли бы его от самоубийства, как полагал, скажем, Юлиан Семенов, а здесь, в Мексике. Она была для него тем же, чем Африка для Гумилева: мечтой о первозданном мире, еще хранящем жар рук Творца. Тут бы ему осуществиться, а не в «снеговой уродине», тут, где письма к полузнакомой женщине подписывают «целую следы ваших ног», среди естественного гиперболизма кактусов и страстей. Тут бы он не соскучился.
ДЛЯ ЧЕГО ПИШУ НЕ РОМАН.
Как это было бы прекрасно, и как легко в это поверить!
Представить Маяковского оставшимся в Латинской Америке.
Работу нашел бы. В крайнем случае играл бы в карты, а еще лучше на бильярде, содержа на выигрыши всю мексиканскую компартию.
А в пятьдесят пятом они приметили бы друг друга, ведь такие вещи всегда взаимны: он обратил бы внимание на рослого аргентинца с пышной шевелюрой, высоким бледным лбом, астматическим дыханием, но движениями спокойными и точными, как у него самого. А молодой аргентинский врач заметил бы — нельзя не заметить! — очень высокого, краснолицего, как индеец, бритоголового иностранца лет пятидесяти, а впрочем, без возраста. Седая щетина на черепе и бурых щеках. Почему иностранец? Ну, что-то такое. Нет печати пришибленности, которая лежит на местных угнетенных, и мрачноватого авантюризма, который отличает революционеров. Ясно, что отбрить может, но стрелять не будет.
— По-моему, я вас где-то видел, сеньор, — сказал бы общительный аргентинец.
— Это едва ли, — сказал бы иностранец.
— Вы немец? Француз?
— Бывал, но не оттуда. Неважно. А вы что здесь делаете?
— Я врач местной больницы, к вашим услугам.
— Врач — хорошо, — сказал бы иностранец отрывисто. — Если бы все сначала, я бы, может, тоже.
Они прошлись бы по городу, зашли выпить кофе, и аргентинский врач рассказал бы о своих путешествиях по латиноамериканским лепрозориям.
— Я тоже много путешествовал, — сказал бы высокий иностранец. — Теперь здесь. По-моему, здесь сейчас самое интересное место. Здесь получится то, что не получилось в России:
— А почему не получилось в России? — с горячим любопытством спросил бы молодой врач, который в последнее время много об этом думал.
— Климат, — неохотно ответил иностранец, катая папиросу из угла в угол большого темно-лилового рта. — И большая слишком. Там и не могло ничего получиться. Очень все друг друга ненавидят, понимаете? Здесь климат другой.
— Знаете, — во внезапном порыве откровенности сказал бы молодой врач, хороший революционер, но плохой конспиролог. — Это вы не по Марксу рассуждаете. Маркс ни слова не говорит про климат…
— Вы читали Маркса? — спросил бы иностранец без любопытства.
— Конечно! Постоянно его перечитываю.
— Ну и зря, — сказал бы иностранец. — У нас один поэт попробовал его почитать и повесился.
Они бы заспорили о Марксе, чувствуя, вопреки всем расхождениям, нарастающее взаимное доверие. К иностранцу подошла бы местная танцовщица и присела к нему на колени, как в кресло. Чувствовалось, что они давно знакомы.
— Если бы вы были настоящим марксистом, я бы многое вам мог рассказать, — пылко сказал бы молодой врач. — Но вы не разделяете мои взгляды, и потому, увы…
— Да чего рассказывать, — сказал бы иностранец. — Вы собираетесь отплыть на Кубу на яхте, у вас тут целый подпольный комитет.
Молодой врач вскочил бы и сунул руку в правый карман.
— Да не шпик я, не бойтесь, — сказал бы иностранец, сидя все так же неподвижно. — Non espia. Нечего хвататься за пушку (el pistola). Весь Мехико знает про ваш секретный поход, конспираторы (culos). Сам бы с вами пошел, но неохота.
— Почему же? — спросил бы молодой врач, оскорбленный в лучших чувствах.
— Вы хотите стрелять, — сказал бы иностранец. — А из стрельбы опять ничего не получится.
— Революцию не делают без стрельбы! — надменно повторил бы молодой свою любимую мысль, осенившую его когда-то под звездным небом Мачу-Пикчу.
— Со стрельбой делают seditin, — сказал бы иностранец. — A revolution делается вот тут, — и постучал бы пальцем по бритой голове.
— Che? — воскликнул бы возмущенный марксист.
— Che, che… — передразнил бы его иностранец. — Ни che у вас не получится. Надо как-то иначе. Вся надежда на климат.
Аргентинец потом часто его вспоминал, и особенно часто — под мохнатыми боливийскими звездами. Под такими звездами только стихи писать и стрелять. Как же может быть одно без другого? Если так и терпеть всё, что творится, незачем писать стихи. Аргентинец любил стихи. Если хорошо пишешь, обязательно в конце концов стреляешь.
Америка началась с тюрьмы: его задержали в американской половине Ларедо на восемь часов для заполнения длиннейшей анкеты. Из нее мы знаем, что при себе у него было 637 долларов, что пробыть в США он рассчитывал пять месяцев и что сложение его было оценено как крепкое. Перед въездом в Штаты он тщательно зачеркнул в записной книжке все строчки, могущие показаться предосудительными: «Радуйся, распятый Иисусе», «Надо обращаться в Коминтерн, в Москву» и «Ты балда, Колумб, скажу по чести. Что касается меня, то я бы лично — я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично». Наивная эта конспирация оказалась напрасной — бумаг не досматривали.
Три дня он ехал до Нью-Йорка экспрессом «XX century», в отдельном купе, в состоянии крайней растерянности, что и отражено в стихотворении «Мексика — Нью-Йорк»: «Теряй шапчонку, голову задеря, — все равно ничего не поймешь».
30 июля он был в Нью-Йорке. Сразу позвонил Бурлюку:
— Привет, Додик.
— Здравствуй, Володя, — спокойно отозвался Бурлюк. — Как поживаешь?
— Спасибо, — ответил Маяковский. — За последние семь лет у меня был как-то насморк.
Но Бурлюк вообще был невозмутимый человек, а так-то он очень обрадовался. Примчался на Пятую авеню. Придирчиво осмотрел друга и нашел не слишком переменившимся. Зашел даже в ванну, где он смывал «мексиканскую пыль». В воспоминаниях Бурлюка есть одна двусмысленность — Маяковский, сказано там, «сыплет кирпичи своих острот»: конечно, старый друг ничего дурного в виду не имел, а все-таки оно не слишком комплиментарно.
— Вовремя я уехал из Мексики. Чуть не втяпался в охоту на львов…
Вероятно, говорили не только о Мексике, но Бурлюк, понятное дело, политику не упоминает вовсе. Воспоминания писаны в расчете на советскую публикацию.
Вместе они отправились к Чарлзу Рехту, юрисконсульту «Амторга», чеху по происхождению. С Маяковским Рехт познакомился во время своего визита в Москву годом ранее. Пошли гулять по Бродвею. Неделю спустя Маяковский отписался на эту тему:
- А лампы
- как станут
- ночь копать,
- ну, я доложу вам —
- пламечко!
- Налево посмотришь —
- мамочка мать!
- Направо —
- мать моя мамочка!
- Есть что поглядеть московской братве.
- И за день
- в конец не дойдут.
- Это Нью-Йорк.
- Это Бродвей.
- Гау ду ю ду!
- Я в восторге
- от Нью-Йорка города.
- Но
- кепчонку
- не сдерну с виска.
- У советских
- собственная гордость:
- на буржуев
- смотрим свысока.
Почему свысока и в чем заключается гордость — неясно. Видимо, проблема в том, что американцы, гуляющие по Бродвею, думают исключительно о деньгах, и даже ребенок «сосет, как будто не грудь, а доллар — занят серьезным бизнесом». Советские дети, понятно, сосут не так — у них это не бизнес, а творческий труд.
Депрессия его усугубляется тем, что вокруг него начинает косить людей, и снаряды ложатся все ближе: во второй половине двадцатых это станет одной из главных причин его нарастающего невроза.
Он поселился у Исая Хургина, председателя «Амторга», которого должен был сменить Эфраим Склянский, соратник Троцкого и его заместитель в Реввоенсовете. «Амторг», созданный в 1924 году, за отсутствием посольства и торгпредства брал на себя их функции. Хургин был человек деловитый и обаятельный, его в Америке любили. 27 августа он утонул при обстоятельствах не столько загадочных, сколько нелепых, что породило всевозможные слухи. «Известия» 29 августа писали так: «26 августа Склянский и Хургин прибыли в дачную местность Лонглейк (на севере штата Нью-Йорк) на совещание с некоторыми ответственными сотрудниками советских учреждений в Соед. Штатах. Лонглейк был выбран как наиболее удобный пункт, поскольку участники совещания съезжались из различных городов. 27 августа совещание закончилось. Оставалось несколько свободных часов до отъезда. Хургин предложил покататься на лодке по озеру Лонглейк. На пристани находилась моторная лодка, но механика не было. Решено было взять 2 каика и одну лодку. Склянский сел вместе с Хургиным. Товарищ председателя Амторга Краевский взял другой каик, а остальные 2 участника совещания сели в лодку. Хургин бывал на этом озере раньше и шел во главе флотилии. Лодка держалась берега, а каики ушли на середину, где начались водовороты. Краевский предложил возвратиться, но Хургин заявил, что он хороший пловец и умеет справляться с каиком. Так как каик Краевского начал наполняться водой, он повернул к берегу. Хургин сказал, что последует за ним через несколько минут. На берегу Краевский застал пассажиров лодки, и они стали дожидаться Склянского и Хургина. Прождав некоторое время, Краевский и его спутники добыли моторную лодку и направились на поиски каика. В течение минут 20 они не могли его обнаружить и лишь случайно успели заметить каик Склянского и Хургина в тот момент, когда он переворачивался. Когда моторная лодка дстигла места катастрофы, там находилось уже несколько лодок, поспевших с берега. Никто не решался нырять, так как было известно, что это наиболее опасное место на озере и там, по словам местных жителей, погибло уже много людей. Лишь через 15 минут удалось раздобыть багры и через 20 минут найти Склянского. Вернуть его к жизни не удалось. Хургина нашли через полтора часа. Глаза его были широко раскрыты, он, по-видимому, нырял, стараясь спасти Склянского».
Версия о политическом убийстве — причем мишенью явно был не Хургин, а Склянский, — пошла гулять после мемуаров сталинского секретаря Бориса Бажанова, бежавшего на Запад через Иран и Индию в 1928 году: «Мы с Мехлисом немедленно отправились к Каннеру и в один голос заявили: „Гриша, это ты утопил Склянского“. Каннер защищался слабо: „Ну, конечно, я. Где бы что ни случилось, всегда я“. Мы настаивали, Каннер отнекивался. В конце концов я сказал: „Знаешь, мне, как секретарю Политбюро, полагается все знать“. На что Каннер ответил: „Ну, есть вещи, которые лучше не знать и секретарю Политбюро“».
Григорий Каннер — «секретарь Сталина по темным делам», как называет его Бажанов; темные дела, вероятно, действительно были, поскольку в 1937 году Сталин его убрал. Доказательств убийства нет никаких, а в какой мере можно верить Бажанову — вопрос: несомненно только, что это был человек исключительной проницательности и хитрости. Он умудрился не только сбежать на Запад, но и уцелеть в результате нескольких похищений; его книга «Записки секретаря Сталина» стала в 1930 году мировой сенсацией, приказы ликвидировать его поступали регулярно, а он благополучно дожил до 1982 года. (Любопытно, что посланный уничтожить его агент сам сбежал за границу, что и спасло Бажанова.) Перемещение Склянского в Штаты после снятия его с поста зампреда Реввоенсовета — воспринятое им, кстати, с радостью, поскольку он желал посмотреть мир, — было частью борьбы с Троцким. После короткого периода руководства «Моссукном» — поистине эти большевистские менеджеры с равным рвением брались за организацию всего на свете! — он отбыл в Штаты сменять Хургина и уже на третий день погиб. ФБР провело расследование и никаких следов убийства не обнаружило, зато установило, что все участники загородной прогулки были жестоко пьяны, что, вероятно, вкупе с внезапно испортившейся погодой их и погубило. Маяковского потрясла смерть Хургина (со Склянским он был едва знаком). Он лично нес урну с его прахом на пароход, отплывающий в СССР. Не сохранился документальный фильм о траурном митинге, где Маяковский был почти в каждом кадре.
А месяц спустя, тоже в Штатах, он узнал, что застрелили мексиканского коммуниста Франсиско Морено — угрюмого авантюриста, не расстававшегося с револьвером. Морено был убит 15 сентября за разоблачение коррупции в штате Веракрус: губернатор Хара, которого иногда называли даже большевиком, получил миллионную взятку от американской нефтяной компании, добивавшейся льготных условий для концессии. Маяковский писал о мексиканской политике: «Чехарда президентов, решающий голос кольта, никогда не затухающие революции, сказочное взяточничество, героизм восстаний, распродажа правительств»… Если все решает кольт — что удивляться гибели? Что ему действительно нравилось в Мексике — так это интенсивность жизни: одних давят автомобилями, других убивают за политику. Живи быстро, умри молодым.
Но все-таки две смерти людей, с которыми только что успел познакомиться, — это за месяц многовато. Дальше было больше: в декабре этого же года — Есенин. Потом — Дзержинский, Нетте, Войков, Блюмкин, Силлов, многие еще, в разной степени близкие к нему. И все это были революционеры, и не просто так он в двадцать девятом говорил Светлову, что опасается высылки.
ДВЕНАДЦАТЬ ЖЕНЩИН. ЭЛЛИ
Вряд ли была в восьмидесятых более сенсационная тема в литературоведении, чем роман Маяковского с Элли Джонс и американская дочь Патрисия, которой неожиданно разрешили заявить о себе. Патрисия с сыном приехала тогда в Москву, и все поразились сходству красивой старой американки с отцом, грубой, резкой лепке ее торжественного лица. И темперамент отцовский — всю жизнь боролась за права женщин; и высокий рост при замечательной фигуре, и сильный голос. Я видел ее однажды, уже в начале нового века, на литературном приеме в российском консульстве в Нью-Йорке. Было чувство полной нереальности — нереальнее, чем когда в Москву в 1989 году приезжала Берберова и выступала во Дворце культуры АЗЛК.
Они с Бурлюком познакомились с Элли на приеме у Черча и вскоре — универсальный способ знакомства — оба сделали с нее наброски. Эти портреты сохранились. У Бурлюка — обычная женщина, миловидная и волевая; у Маяковского — мощный психологический портрет, огромные, тревожные, безумные глаза. Он спросил, знает ли она его стихи.
— На выступлениях никогда не была, но стихи знаю.
— Все красивые девушки так говорят. А когда я спрашиваю, какое стихотворение они читали, отвечают: одно длинное и одно короткое.
— Коротких ваших я не знаю, только рекламные.






