Маяковский. Самоубийство, которого не было Быков Дмитрий
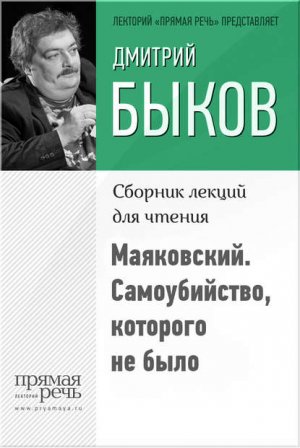
«Надо ли ставить „Мистерию-Буфф“? Казалось бы, вопрос несколько странный. Ведь ее готовят к постановке, в чем же дело? А дело в следующем. Как и у многих вещей, так и у моей „Мистерии-Буфф“ есть некоторая эпопея. Вот в чем она заключается.
Три года тому назад, начатая еще в эпоху Февральской революции, за две или три недели до празднования Октябрьской годовщины она была готова. Решено было ее поставить. Я не буду говорить о тех палках, которые втыкались в ее колеса. Но ее решено было поставить, и вывел ее на свет божий А. В. Луначарский в своей книжке „Речь об искусстве“, где он писал: „Впервые в истории мировой революции дана пьеса, идентичная всему ходу мировой революции. Я видел, какое впечатление она производит на рабочих. Она их очаровывает“. Не правда ли, крещение пьесы довольно хорошее. Но после третьего спектакля в дело вмешались другие — некто Левинсон, бывший критик из „Речи“, который также настаивал на полном своем знакомстве с пролетарской психологией и указал, что пьеса — определенно подмазывающаяся к пролетариату. Пьеса была снята с репертуара. Через три дня один из рабочих, именно заведующий распределением билетов Лебедев, писал в „Искусство коммуны“: „Я считаю недопустимым снять эту пьесу с репертуара, потому что в дни Октябрьской годовщины в Петрограде самый большой спрос на билеты был именно на эту пьесу“. Тогда „на защиту коммунистических идей“ выступила Мария Федоровна Андреева, которая тоже говорила, что она лучше всего понимает психологию рабочих; это — ерунда; пьесу надо снять; она недоступна пониманию рабочих масс».
Кстати, о Левинсоне: он в 1930 году, уже эмигрировав, написал о Маяковском мерзкий пасквиль, вызвавший протесты и среди эмиграции, и среди французских литераторов. Эренбург вспоминал: «Был в Петербурге литератор Андрей Левинсон, который считался знатоком хореографии. В 1918 году в журнале „Жизнь искусства“ он опубликовал пасквиль на Маяковского. (В десятом номере „Жизни искусства“ от 11 ноября 1918 года — „„Мистерия-Буфф“ Маяковского“; ответ — коллективное письмо от 21 ноября и заметка Луначарского „О полемике“, тоже в защиту Маяковского, 24 ноября. — Д. Б.) Ему тогда ответили и многие художники, и А. В. Луначарский. Андрей Левинсон уехал в Париж. Когда пришло известие о трагической смерти Маяковского, он напечатал в газете „Ле нувель литтерер“ отвратительную клеветническую заметку. Вместе с несколькими французскими писателями я составил письмо в редакцию этой газеты, выражавшее наше негодование. Под письмом подписались все пристойные писатели Франции самых различных воззрений; не помню, чтобы кто-нибудь отказался поставить свою подпись. Я отнес письмо редактору Морису Мартен дю Гару. (Это был малопримечательный литератор, никак не похожий на большого писателя Роже Мартен дю Гара.) Редактор спокойно прочитал чрезвычайно резкое письмо и сказал: „Я попрошу вас сделать одно маленькое изменение“. Я ответил, что текст не может быть смягчен. „Я этого и не прошу. Но, может быть, вы прибавите во фразе ‘мы возмущены тем, что литературная газета’ два слова — ‘самая крупная литературная газета’“. Он соглашался получить пощечину, но просил отметить, что щека у него большая. Маяковский об этом, наверно, хорошо бы написал…» Пощечина, кстати, была — ее лично Левинсону дал Арагон. Берберова упоминает, что французские сюрреалисты устроили на квартире Левинсона погром. Многие, впрочем, сегодня считают, что Левинсон был талантливый критик (среди балетных — просто лучший в России), а ненависть его к советской власти вполне объяснима, да и в Маяковском он видел прежде всего жертву режима, человека с талантом, «вошедшего в штопор», пошедшего в услужение к «убийцам русской души», как называл он большевиков в статье 1921 года «Там, где была Россия»: «Я должен говорить о тех из нас, кто погибает, потому что паек имеет». Маяковский, видимо, принадлежал в его глазах к этой категории. Интересно, что Левинсон всего лишь назвал пьесу натужной и вымученной — а Маяковский в ответ потребовал над ним общественного суда и организовал коллективное письмо в свою поддержку; разница показательная.
Но продолжим:
«Уложив пьесу в чемодан, я поехал в Москву, где она читалась ко дню Октябрьской годовщины. В МОНО нашли ее великолепной для постановки, потому что действительно тогда не было других пьес и даже намеков на революционные пьесы.
Пьесу решено было ставить в Москве, но на „защиту коммунистической точки зрения“ выступил Комиссаржевский, который говорил, что пьеса не годится, пролетариат ее не поймет (точных слов не помню). (Федор Комиссаржевский, брат великой актрисы, вскоре после этого эмигрировал. — Д. Б.) Ко дню первомайской годовщины я выволок ее на свет божий и уже не сунулся с ней к главкам и центрам, а пошел к революционным актерам, к революционной молодежи и художникам, и на общем собрании учащихся первых государственных мастерских (Училище живописи, ваяния и зодчества, бывшее Строгановское), консерватории, филармонии вкупе с рабочими училища было решено подготовить постановку пьесы на Лубянской площади. Тогда пьесу передали для рассмотрения в МОНО, в майскую комиссию, и тогда за „поруганные права коммунизма“ выступил Фриче, который сказал, что пьесы пролетариат не поймет. Ее снова сняли с репертуара.
Через год почти на заседании Политпросвета подбирали репертуар ко дню вот этой Октябрьской годовщины, начали набирать и наскребать пьесы, причем внесена была и подверглась обсуждению моя пьеса, и была признана единственной пьесой, не только революционной, но отчасти и коммунистической. И решено было ее ставить. И тут на сцену, как „защитник коммунистических идей“, вынырнул Чижевский, который нашел пьесу опять-таки с точки зрения пролетариата недопустимой.
Не имея времени и возможности всем и каждому доказывать и объяснять, что это за пьеса, какая она, — я предпринял объезд районов, где я читал рабочим мою пьесу. При голосовании из аудитории Рогожско-Симоновского района (не знаю, сколько человек точно, но вмещается всего 650 человек) против пьесы подняли руки 5 человек, а за пьесу все остальные, то есть около 645 человек рабочих и красноармейцев. Но этих товарищей недостаточно, и если сегодня мы (я вызывал сюда представителей всей Москвы, ЦК РКП, Рабкрина, Всерабиса и прочих организаций), и если мы сегодня, придя сюда, найдем эту пьесу заслуживающей внимания, — я льщу себя надеждой, что уже не выступит какой-нибудь Воробейчиков от имени пролетариата и не будет требовать снятия ее с репертуара. Мне хождения по мукам в течение трех лет страшно надоели.
Итак, приступаю к чтению пьесы. Пьеса дана как была, в зависимости от новых, нарастающих обстоятельств, она будет переделываться. Когда я умру, она будет переделываться другими и, может быть, от этого станет еще лучше».
На этом диспуте к Маяковскому предъявлялись обычные формальные претензии (любой, кто приносил пьесу в театр и выслушивал там ее обсуждение, от кого-нибудь обязательно слышал именно это): в пьесе нет «нарастания драматического напряжения». Маяковский взорвался:
— Какое нарастание? Я не знаю никакого нарастания! Бывает в медицине нарастание прыща, а в театре должно бросать в жар и в холод, и это я вам гарантирую!
(Точно так же, когда его упрекали в том, что в «Бане» нет драматической интриги, что у него ружье не стреляет, — он отвечал: «По-моему, если в первом акте на сцене висит ружье, во втором оно должно исчезнуть».)
В статье 1927 года «Только не воспоминания» — к десятилетнему юбилею революции — Маяковский несколько иначе излагал историю «Мистерии», хотя общий смысл неизменен, разве что роль Комиссаржевского изменилась:
«„Мистерию Буфф“ я написал за месяц до первой октябрьской годовщины.
В числе других на первом чтении были и Луначарский и Мейерхольд.
Отзывались роскошно.
Окончательно утвердил хорошее мнение шофер Анатолия Васильевича, который слушал тоже и подтвердил, что ему понятно и до масс дойдет.
Чего же еще?
А еще вот чего:
„Мистерия“ была прочитана в комиссии праздников и, конечно, немедленно подтверждена к постановке. Еще бы! При всех ее недостатках она достаточно революционна, отличалась от всех репертуаров.
Но пьесе нужен театр.
Театра не находилось. Насквозь забиты Макбетами. Предоставили нам цирк, разбитый и разломанный митингами.
Затем и цирк завтео М. Ф. Андреева предписала отобрать.
Я никогда не видел Анатолия Васильевича кричащим, но тут рассвирепел и он.
Через минуту я уже волочил бумажку с печатью насчет палок и насчет колес.
Дали Музыкальную драму.
Актеров, конечно, взяли сборных.
Аппарат театра мешал во всем, в чем и можно и нельзя. Закрывал входы и запирал гвозди. Даже отпечатанный экземпляр „Мистерии Буфф“ запретили выставить на своем, овеянном искусством и традициями, прилавке.
Только в самый день спектакля принесли афиши — и то нераскрашенный контур — и тут же заявили, что клеить никому не велено.
Я раскрасил афишу от руки.
Наша прислуга Тоня шла с афишами и с обойными гвоздочками по Невскому и — где влезал гвоздь — приколачивала тотчас же срываемую ветром афишу.
И наконец в самый вечер один за другим стали пропадать актеры.
Пришлось мне самому на скорую руку играть и „Человека просто“, и „Мафусаила“, и кого-то из чертей.
А через день „Мистерию“ разобрали, и опять на радость акам занудили Макбеты. Еще бы. Сама Андреева играла саму Лэди. Это вам не Мафусаил!
(Все-таки не мог он не ущучить жену Горького, хотя бы и гражданскую, хотя бы и бывшую. — Д. Б.)
По предложению О. Д. Каменевой я перекинулся с „Мистерией“ в Москву.
Читал в каком-то театральном ареопаге для самого Комиссаржевского.
Сам послушал, сказал, что превосходно, и через несколько дней… сбежал в Париж.
Тогда за „Мистерию“ вступился театральный отдел, во главе которого встал Мейерхольд.
Мейерхольд решил ставить „Мистерию“ снова.
Я осовременил текст.
В нетопленных коридорах и фойэ первого театра РСФСР шли бесконечные репетиции.
В конце всех репетиций пришла бумага — „ввиду огромных затрат и вредоносности пьесы таковую прекратить“.
Я вывесил афишу, в которой созывал в холодный театр товарищей из ЦК и МК, из Рабкрина. Я читал „Мистерию“ с подъемом, с которым обязан читать тот, кому надо не только разогреть аудиторию, но и разогреться самому, чтобы не замерзнуть.
Дошло.
Под конец чтения один из присутствующих работников Моссовета (почему-то он сидел со скрипкой) заиграл Интернационал — и замерзший театр пел без всякого праздника.
Результат „закрытия“ был самый неожиданный — собрание приняло резолюцию, требующую постановки „Мистерии“ в Большом театре.
Словом — репетиции продолжались.
Парадный спектакль, опять приуроченный к годовщине, был готов.
И вот накануне приходит новая бумажка, предписывающая снять „Мистерию“ с постановки, и по театру РСФСР развесили афиши какого-то пошлейшего юбилейного концерта. Немедленно Мейерхольд, я и ячейка театра двинулись в МК. Выяснилось, что кто-то обозвал „Мистерию“ балаганом, не соответствующим торжественному дню, и кто-то обиделся на высмеивание Толстого (любопытно, что свое негодование на легкомысленное отношение к Толстому высказал мне в антракте первого спектакля и Дуров).
Была назначена комиссия под председательством Драудина. Ночью я читал „Мистерию“ комиссии. Драудин, которому, очевидно, незачем старые литтрадиции, становился постепенно на сторону вещи и под конец зашагал по комнате, в нервах говоря одно слово:
— Дуры, дуры, дуры!
Это по адресу запретивших пьесу.
„Мистерия Буфф“ шла у Мейерхольда 100 раз. И три раза феерическим зрелищем на немецком языке в цирке, в дни третьего Конгресса Коминтерна.
(На немецкий „Мистерию“ перевела Рита Райт — тогда студентка Брюсовского института и самая молодая сотрудница мастерской РОСТА; впоследствии она стала классиком советского перевода, автором прелестной мемуарной статьи о Маяковском „Только воспоминания“. — Д. Б.)
И это зрелище разобрали на третий день — заправилы цирка решили, что лошади застоялись.
На фоне идущей „Мистерии“ продолжалась моя борьба за нее.
Много месяцев я пытался получить свою построчную плату, но мне возвращали заявление с надписями или с устной резолюцией:
— Не платить за такую дрянь считаю своей заслугой.
После двух судов и это наконец разрешилось уже в Наркомтруде у т. Шмидта, и я вез домой муку, крупу и сахар — эквивалент строк.
Есть одна распространеннейшая клевета — де эти лефы обнимаются с революцией постольку, поскольку им легче протаскивать сквозь печать к полновымьим кассам свои произведеньица. Сухой перечень моих боев за „Мистерию“ достаточно опровергнет этот вздор. То же было и с „150 000 000“, и с „Про это“, и с другими стихами. Трудностей не меньше. Непосредственная трудность борьбы со старьем, характеризующая жизнь революционного писателя до революции, заменилась наследством этого старья — эстетической косностью. Конечно, с тем прекрасным коррективом, что в стране революции в конечном итоге побеждает не косность, а новая левая революционная вещь.
Но глотку, хватку и энергию иметь надо».
При его жизни «Мистерия» больше не ставилась и уж тем более никем не осовременивалась; попытка Евгения Симонова в 1982 году вернуть ее на сцену хорошо мне помнится — он-то как раз попытался изменить пьесу, добавив туда стихи Маяковского, и все старались, и был в этом даже некоторый веселый вахтанговский дух, — но позднезастойный год только подчеркивал всю несвоевременность, даже музейность этой пьесы. А если когда-нибудь и настанут в России веселые времена, главными действующими лицами в этих событиях будут никак не пролетарии, да и веселья особого, кажется, не предвидится.
Революция — как потоп, не повторяется. Господь — главный художник — не любит ремейков.
То, что в первый раз происходит как потоп и заканчивается ковчегом, во второй раз повторяется как Гоморра.
СОВРЕМЕННИКИ: ЛУНАЧАРСКИЙ
С Луначарским тоже вышло не совсем хорошо.
Познакомились они, как явствует из письма Луначарского жене от 1 июля 1917 года, в этот самый день, в редакции горьковской «Новой жизни», на собрании редколлегии предполагавшегося сатирического журнала «Тачка». Маяковскому было 24, Луначарскому — 41, он полтора месяца как вернулся из Швейцарии, оставив там семью. За плечами у него была бурная, но, в общем, успешная революционная карьера, а все почему? Потому что он никогда не ссорился с Лениным, в которого был влюблен как курсистка. Это видно из его мемуаров. И Ленин ему симпатизировал, называя человеком исключительной одаренности; они не поссорились, даже когда Луначарский увлекся богостроительством и вместе с Горьким создал на Капри партийную школу с идеалистическим уклоном. Ленин его дразнил «Миноносец „Легкомысленный“», и, как большинство ленинских кличек — «Иудушка Троцкий», «помещик, юродствующий во Христе» (о Толстом), «Каменная задница» (о Молотове), эта — прилипла. В Луначарском действительно сочетались некоторая тяжеловесность риторических конструкций и чрезвычайная легкость их генерирования: он мог без подготовки произнести увлекательную, полную цитат речь на любую тему, сочинял декадентские вирши и символистские драмы, да и в жизни часто вел себя, как на сцене. Чего у него не отнять — помимо широчайшей эрудиции, которая почти всегда есть следствие хорошей памяти, — так это двух вещей: во-первых, критиком он был превосходным, зорким, безжалостным (хотя, как почти всегда, в собственных сочинениях этот вкус ему часто изменял); во-вторых, он любил культуру самозабвенно и глубоко, любил больше, чем себя в культуре, и спокойно выслушивал критику; в качестве наркома просвещения он был, вероятно, лучше всех советских и постсоветских министров культуры. У Эдварда Радзинского описан замечательный эпизод: к советскому скульптору заявляется комиссия принимать композицию памяти павших в Великой Отечественной. Родина-мать разинула рот в скорбном крике.
— Чего она у вас кричит? — брюзгливо спрашивает министр.
— Она зовет Луначарского, — тоскливо отвечает скульптор.
И вот с этим наркомом у Маяковского были чрезвычайно неровные отношения. Оно и понятно, если учесть, что Луначарский — после первой же встречи охарактеризовавший его как «преталантливого молодого полувеликана, зараженного кипучей энергией, на глазах идущего в гору и влево», — отзывался о нем со странной смесью любви и раздражения. Вот исчерпывающая — не опубликованная, но Маяковскому, видимо, показанная, коль скоро он на нее отозвался стихотворением «Той стороне», — главка из статьи «Ложка противоядия» (ее впервые напечатали в том самом томе «Литературного наследства» «Новое о Маяковском», который был изруган специальным постановлением ЦК):
«Но вот Вл. Маяковский меня серьезно озабочивает.
Это очень талантливый человек. Правда, за новой формой, грубоватой, но крепкой и интересной, у него скрываются, в сущности, очень старые мысли и очень старый вкус. Что такое лирика Маяковского? Рядом с молодым самомнением лирическое подвывание насчет неудавшейся любви и непризнания юного гения жестокой толпою. Это ли ново? Я ни разу не вычитал у Маяковского (которого люблю читать) ни одной крупицы новой мысли, не высмотрел ни одной искры нового чувства. Я порадовался, как большому прогрессу, когда от трафарета миловатой романтики он перешел к трафарету революционно-коллективистическому. Если отделить форму Маяковского и взвесить только содержание — то оно окажется чрезвычайно съежившимся и в смысле новизны, почти не существующей.
Все-таки это талантливый человек. Со временем можно ожидать от него большей зрелости ума и сердца, а своеобразия в формальном мастерстве он уже добился высокого.
И вот пугает слишком надолго затянувшееся отрочество. Владимир Маяковский — недоросль.
В самом деле, мальчишке можно простить, когда он каждые десять минут бьет себя в грудь, как в турецкий барабан, и петушиным голосом вещает: „Я — гений, смотрите на меня все: вот гений“.
Можно простить с грехом пополам такому мальчишке, когда он завидует старшим братьям по Парнасу и не может говорить об них без ненависти, когда ему кажется, что великие мертвецы в своих вечно живых произведениях ужасно мешают успеху его собственного рукоделия и когда он хочет видеть себя первым мастером на оголенной земле и среди забывших прошлое людей: так легче, без конкурентов. Можно не только снова открыть Америку, но даже поразить своей оригинальностью, выдумав сахарную воду.
Но все эти аллюры непростительны для мужа, которым пора уже становиться Маяковскому.
Гений конгениален гениям. Гений бывает потрясен всякой красотою, гений великодушен к другим гениям, братски-любвеобилен и нежен к ним, гений не может вымолвить тех задорно-безвкусных слов о Пушкине, скажем, какими пачкает свой рот Маяковский.
Я понимаю, что уродство самовосхваления и о плевания высоких алтарей, что беготня с осиновым колом между могилами великанов — могли произойти от того, что слишком долго запирали молодой талант. Но всему есть мера. Если Маяковский будет продолжать тысячу раз голосить все одно и то же, а именно — хвалить себя и ругать других, то пусть он мне поверит: кроме отвращения он ничего к себе не возбудит.
Я искренно расположен к его большому дарованию. Я радуюсь повороту этого дарования к революционному содержанию, но меня болезненно шокирует, заставляет кривиться от стыда за Маяковского, когда я слышу раскаты гулкой саморекламы и когда начинается эта, поистине бездарная и только бездарности свойственная песня зависти к славе славных.
Я говорил многим, которых также мучительно била по нервам эта жалкая черта в многообещающем человеке: подождите, теперь он получил свою долю славы, теперь он подрос; в желтой кофте, кофте зависти и рекламы, ему нет больше нужды.
И мне горько, что на первой странице „Искусства коммуны“ я встречаю милого Владимира Владимировича опять в этом смешном и гнусном туалете».
Полемика Маяковского с Луначарским в это время идет еще по линии отношения к пресловутой классике, но не только в этом дело; Луначарский не любит футуризм — но и это простительно, Чуковский его тоже не любил; куда серьезнее упрек в том, что Маяковский не говорит ничего нового. Одной формальной новизной в искусстве сыт не будешь — нужно не только новое слово, но и новая мысль; Маяковский — это «ни одной крупицы новой мысли», «ни одной искры нового чувства». Положим, к «Облаку» это еще не вполне применимо — там новая мысль или по крайней мере новое лирическое самоощущение есть, мы о нем пытались сказать; но в остальном, увы, Луначарский прав — даже нравящийся ему «Человек» эмоционально могуч, но содержательно весьма беден. Уитмен, прочитавший Блока: «Листья травы», помноженные на «Пляски смерти».
Луначарский и потом демонстрировал исключительную глубину при любом критическом разговоре о Маяковском, даже не рассчитанном на публикацию (была у него эта прелестная черта — с равным артистизмом и равной самоотдачей выступать на многотысячных митингах и в дружеских компаниях, писать статьи и семейные письма). Вот его отзыв 1918 года о «Мистерии-буфф» — безупречно точный:
«Общий замысел превосходен, есть множество интересных подробностей, любопытнейших отдельных афоризмов и блесток, но в общем и целом вещь риторична. Комическое удается лучше, а там, где дело в пафосе, то появляется то самое „красноречие“, о котором еще Верлэн говорил, что ему следует свернуть шею, — красноречие, мало согретое внутренним чувством, длинное. Это особенно заметное в появлении человека будущего. Когда роль исполнял сам Маяковский, его исключительные данные как-то мешали рассмотреть пустоту и напряженность речи человека будущего. Вчера он меня сильно шокировал, и я вполне разделял мнение члена коллегии Наркомюста, который сказал мне, что это место в значительной степени портит впечатление просто своей относительной бездарностью. Действительно, у этого человека будущего, придающего своим словам значение Нагорной проповеди, смесь напыщенности с каким-то несколько хулиганским (типа хулигана из „Двенадцати“) романтизмом, вроде „Ко мне — кто всадил спокойно нож и пошел от вражьего тела с песнею“, а рядом — порядочного мещанства, вроде: „Мой рай — в нем залы ломит мебель, услуш электрических покой фешенебелен“. Самая рифма тут какая-то северянинская (отличное замечание! — Д. Б.) и образы ультрабуржуазные.
Если менее интенсивно неприятно, то зато экстенсивно более значительно другое отрицательное явление — известная монотонность типов пролетариата. (С экивоками, но приближаемся к сути. — Д. Б.) Правда, может, этим хотели передать их массовость, но получается так, что они ходят по всему миру и вне мира, встречают яркие образы, а сами остаются не яркими, и все, что они говорят, — это все-таки риторика, не лучше, а хуже, чем риторика многих поэтов Пролеткульта. Правда, я по собственному опыту знаю, как трудно изображать пролетариат, и я поэтому не осуждаю Маяковского, что пролетариат у него беден. Надо во что бы то ни стало научиться нам, новым писателям, индивидуализировать их так же, как мы индивидуализируем наших врагов <…>. Наконец, совсем не коммунизм, а самый настоящий хулигано-футуризм, которого так много еще в Маяковском, сказывается в этом попутном лягании мертвого льва — Толстого или хотя бы Руссо. Я чувствую это. Коммунисты относятся к своим предшественникам — а Толстой и Руссо во многом являются таковыми — с глубоким почтением. Для коммунистов культурных это лягание граничит с подлинным кощунством. Мы знаем, что такое кощунство, и если бы кто-нибудь лягнул Маркса, мы не потерпели бы. У футуристов же пиэтета нет. Они полны прежде всего не столько здоровой, сколько здоровеннейшей завистью ко всему, что славно. Отсюда такие выходки. Это тоже страх, который в моих глазах всегда был и останется язвой на теле „мистерии“.
Очень плох финал. Он страшно словесен и жидок. Конечно, артист очень хорошо взбирается в ложу <…>. А теперь, когда соседняя ложа заполняется советскими барышнями, то публика совсем сбивается с толку. Все разговоры непонятны и неприятны. Несколько лиц обратилось ко мне с вопросами, почему рабочие говорят барышням: „Мы будем вас делать, а вы нас питать“, — какую черту будущего строя хотел отметить этим автор? <…> Никакой новой страны не видно и ею не пахнет. Наш старый новый „Интернационал“ с новыми словами Маяковского дела спасти не может, и пьеса кончается довольно уныло. <…> И режисер подчеркнул этот недостаток, не давши даже того шествия вещей и даже той музыки, звона и грома, которыми сопровождается соединение очнувшегося труда с отдающейся ему материей. Здесь я не могу не отметить, что музыка гнуснейшая». Далее достается отрывкам из «Травиаты» — черти пели «Мы че-е-ерти, мы че-е-ерти…» на мотив «Налейте, налейте бокалы полней!».
Даже с добавлением необходимого финального комплимента, — дескать, «Мистерия» со всеми ее ошибками в десять раз выше таировского «Ромео и Джульетты», — рецензия выходит глумливая, особенно насчет «соединения очнувшегося труда с отдающейся ему материей»: умел приложить не хуже Маяка. Проблема в ином: все эти упреки следует адресовать уж никак не автору, потому что они относятся не к изображающей революцию «Мистерии», а к самому объекту изображения. Никакие «семь пар нечистых» русской революции не делали, и жить после нее они стали хуже, и власть досталась не им, а новому классу, по формулировке Джиласа; поэтому рай представлялся Маяковскому чистой абстракцией, царством изобилия и бесконфликтного потребления: «Скушно у вас, ох и скушно!» Но написать это прямее Луначарский, понятное дело, не мог — хотя и так проговорился о полной несостоятельности «мистериальной» футурологии. Будущее у Маяковского всегда было стерильно и абстрактно, и никогда в нем не было места ему самому и людям, похожим на него.
В 1918–1921 годах (позже — никогда, что делает честь его уму) у Маяковского периодически возникали иллюзии насчет того, что прежнее искусство будет упразднено, а футуризм объявят единственно революционным. В этом духе написан «Приказ по армии искусств», который вызвал у Луначарского весьма желчную реакцию.
- Канителят стариков бригады
- канитель одну и ту ж.
- Товарищи!
- На баррикады! —
- баррикады сердец и душ.
- Только тот коммунист истый,
- кто мосты к отступлению сжег.
- Довольно шагать, футуристы,
- В будущее прыжок!
- Паровоз построить мало —
- накрутил колес и утек.
- Если песнь не громит вокзала,
- то к чему переменный ток?
- Громоздите за звуком звук вы
- и вперед,
- поя и свища.
- Есть еще хорошие буквы:
- Эр,
- Ша,
- Ща.
- Это мало — построить парами,
- распушить по штанине канты.
- Все совдепы не сдвинут армий,
- если марш не дадут музыканты.
- На улицу тащите рояли,
- барабан из окна багром!
- Барабан,
- рояль раскроя ли,
- но чтоб грохот был,
- чтоб гром.
- Это что — корпеть на заводах,
- перемазать рожу в копоть
- и на роскошь чужую
- в отдых
- осоловелыми глазками хлопать.
- Довольно грошовых истин.
- Из сердца старое вытри.
- Улицы — наши кисти.
- Площади — наши палитры.
- Книгой времен
- тысячелистой
- революции дни не воспеты.
- На улицы, футуристы,
- барабанщики и поэты!
Напечатано это было в «Искусстве коммуны» — газете отдела ИЗО при Наркомпросе. Луначарский как глава наркомата не остался равнодушен к манифесту футуристов и несколько раз довольно резко окоротил их претензии на монополию в искусстве. В статье «Об отделе изобразительных искусств» (опубликована посмертно) он писал: «Дух конкуренции, царившей на буржуазном художественном рынке, стремление выделиться, привлечь к себе внимание, ажиотаж на художественной бирже очень дурно отзывались на этих лихорадочных поисках, принося сюда элемент кривляния, а порою даже шарлатанства.
Пролетариат же и наиболее интеллигентная часть крестьянства никаких этапов европейского и российского искусства не переживали и находятся совсем в другом пункте развития. Скажу определенно: пролетариату и крестьянству сейчас в тех грандиозных переживаниях, которые переполняют его душу, в искусстве важнее что, а не как.
Пролетариат и крестьянство возвращаются к тому благотворному и верному взгляду в искусстве, что оно есть род громовой и прекрасной человеческой речи, способ великой агитации путем возбуждения чувств.
Из этого не следует, чтобы рабочий класс и крестьянство, вообще большая народная публика в России, не сумели различить прекрасных форм и были бы к ним равнодушны. Искусство только тогда является этой священной речью, когда оно есть подлинное искусство. <…> Но для не искушенных всякими переживаниями замысловатого культурного развития людей естественнейшей формой является, если мы будем говорить о больших массах, форма классическая, ясная до прозрачности, выдержанная в своей торжествующей красивости или близкая к окружающей нас реальности, стилизующая ее только в смысле отвлечения от ненужных деталей.
Пролетариат и крестьянство будут требовать классического искусства, упирающегося, с одной стороны, в здоровый, крепкий, убедительный реализм, с другой стороны, в красноречивый прозрачный символизм в декоративном и монументальном роде».
Первая жена Луначарского Анна Алексеевна, передавая для полной публикации статью «Ложка противоядия» (первая ее половина была напечатана в «Искусстве коммуны», вторую газета самовольно отрезала), сообщила, что эту статью нарком написал после разговора с Лениным, обеспокоенным нигилистически-ниспровергательскими тенденциями в газете Наркомпроса. Впрочем, думается, взгляды Луначарского на ситуацию вполне совпадали с ленинскими — разве что он был чуть более терпим к авангарду. «Ложка» была преподнесена к обеду 29 декабря 1918 года. В напечатанной ее части говорилось резко и недвусмысленно: «Не говоря уже о том, что футуристы первые пришли на помощь революции, оказались среди всех интеллигентов наиболее ей родственными и к ней отзывчивыми, — они и на деле проявили себя во многом хорошими организаторами, и я жду самых лучших результатов от организованных по широкому плану Свободных худож. мастерских и многочисленных районных и провинциальных школ.
Но было бы бедой, если бы художники-новаторы окончательно вообразили бы себя государственной художественной школой, деятелями официального, хотя бы и революционного, но сверху диктуемого искусства.
Итак, две черты несколько пугают в молодом лике той газеты, на столбцах которой печатается это мое письмо: разрушительные наклонности по отношению к прошлому и стремление, говоря от лица определенной школы, говорить в то же время от лица власти».
Речь, как видим, не о футуризме как таковом, а именно о попытке футуризма позиционировать себя в качестве новой догмы, поддержанной властью; Луначарского (и Ленина, если он подсказал идею статьи) беспокоит именно это. Футуризм компрометирует власть, говоря от ее имени. Маяковскому это показалось тяжким оскорблением, и он нескоро смирился с тем, что снова оказался маргиналом.
Одна из крупных стычек между «слесарем и канцлером» — как, издеваясь над пьесой Луначарского «Канцлер и слесарь», называл их Маяковский, — случилась после постановки верхарновских «Зорь» у Мейерхольда 22 ноября 1920 года. По воспоминаниям Игоря Ильинского, игравшего небольшую роль фермера Гислена, «Зори» вышли в самом деле спектаклем переходным и не слишком удачным, — по крайней мере массовый зритель их не принял: «Условная постановка все же носила какой-то статуарно-декламационный характер, то ли хор вместо действующего народа также звучал холодно, а хаотические нагромождения в декорациях могли быть радостными только для тех, кто хотел во что бы то ни стало видеть что-либо новое в театре». Луначарский на обсуждении выступил очень резко и сразу исчез. Маяковский в своей речи ему громко возражал, а потом ответил открытым письмом, напечатанным в «Вестнике театра» от 30 ноября:
«Анатолий Васильевич!
Образовался целый класс людей, „не успевших ответить Луначарскому“.
На диспуте о „Зорях“ вы рассказали массу невероятнейших вещей о футуризме и об искусстве вообще и… исчезли. К словам наркома мы привыкли относиться серьезно, и потому вас необходимо серьезно же опровергнуть.
Ваши положения: 1) театр-митинг надоел, 2) театр — дело волшебное, 3) театр должен погружать в сон (из которого, правда, мы выходим бодрее), 4) театр должен быть содержательным, 5) театру нужен пророк, 6) футуристы же против содержания, 7) футуристы же непонятны, 8) футуристы же все похожи друг на друга и 9) футуристические же украшения пролетарских праздников вызывают пролетарский ропот.
Выводы: 1) футуризм — смердящий труп; 2) то, что в „Зорях“ от футуризма, может только „компрометировать“.
Начну с хвоста:
Что вы нашли в „Зорях“ футуристического? Декорации? Декорации супрематические. Где вы видели в России живопись футуристов? Вы назвали Пикассо и Татлина. Пикассо — кубист. Татлин — контр-рельефист. Очевидно, под футуризмом вы объединяете всё так называемое левое искусство. Но тогда почему же вы канонизируете академией Камерный театр? Или сладенький, дамский футуризм Таирова вам ближе к сердцу? Если вас компрометирует всё левое, то уничтожьте ТЕО с Мейерхольдом, запретите МУЗО с футуристом Арт. Лурье, разгоните ИЗО с Штеренбергом, закройте государственные художественные учебные мастерские, ведь декоратор „Зорь“ — Дмитриев — лауреат высших художественных мастерских, получивший первую премию. И вообще три четверти учащихся левые. И, конечно, запретите своего „Ивана в раю“».
(«Иван в раю» — «миф в пяти картинах», согласно авторскому обозначению, — создан в 1920 году не без прямого влияния «Мистерии-буфф». Нарком здесь выступил некоторым даже эпигоном футуриста, вследствие чего разница их уровней — всегда заставлявшая Луначарского говорить о Маяковском с некоторым восторженным придыханием, а критиковать с массой реверансов, — сделалась очевидна. «Миф» Луначарского — сочинение, для которого слово «дичь» непозволительно комплиментарно:
- Аддай-дай
- У-у-у
- Грр, бх, тайдзх.
- Авау, авау пхоф бх!
- Будь проклят, будь проклят,
- Родивший свет!
- Творцу мирозданья
- Прощения нет!
- Будь проклят, премудрый.
- Святой палач!
- О, хаос, о, дьявол,
- Над нами плачь!
- Ничего не скажешь, пхоф бх.)
«Ведь реплики из ада — это же заумный язык Крученых. И, наконец, запретите писать декорации всем, кроме Коровина. Ведь все декораторы — и Якулов, и Кузнецов, и Кончаловский, и Лентулов, и Малютин, и Федотов — различных толков „футуристы“. Тогда все силы сконцентрируйте на охране Коровина от естественных влияний времени. Не дай бог, этот декоратор умрет, то ведь тогда и правых не останется.
Но не найдете ли вы несколько неудобным „разъяснить“ столько компрометирующих? Ведь все эти люди — единственные из деятелей искусства, работающие всё время с Советской властью, и зачастую коммунисты.
Всё это оказалось смердящими трупами.
Анатолий Васильевич! Ваша любимая фраза: „Пролетариат — наследник прошлой культуры, а не ее упразднитель“. „Пролетариат пересмотрит прошлое искусство и сам отберет то, что ему необходимо“. Если с вашей точки зрения футуризм — венец буржуазного прошлого, то „пересмотрите“ и „отберите“, а теоретически те, кто умерли раньше, естественно, должны и больше смердеть.
Чем же чеховско-станиславское смердение лучше?
Или это уже мощи?
Футуристические украшения вызывают пролетарский ропот…
А разве Керенский не вызывал восторга? Разве его на руках не носили?
Чем же перевели вы этот нелепый восторг в справедливый гнев?
Агитацией. Пропагандой. Давайте агитировать за новое искусство, и, может быть, ропот перейдет в восторг. <…> Ведь это вы писали: „Футурист Маяковский написал ‘Мистерию-буфф’. Содержание этого произведения дано всеми гигантскими переживаниями настоящей современности, содержание, впервые в произведениях искусства последнего времени адекватное явлениям жизни“.
„Адекватное“, „впервые“. И вдруг смердит. Неудачное вам выражение подвернулось, не правда ли?
Футуристы непонятны…
А старое искусство понятно? Не потому ли рвали на портянки гобелены Зимнего дворца? Будем пропагандировать — поймут.
Нужен пророк…
А как же „ни бог, ни царь, ни герой“?
Театр погружает в сон…
А слияние актера с зрителем? Сонный не сольешься!
Театр — дело волшебное…
А разве пролетарий бывшие волшебства не переводит в разряд производства? „Искусство свыше“ — разве это не синоним „Власть от бога“? Разве это не придумано для втирания очков „высшей кастой“ — деятелями искусства?
Театр-митинг не нужен.
Митинг надоел? Откуда? Разве наши театры митингуют или митинговали? Они не только до Октября, — до Февраля не доплелись. Это не митинг, а журфикс „Дядей Ваней“.
Анатолий Васильевич! В своей речи вы указали на линию РКП — агитируйте фактами. ‘Театр — дело волшебное» и «театр — сон» — это не факты. С таким же успехом можно сказать: «театр — это фонтан».
Почему? Ну, не фонтан!
«Наши факты — „коммунисты-футуристы“, „Искусство коммуны“, „Музей живописной культуры“, „постановка ‘Зорь’ Мейерхольдом и Бебутовым“, „адекватная ‘Мистерия-буфф’“, „декоратор Якулов“, „150 миллионов“, „девять десятых учащихся — футуристы“ и т. д. На колесах этих фактов мчим мы в будущее.
Чем вы эти факты опровергнете?»
Луначарский ничем эти факты опровергать не стал. Очевидно, что письмо Маяковского — весьма благородное по своим мотивам, защищающее отважный и рискованный эксперимент Мейерхольда, — откровенно партийное и субъективное. Очевидно и то, что Мейерхольд, волшебно преобразившийся, — Ильинский вспоминает, как после изломанного, словно сошедшего с григорьевского портрета доктора Дапертутто странно было видеть Мейерхольда в шинели, в кепке с ленинским значком, прямого, немногословного, ничего не объясняющего актерам и редко прибегающего к «показам», — нуждался в защите: он делал первые шаги по новой территории, и его упрекали в предательстве не реже, чем Блока. Ему важно было показать не безупречный, не «хороший», а — другой спектакль, и в этом смысле «Зори», при всей их абстрактности и ходульности, были событием знаменательным. Иное дело, что Луначарский был прав в главном: пролетарию все это было даром не нужно. И никакой пропагандой нельзя было заставить пролетария любить футуристическое искусство. Пролетариат, конечно, сделал революцию не для того, чтобы ходить в Малый театр. Он сделал ее, чтобы ходить в синематограф.
Небольшое отступление.
Весьма вероятно, что именно поэтому, осознав неосуществимость своей эстетической утопии, Маяковский не стал дописывать самую радостную, самую эйфорическую свою поэму «Пятый интернационал» — о торжестве коммуны и нового искусства в ней, о мировой войне, о XXI веке, в котором настал коммунистический рай. Поэма эта — неоконченная и самим автором почти не исполнявшаяся на вечерах — осталась малоизвестной и малочитаемой, а зря. Это — своего рода «Облако в штанах», переписанное в мажоре, и не хуже «Облака»: там поэт учится вытягивать шею так высоко, чтобы видеть весь земной шар. Получается очень весело:
- Мира половина —
- кругленькая такая —
- подо мной,
- океанами с полушария стекая.
- Издали
- совершенно вид апельсиний;
- только тот желтый,
- а этот синий.
Дальше пошла совершенная уже фантастика, небесные сферы — и если раньше, в «Облаке», все было глухо, безответно, — теперь сама Вселенная поет в мажоре. Позволим себе обширную выписку — эту вещь мало кто цитирует, а перечитывать ее большое наслаждение:
- Тишь.
- И лишь просторы,
- мирам открытые странствовать.
- Подо мной,
- надо мной
- и насквозь светящее реянье.
- Вот уж действительно
- что называется — пространство!
- Хоть руками щупай в 22 измерения,
- Нет краев пространству,
- времени конца нет.
- Так рисуют футуристы едущее или идущее:
- неизвестно,
- что вещь,
- что след,
- сразу видишь вещь из прошедшего в грядущее.
- Ничего не режут времени ножи.
- Планеты сшибутся,
- и видишь —
- разом
- разворачивается новая жизнь
- грядущих планет туманом-газом.
- Некоторое отступление. —
- Выпустят из авиашколы летчика.
- Долго ль по небу гоняет его?
- И то
- через год
- у кареглазого молодчика
- глаза
- начинают просвечивать синевой.
- Идем дальше.
- Мое пребывание небом не считано,
- и я
- от зорь его,
- от ветра,
- от зноя
- окрасился весь небесно-защитно —
- тело лазоревосинесквозное.
- Я так натянул мою материю,
- что ветром
- свободно
- насквозь свистело, —
- и я
- титанисто
- боролся с потерею
- привычного нашего
- плотного тела.
- <…>
- Сперва не разбирал и разницу нот.
- (Это всего-то отвинтившись версты на три!)
- Разве выделишь,
- если кто кого ругнет
- особенно громко по общеизвестной матери.
- А теперь
- не то что мухин полет различают уши —
- слышу
- биенье пульса на каждой лапке мушьей.
- Да что муха,
- пустяк муха.
- Слышу
- каким-то телескопическим ухом:
- мажорно
- мира жернов
- басит.
- Выворачивается из своей оси.
- Уже за час различаю —
- небо в приливе.
- Наворачивается облачный валун на валун им.
- Это месяц, значит, звезды вывел
- и сам
- через час
- пройдет новолунием.
(Вот, собственно, откуда у Цветаевой образность «Поэмы воздуха»: только у Маяковского живой поэт радостно вырастает над собой, а у Цветаевой душа покидает тело и уходит в пространства, где ни земные страсти, ни земные слова уже ничего не значат.)
Вещь осталась незаконченной и не могла быть закончена: к 1922 году Маяковскому стало ясно, что никакой утопии не будет. Как ни парадоксально, Луначарский был одним из тех, кто ему это объяснил; и потому относился он к наркому со стойким, хотя и не вполне явным недоброжелательством.
Хотя нарком, если вдуматься, был ни в чем не виноват.
Сейчас нам придется сказать о Маяковском неприятную, хотя ничуть не оскорбительную вещь: в авторском мифе каждого большого поэта — по крайней мере в России — серьезную роль играют его отношения с властью. Для поэта хорошо с властью если не ссориться, то по крайней мере ей противостоять, представлять собою альтернативу, как понимали это Пушкин и Пастернак («Он верит в знанье друг о друге предельно крайних двух начал» — очень удобная пастернаковская формула: не взаимодействие, но знанье, не антагонизм, но уравновешивание, ты не можешь без меня, я не могу без тебя, и мы как бы легитимизируем друг друга). Поэту вообще свойственно жить в мире строгих иерархий — ценностных, вкусовых, эстетических, — а потому он не может не соотносить себя с властью, хотя бы потому, что сам претендует на абсолютную власть, как формулирует А. Жолковский. Без власти нет поэтического мифа — и у Маяковского, патентованного нонконформиста, такой миф обязан наличествовать; он отлично это чувствовал. Однако противостояние советской власти вступило бы в противоречие с его утопией, с главной жизненной программой — не за то мы боролись, чтобы фрондировать; и потому, яростно нападая на второстепенные мишени — бюрократию, омещанивание, — он в главном всегда старается оправдать свою партию, точно так же, как всегда стремился оправдывать Лилю (не будучи партийным — но не будучи и женатым; это тот необходимый максимум независимости, который он может себе позволить). Выбор второстепенных мишеней — искусство, в котором он достиг впечатляющих высот: говоря «о дряни», он нападает главным образом на канареек. Не было, увы, никаких оснований надеяться, что поэма «Плохо» вернет ему гнев, как надеялся Пастернак. Сказал же он Иосифу Юзовскому, автору разносной — и дерзкой — статьи про «Хорошо»: «Слушайте, Юзовский. Если будет социализм, то эта поэма хорошая. А если не будет — то на черта и поэма, и я, и вы?»
И вот как — по-своему очень умно — нашел он выход из ситуации: с одной стороны, поэт обязан быть в оппозиции, сервильность для него неприлична, даже если это только кажется сервильностью, а на самом деле является позицией искренней и бескорыстной. С другой же, он нашел в верхах самого безобидного врага, единственного представителя этой власти, которому он был действительно небезразличен. У каждого советского литератора были свой роман с властью и свои покровители — Троцкий, Бухарин, у особенно везучих сам Ленин; Маяковский никогда не участвовал во фракционной борьбе, не брал ничьей стороны и не считал принципиальными разногласия в партийной верхушке. У него даже была черновая заготовка плаката на эту тему — или реплика для второй редакции «Мистерии», трудно сказать, где он предполагал использовать это: «Как начался [в партии] промеж большевиками разговорный зуд — думал, они друг другу глотки перегрызут. А [она] после X съезда, в рот те дышло, партия-то из разговоров окрепшая вышла». Имеется в виду «навязанная Троцким», как писалось в официальной истории партии, дискуссия о профсоюзах и принятая на X съезде ленинская резолюция «О единстве партии», положившая конец фракционной борьбе. В отличие от многих партийцев и беспартийных литераторов Маяковский никак не отреагировал на «Новый курс» Троцкого; для него все это был именно «разговорный зуд». Он никогда, ни на минуту не усомнился — по крайней мере публично — в истинности партийной линии, как не высказался сколько-нибудь критично о Лиле. Он никогда не поддерживал опальных и гонимых, не сказал ни слова в защиту хорошо ему знакомого Владимира Силлова, расстрелянного по обвинению в связях с Троцким, не заступился за «товарища Блюмочку», как ласково назван Блюмкин в его инскрипте. Партия — рука миллионопалая, она ошибаться не может. Максимум оппозиционности, которую он себе позволял, — это систематические нападки на Луначарского, самого интеллигентного и безусловно самого безобидного человека во всей партийной верхушке.
Троцкий подчеркивал, что Луначарский в рядах большевиков всегда оставался «инородной фигурой», но Ленин его любил — и Горький это подчеркивал, цитируя ленинский умиленный отзыв: «Легкомыслие — от эстетизма у него». Если применительно к Ленину, конечно, вообще уместно говорить о любви — можно сказать, что к Луначарскому у него действительно была особого рода приязнь, объяснявшаяся тем, что, во-первых, сам Луначарский был ему предан искренне и восторженно, а во-вторых, все его махистские либо богостроительские заблуждения не представляли для большевизма никакой опасности. Думается, была и еще одна причина его симпатии к велеречивому наркому. Среди большевиков — таких железных, как Дзержинский, либо таких неутомимо-кровожадных, как Троцкий, — Луначарский был Ленину близок, страшно сказать, интеллектуально. Были в ленинском Совнаркоме хорошие организаторы, самоотверженные борцы и даже люди с зачатками совести, — но умных, образованных, культурных было среди них мало. Можно относиться к Ленину как угодно, но дураком его не называл еще никто; Луначарский тоже был очень умен, обладал блестящей эрудицией, сообразительностью и памятью, и как к нему ни относись — его литературная критика временами прозорлива и почти всегда убедительна. Ленин не мог не понимать, что товарищи народные комиссары рано или поздно устроят термидор — это этап неизбежный. «Говорить о неизбежности Термидора может только меньшевик или действительный капитулянт, не понимающий ни международных, ни внутренних ресурсов нашей революции», — писал Троцкий в 1922 году, тоже все уже понимая. Троцкого в 1929 году выслали, Луначарского тогда же сняли с поста наркома просвещения, сделав председателем бессмысленного и бессильного Ученого комитета при ВЦИКе. И ни одного сочувственного слова Маяковский ему не адресовал. Напротив — он в это самое время, осенью 1929 года, заканчивал «Баню».
Луначарскому повезло — он успел умереть по дороге в Испанию, куда был назначен полпредом.
Ему часто доставалось за графоманские пьесы — не такие уж графоманские, если сравнивать с творчеством других российских чиновников на этом посту. Но эпиграммы у него бывали остроумные и по делу: «Демьян, ты мнишь себя уже почти советским Беранже. Ты точно Бе, ты точно Же, но все же ты не Беранже!» Главное же — Луначарский обладал безупречным вкусом и любил литературу, и Маяковского любил, никогда не позволяя себе высокомерных поучений в его адрес, хотя тот, случалось, хамил ему неприкрыто (отважно, сказали бы мы, — если бы он при этом хоть чем-нибудь рисковал). Луначарский, как замечал Чуковский, обожал распоряжаться, снабжать просителей бессмысленными записками и вообще имитировать бурную деятельность, — но наслаждения от нее не получал и администрированием все-таки не грешил; наслаждался он, когда читал лекции, сочинял драмы или общался с художниками, с Маяковским в частности (еще обожал бильярд, но играл плохо, Маяковский давал ему издевательскую фору). И вот как хотите — но в напряженных этих отношениях роль Маяковского выглядит несимпатичной. Ведь по сути Маяковский в спорах с наркомом был святее папы римского: там, где Луначарский отстаивал традицию, защищал право литераторов на собственную манеру и взгляд, Маяковский наскакивал на него с требованием преимуществ для футуристов, с несвоевременным и бессмысленным ниспровержением классической культуры, от которой и так мало что осталось, — словом, при всем своем вкусе и таланте толкал падающих. И делал он это не раз и не два — не было случая, чтобы он поддержал гонимых. Провинился перед партией — так расхлебывай лично. В конце жизни он отлично понимал, что сам ходит по весьма тонкому льду, — но тех, кто под этот лед уже провалился, не защитил ни словом.
Особенная непорядочность, конечно, есть в его личном выпаде против Луначарского, который у него выведен в образе Победоносикова. Можно много говорить о том, что Победоносиков — обобщенный советский бюрократ, что он, в отличие от Луначарского, невежда, что Главначпупс не есть Наркомпрос (хотя звучит похоже), — но слишком многое указывает на опального наркома, ничего не поделаешь. Луначарский в 1922 году развелся с женой Анной Малиновской, с которой прожил 20 лет, и женился на молодой (впрочем, успевшей побывать замужем и родить дочь), не слишком талантливой, зато хорошенькой актрисе Наталье Розенель; он ей всячески покровительствовал, устраивал ее карьеру, добился ее приема в труппу Малого театра, где она играла в его пьесах. Ходил слух, что однажды, отправляясь с ней в отпуск, он задержал поезд, потому что Наталья Александровна на него опаздывала.
Об этом вспоминает Варлам Шаламов: «На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа „Вперед“, богостроительство — все это проходило перед нами в живых образных картинах, нарисованных умно и живо.
Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали затаив дыхание — так все это было интересно, поучительно.
Председатель уже готовился вымолвить „считать проверенным“, как вдруг откуда-то из задних рядов, от печки, раздался голос:
— А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд остановили?
Луначарский махнул рукой.
— Ах, этот поезд, поезд… Никакого поезда я не останавливал. Ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете — женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, посматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:
— Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь?
— Да, видите, жена задержалась.
— Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в порядке.
Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся. Вот как было дело. А вы — „Нарком поезд остановил“».
Сравним версию Маяковского, советского нашего Мольера: «Я попрошу вас не вмешиваться не в свою компетенцию. Это слишком! Попрошу не забывать — это мои люди, и пока я не снят, я здесь распронаиглавный. Мне это надоело! Я буду жаловаться всем на все действия решительно всех, как только вступлю в бразды. Посторонитесь, товарищи! Ставьте вещи сюда. Где портфель светложелтого молодого теленка с монограммой? Оптимистенко, сбегайте! Не волнуйтесь, подождут! Я останавливаю поезд по государственной необходимости, а не из-за пустяков».
Налицо и бытовое разложение, и демагогия, и главное — социальная роль Луначарского в качестве идеолога забюрократизированного режима. Кто был идеологом при Александре III? Победоносцев, одна из самых одиозных фигур российской истории. Луначарский, стало быть, — Победоносиков при режиме советском, воплощающий в себе худшие его черты. Нужна, пожалуй, была некоторая смелость, чтобы хотя бы по этой аналогии сравнить 1929 год с эпохой предпоследнего русского царя, — но в качестве символа этой эпохи был избран абсолютно бесправный и вдобавок смещенный с должности Луначарский, а этим снимается вся острота. Маяковский намекал, возможно, и на Троцкого, приехавшего в Алма-Ату с огромным багажом, — хороша ссылка! — но ведь и Троцкий в это время в опале: снова «падающего толкни»? Что до пародийных речей Победоносикова, произносимых ко всякому юбилею, — в несправедливости этой сатиры, вдобавок не слишком остроумной, может убедиться всякий, кто хоть раз читал Луначарского или слушал его в записи. «Итак, товарищи, Александр Семеныч Пушкин, непревзойденный автор как оперы „Евгений Онегин“, так и пьесы того же названия…» Сравните это с «Клопом», где советская демагогия высмеяна и смешно, и убедительно: «Когда мы умирали под Перекопом, а некоторые даже умерли…» Мезальянсова упоминает Луначарского напрямую — как непременную достопримечательность Москвы, посещаемую иностранцами: «Он уже был у Анатоль Васильча»… Это выпад еще сравнительно безобидный, а все же издевательский: Луначарского показывают как экспонат. И он в самом деле встречался и дружил с большинством заезжих знаменитостей — но по меркам 1929 года это еще не страшно: как-никак они делали нам индустриализацию.
Луначарскому случалось критиковать Маяковского и отечески журить его (в частности, за публикацию собственных портретов и фотографий Лили в отдельном издании «Про это»), но никогда он не подошел к нему с политическими обвинениями. И на «Баню» не ответил ни единым бранным словом — хотя мог бы: пьеса-то провалилась, и как было не толкнуть падающего?
Маяковский бы не сдержался. А Луначарский — смог. Все-таки было в нем что-то трогательное, чистое — не зря Маяк дразнил его «В белом венчике из роз Луначарский-наркомпрос».
«ОКНА РОСТА»
В РОСТА — удачная аббревиатура, наводящая на мысль о росте, развитии, экспансии, — он пришел работать в октябре 1919 года. В предисловии к сборнику «Грозный смех», составленному в 1929 году, но вышедшему лишь три года спустя уже посмертно, с обычной своей точностью описывал это:
«Моя работа в РОСТА началась так: я увидел на углу Кузнецкого и Петровки, где теперь Моссельпром, первый вывешенный двухметровый плакат. Немедленно обратился к заву РОСТОЙ, тов. Керженцеву, который свел меня с М. М. Черемных — одним из лучших работников этого дела.
Второе окно мы делали вместе. Дальше пришел Малютин, а потом художники: Лавинский, Левин, Брик, Моор, Нюренберг и другие, трафаретчики: Шиман, Михайлов, Кушнер и многие еще, фотограф Никитин. Первое время над текстом работал тов. Грамен, дальше почти все темы и тексты мои; работали еще над текстом О. Брик, Р. Райт, Вольпин. В двух случаях, отмеченных в книге звездочками, я нетвердо помню свое авторство текста. Сейчас, просматривая фотоальбом, я нашел около четырехсот одних своих окон. В окне от четырех до двенадцати отдельных плакатов, значит, в среднем этих самых плакатов не менее трех тысяч двухсот. <…>
Как можно было столько сделать?
Вспоминаю — отдыхов не было. Работали в огромной нетопленной, сводящей морозом (впоследствии — выедающая глаза дымом буржуйка) мастерской РОСТА. Придя домой, рисовал опять, а в случае особой срочности клал под голову, ложась спать, полено вместо подушки с тем расчетом, что на полене особенно не заспишься и, поспав ровно столько, сколько необходимо, вскочишь работать снова.
С течением времени мы до того изощрили руку, что могли рисовать сложный рабочий силуэт от пятки с закрытыми глазами, и линия, обрисовав, сливалась с линией.
По часам Сухаревки, видневшимся из окна, мы вдруг роем бросались на бумагу, состязались в быстроте наброска, вызывая удивление Джона Рида, Голичера и других заезжих, осматривающих нас иностранных товарищей и путешественников. От нас требовалась машинная быстрота: бывало, телеграфное известие о фронтовой победе через сорок минут — час уже висело по улице красочным плакатом.
„Красочным“ — сказано чересчур шикарно, красок почти не было, брали любую, чуть размешивая на слюне. Того темпа, этой быстроты требовал характер работы, и от этой быстроты вывешивания вестей об опасности и о победе зависело количество новых бойцов. И эта часть общей агитации подымала на фронт.
Вне телеграфной, пулеметной быстроты — этой работы быть не могло. Но мы делали ее не только в полную силу и серьезность наших умений, но и революционизировали вкус, подымали квалификацию плакатного искусства, искусства агитации. Если есть вещь, именуемая в рисунке „революционный стиль“, — это стиль наших окон.
Не случайно, что многие из этих работ, рассчитанные на день, пройдя Третьяковскую галерею, выставки Берлина и Парижа, стали через десять лет вещами настоящего так называемого искусства».
Михаил Черемных знал Маяковского еще по Училищу живописи, ваяния и зодчества: «Писал он как все. Ничего футуристического в его этюдах не было». Старый большевик Платон Керженцев в 1918 году познакомился с Черемных, когда тот делал по заказу издательства ВЦИКа «Русскую историю в рисунках». Черемных быстро сообразил, что для вывешивания «Стенной газеты РОСТА» — так это сначала называлось — лучше всего подойдут окна магазинов, пустующих ввиду отсутствия товаров. Первое окно было вывешено на углу Мариинского (с 1918 года — Чернышевского) переулка и Тверской, в бывшей кондитерской. Маяковский увидел плакат, заинтересовался, пошел к Керженцеву, тот его направил к Черемных (Маяковский его не узнал), а вскоре к ним присоединился карикатурист и декоратор Иван Малютин. Черемных считал его лучшим художником РОСТА, сильно повлиявшим и на Маяковского. Заданий им никто не давал — сами понимали, что делать, и это едва ли не единственный случай, когда советская пропаганда делалась без идейного руководства. Плакатов надо было много, сначала их копировали — чуть не всем ВХУТЕМАСом, — но получалось плохо, неаккуратно; в 1920 году художник М. Пэт придумал вырезать трафареты и их рассылать в прочие города, где теперь тоже вывешивались «окна». Один трафаретчик (работая иногда вместе с семьей) резал в сутки 25 экземпляров, эти картонные трафареты расходились по России и по московским точкам, где перерисовывали плакаты, — и довольно скоро агитацией заклеили всю европейскую Россию. «Мы ни разу, к сожалению, не могли проследить за работой отделений, — вспоминал Черемных. — И переписки регулярной не было. Приезжающие рассказывали, что „Окна сатиры“ везде есть: и на фронтах, и на станциях. Их рвали, крутили из них цигарки, но они все прибывали и прибывали».
Производительность была бешеная. Черемных рисовал за ночь до 50 плакатов, Маяковский сочинял за день до 80 «тем» — то есть подписей под картинками. Привлекли всех знакомых карикатуристов и плакатистов: Моора (он впоследствии прославился плакатом «Ты записался добровольцем?»), Роскина, Нюренберга, Левина, Лавинского. Маяковский агитировал просто: «Только здесь возможна настоящая творческая художественная жизнь. Сейчас надо писать не тоскующих девушек и не лирические пейзажи, а агитационные плакаты. Станковая живопись никому нынче не нужна. Ваши меценаты думают теперь не о Сезанне и Матиссе, а о пшенной крупе и подсолнечном масле… Ну а Красной Армии, истекающей на фронтах кровью, картинки сейчас ни к чему».
Интересно, что при столь тесной работе — да еще при регулярных соревнованиях, называвшихся «бегами», когда все бросались рисовать по часам на Сухаревской башне — кто быстрее сделает плакат? — Маяковский оставался со всеми на «вы». Он был безусловным лидером в этой команде, хотя Черемных с Малютиным были и опытнее, и старше. Опоздания не прощались, пунктуальность Маяка носила в это время характер прямо болезненный. Однажды Нюренберг задержался — ему предстояло за ночь написать 25 плакатов, он заснул и вместо десяти утра принес их к полудню, сославшись на болезнь. Маяковский долго мрачно молчал, потом буркнул:
— Вам, Нюренберг, разумеется, разрешается болеть… Вы могли даже умереть — это ваше личное дело. Но плакаты должны были здесь быть к десяти часам утра. Ладно, на первый раз прощаю. Деньги нужны? Устрою. Ждем кассира. Не уходите.
Разумеется, был во всем этом — пусть не в случае самого Маяковского, но в практике большинства ростинских художников, — элемент материальный («корыстный» звучит тут оскорбительно, речь шла о простом выживании). Но, во-первых, платили в РОСТА скромно, работа эта считалась низкоквалифицированной, а во-вторых, никакими деньгами нельзя объяснить тот фанатичный энтузиазм, с которым работала как минимум половина из ростинского штата. Тут были и соревнование, и поиск нового языка, и неверие некоторых (Маяковский активно его поддерживал) в прежние формы существования живописи: в РОСТА висел лозунг — «Расстригли попов, расстрижем академиков». Кому нужны пейзажики, натюрмортики, кто их купит?! Не просто бесполезна, а преступна станковая живопись в дни, когда рабочие изнемогают на фронтах! С Маяковским отчаянно и даже злобно спорили на эту тему Осмеркин, Лентулов, Попова — не «академики» ничуть, участники «Бубнового валета», такие же авангардисты, как и он, не желавшие, однако, чтобы всю живопись загоняли в РОСТА. Сам Маяковский с 1919 по 1921 год почти не пишет лирики, а если и случается все же — признается, что «заела РОСТА». Нет, сколько бы ни пытались оппоненты сделать из него корыстолюбца, циничного производителя идеологически выдержанной халтуры, — такой фанатизм ничем не объяснишь. Эгоизм его другой природы: более правы те, кто полагает, что к 1919 году Маяковский уперся в тупик. Любовная лирика надоела даже главной (единственной, в сущности) героине, ненавистный старый мир рухнул, новый оказался прежде всего страшно редуцированным — две краски, черная и белая, никаких денег и почти никакой еды, ничего того, из чего делается лирика, требующая все-таки досуга, воздуха, хоть минимальной беззаботности.
Что можно было писать в том году — и кто, собственно, писал? Блок замолчал окончательно. Есенин написал одну небольшую поэму «Пантократор», в которой нет ничего нового по сравнению с «Сорокоустом» и «Инонией»; Пастернак — «Январь 1919 года», в котором тоже обозначен переход к молчанию или по крайней мере к покою; Ахматова — почти ничего или по крайней мере ничего нового. У одной Цветаевой — романтический творческий взлет: самая ее среда, ее эпоха — пустота, катастрофа, никто не направляет, не мешает, свободное падение и в нем прекрасное гибельное отчаяние; но и у нее сравнительно мало лирики — в основном драма, выход в новый жанр. Прежняя реальность в девятнадцатом кончилась, новая — не народилась: какая может быть лирика в эпоху военного коммунизма? Лязг, громыханье. Маяковский нашел едва ли не оптимальный выход — то самое долгожданное уличное творчество, выход искусства на улицы. Само собой, это было не очень хорошее искусство, и тут проявилось одно из главных его противоречий, «парадокс РОСТА», сказал бы я, если бы это не звучало так двусмысленно. Чем меньше в искусстве будет уличного, тем сильнее оно подействует на улицу, иначе получится как в анекдоте: «Вы токарь? Ну так представьте, приходите вы вечером отдохнуть на пляж, а там станки, станки, станки…» Чтобы улица услышала обращенные к ней слова, они не должны быть повседневными — и потому самым популярным поэтом начала двадцатых становится Пастернак с его принципиальной непонятностью и отсутствием стремления к ней («стремленье к понятности» он называл грехом «Тем и варьяций» и в общем клеветал на себя, приписывая себе желание простоты). «Окна» вызывали у зрителя любопытство и насмешку, иногда раздражение — но весь этот поток текстов и карикатур никого не мог переубедить или разагитировать: именно потому, что это было до смешного плохо. Да и вообще результаты любой агитации процентов на девяносто определяются изначальной позицией зрителя: к чему он внутренне готов, то и воспринимает.
- Ну что это такое, в самом деле:
- Половицей я хожу, другая выгибается.
- Кулаки меня клянут, бедный улыбается.
Или:
- Путь твой будет гладок и чист,
- Если на месте стоит чекист.
Или:
- Что делать, чтоб сытому быть? Врангеля бить!
- Что делать, чтоб с топливом быть? Врангеля бить!
- Что делать, чтоб одетому быть? Врангеля бить!
Или:
- Товарищи! Крестьяне бывают разные:
- есть крестьяне бедняки-пролетарии,
- есть середняк крестьянин,
- а есть и кулак-буржуй.
- Коммунисты — друзья крестьянина-пролетария,
- друзья середняка,
- только с кулаками их не примиришь никак.
- Этих мироедов, доведших крестьян до сумы,
- из каждой деревни гоним мы.
- Народу перейдут поля и леса,
- народу трудовому скот перейдет,
- народу трудовому горы машин (sic!):
- сей, жни, паши!
- Горы добра трудящимся давая,
- зацветет земля республики трудовая.
Бывало там смешное? Почему нет: «Я ему — все люди братья, а он — и братьев буду драть я». Но, конечно, ни с сатириконовской лирикой, ни с «Мистерией-буфф» никакого сравнения. Сказано же — военный коммунизм: ни жиров, ни белков, ни сахара, ни природы, — сон на бревне и 80 тем в день. Предъявлять эстетические требования к «Окнам» — все равно что смотреть на канатоходца, который, идя на пятидесятиметровой высоте, играет на скрипке, и скептически замечать: «Ну… не Ойстрах».
Выскажем вещь парадоксальную, но при ближайшем рассмотрении очевидную: как многое в Советской России, РОСТА агитировало не столько результатом своего труда, сколько фактом своего существования, художественным процессом. И почти все процессы в Октябрьской революции в первые пять ее лет, до самого нэпа, были важнее результата. Субботник важен не тем, сколько паровозов отремонтировано, а тем, что это «свободный труд свободно собравшихся людей». РОСТА никого толком не способно сагитировать, потому что — это вечный парадокс всякой агитации — плакат сознательно упрощен, а значит, лишен подлинной творческой энергетики; самый необразованный слушатель, самый неподготовленный зритель способен почувствовать подлинность и высокое качество поэтической материи, если читать ему серьезного Маяковского. Плакатность унижает не творца, но зрителя. Плакаты рисуют не для того, чтобы убедить гражданина/избирателя/обывателя, а для того, чтобы отчитаться перед начальством: деньги на агитацию освоены, берлинская лазурь и жженая охра приобретались не зря.
Агитационная функция РОСТА заключалась не в том, что бедняки и середняки заучивали наизусть лозунги новой власти (эти плакаты были так вызывающе грубы и некрасивы, что могли скорее отвратить, нежели привлечь уличного зрителя, да и остроты в них несмешные, плоские), а в том, что на стороне этой власти с фантастической самоцельной производительностью трудились лучшие художники и самый перспективный поэт. РОСТА было фабрикой, производящей себя самое, — как всякий завод производит прежде всего сам себя, свою атмосферу, своих рабочих, которые вместо праздности и потребления заняты творчеством, самым чистым, истинно модернистским «творчеством из ничего». 19 мая 1920 года Маяковский делал доклад на Первом Всероссийском съезде работников РОСТА. Сохранилась стенограмма:
«Если наша художественная работа ведется по тем самым принципам, по которым велась художественная работа раньше, то она совершенно не затронет внимания новой аудитории, на которое мы рассчитываем. Если мы обратимся, товарищи, к этим старым плакатам, то мы увидим, что они рассчитаны обыкновенно на пребывание в какой-нибудь конторе, кабинете, где вы бываете постоянно, и поэтому вы можете в течение целого дня стоять и разглядывать, что на этом плакате нарисовано. Принцип нашей революционно-агитационной работы должен быть совершенно другой. Первая и основная наша задача — это приковывание внимания, это заставить бегущую толпу, хочет она или не хочет, всеми ухищрениями, остановиться перед теми лозунгами, перед которыми мы хотим ее остановить».
Но пролетариат хотел иного — он тянулся к «изячному». Окна сатиры РОСТА при внимательном рассмотрении много ниже своей славы. Главная их ценность в том, что Маяковский на них осваивал новую поэтику — точно так же как ценность толстовской «Азбуки», совершенно неинтересной детям, в том, что на ней отрабатывался стиль будущей поздней «голой» прозы, прозы «Фальшивого купона» и «Отца Сергия». Пролетариат больше верит реальности, нежели агитации. А вот поэту нужно на чем-то отрабатывать новые приемы — конструировать искусство, которое войдет в жизнь и научится переделывать ее; превращать живопись в дизайн, лирику — в слоган, расширять собственные границы и поле своего влияния. В этом смысле РОСТА было бесценно. Его поэмы, лирика, пьесы двадцатых — все было бы невозможно без ростинского опыта, как невозможна была бы поздняя лирика Пастернака с ее короткой емкой строкой и фантастическим владением формой — без переводческой каторги, прежде всего без «Гамлета» и «Фауста». Лаконизм, точность, лозунговость — все от РОСТА, это и в любовной лирике бывает неплохо. Маяковский не зря считал агитку труднейшим даром, отвешивая комплимент Пушкину: «Я бы и агитки вам доверить мог. Раз бы показал — вот так-то, мол, и так-то: вы б смогли, у вас хороший слог».
Дух живого созидания, соревнования, самоиронии, огромной энергии, фанатичной веры — впечатлял больше любых результатов этой почти круглосуточной работы; и потому в РОСТА водили иностранцев. И, надо признать, для иностранцев это в самом деле была грандиозная витрина — потому что если революцию признает пролетариат, это вещь естественная. А если художники так за нее выкладываются — значит, в России затевается нечто действительно универсальное.
Маяковский упоминает Джона Рида, ленинского любимца, сподобившегося получить личное предисловие вождя к очерку «Десять дней, которые потрясли мир». Лиля вспоминала (дело происходит, судя по графику пребывания Рида в России, в ноябре — декабре 1919 года):
«Запосещали иностранцы. Японцы через переводчика спрашивали, кто тут Маяковский, и почтительно смотрели снизу вверх.
Как-то Керженцев привел человека: вот, американец, интересуется.
Маяковского не было, я раскрашивала то, что он мне доверил, Черемных и Малютин, работая, громко переговаривались в таком стиле:
— Ходят тут, околачиваются, работать мешают. До чего я этих американцев не терплю. Ни уха ни рыла в искусстве не понимают, а туда же, интересуются. Эй ты, американец, смотри — это Ллойд Джордж.
Кивает.
— А вот это Клемансо. Понял?
Кивает.
Черемных пошел к Керженцеву: уберите от нас этого немого, мы с ним сговориться не можем.
— Отчего? Он же прекрасно говорит по-русски. Это Джон Рид.
Черемных — к Малютину, шепчет на ухо. Малютин произносит медовым голосом что-то вроде:
— Вы, американцы, кажется, мало интересуетесь искусством?
И Джон Рид на чистейшем русском языке отвечает, что лично он очень интересуется искусством, особенно советским…»
Но Джон Рид о Маяковском не написал ничего. А вот с «Голичером» вышло интересно: сейчас мы введем в оборот доселе игнорируемую маяковедением цитату. Артур Холичер (1869–1941), немецкий еврей, автор нескольких романов и путевых очерков (которые принесли ему недолгую славу), посетил Москву в 1920 году и год спустя выпустил книгу «Три месяца в Советской России». Ее у нас не переводили, более того — немецкие издания есть только в спецхранах, хотя лежит несколько копий и в Сети. Никита Елисеев, которого сердечно благодарю, перевел для меня то, что касается непосредственно Маяковского, по фамилии, однако, не названного:






