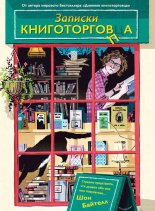Во всем виновата книга – 2 Джордж Элизабет

Я, образно говоря, отпускал хлеб по водам[13].
– Простите, но мне нужно поговорить с самим преподобным. По важному делу. Можете позвать его?
Я снова оказался на перепутье. Сказать этому человеку о смерти отца или разыгрывать его дальше и постараться выяснить больше?
– Его нет. Скажите, как вас зовут, и оставьте номер…
Мужчина повесил трубку. Не стоит лишний раз говорить, что этот звонок черной тучей висел надо мной, пока я продолжал составлять каталог и приблизительно, весьма приблизительно оценивать найденные внутри Библий книги, удивляясь каждому литературному сокровищу. Я никогда не был склонен к волнению, разве что в присутствии Аманды, от нежного голоса которой у меня потели ладони, а сердце билось чаще, но в тот день я подскакивал от любого звука с нижнего этажа, будь то шум отопительного котла или бой настенных часов. Звонивший мне не понравился. Не нравилось мне и то, что отец оставил такое странное наследство. А меньше всего мне нравилось то, что мое детское убеждение – отца убили – переросло во вполне взрослую уверенность в своей правоте. Взглянув на кучу книг, как ценных, так и бесполезных, я обескураженно покачал головой. Если бы преподобный был рядом, чего мне от всей души хотелось, он наверняка нашел бы мудрую притчу или изысканное изречение из Библии, которое помогло бы мне пролить свет на необъяснимые обстоятельства и выпутаться из этой ситуации.
– Папа, зачем ты ушел? Что все это значит? – спросил я вслух и, стыдно признаться, заплакал.
Перенесемся назад во времени. Лето жаркое, как печка, небо цвета жестяной банки, воздух тяжелый, как математика. Мы с отцом едем в нашем семейном универсале с боками, отделанными под дерево, и настолько мягкой подвеской, что на любой кочке нас подбрасывает, как лодку на волнах. Мы возвращаемся в Первую методистскую церковь с грузом псалтырей, подаренных другой миссионерской организацией по братской традиции «давайте, и дастся вам». Щедрый жест с их стороны, учитывая, что наши небогатые прихожане были сильны верой, но не кошельком и псалтыри у нас почти закончились. Должно быть, некоторые нарочно брали их домой, чтобы распевать в ванной «Старый крест»[14] от начала и до конца.
В этот августовский день преподобный вел себя рассеянно и в целом странно. Я помог ему выгрузить коробки с псалтырями из машины и погрузить на стеллажи у церковных скамеек, после чего отец отправился в кабинет. К моему удивлению, он сунул мне два доллара, чтобы я купил в магазине лимонада, конфет или чего захочется. «Подождите-ка», – подумал я. Он всегда журил меня за лимонад и конфеты. Мне не очень-то хотелось того и другого, но я послушно удалился, недоумевая, почему отец хочет от меня избавиться. К тому же в церкви было прохладнее, чем на улице, где солнце жгло сильнее Ока Саурона.
Вернувшись, я заметил возле нашей машины два других автомобиля, куда более дорогие. Первый – черный, как сама алчность, «мерседес», а второй – белый антикварный «порше». Меня насторожило то, что они блокировали нашу колымагу спереди и сзади. На улице можно было свободно припарковаться, зачем вставать так, чтобы мы не могли выехать? У меня возникло дурное предчувствие.
В церкви было тихо, если не считать голосов, доносившихся из кабинета в подвале. Из-за легкого эха казалось, будто голоса идут из шахты. Я решил присесть с краю, на другом конце рядов скамей, и принялся жевать полурастаявшую шоколадку в ожидании неизвестно чего.
Ждать пришлось недолго. Из дверей в конце притвора, за которыми располагался спуск в подвал, появился одетый с иголочки мужчина с толстым кожаным портфелем в руке и важно проследовал к выходу. Я притаился, не издавая ни звука, и он прошел мимо, не заметив меня. На лице его было отрешенное выражение, словно он глубоко погрузился в раздумья. Когда он вышел, сумрачные внутренности церкви озарил резкий серебристый дневной свет. Наконец массивная дубовая дверь захлопнулась, и тут же из подвала появился отец с другим мужчиной, чья голова была повернута в сторону от меня, поэтому я его не рассмотрел. Они с отцом говорили о непонятных мне вещах. Помню, что мужчина произнес: «Мильтон», и я запомнил это слово лишь потому, что в школе учился хилый парнишка с таким именем. У него было неоригинальное прозвище – Милашка Мильти, из-за которого все над ним потешались. Когда отец с незнакомцем проходили мимо меня, топот шагов по каменному полу почти заглушил их голоса, но я готов поклясться: отец сказал что-то о «широких полях». Каких еще полях? Не понимая, о чем они говорят, и чувствуя себя неуютно на расстоянии вытянутой руки от них, я откашлялся.
– Привет, Лиам, – непривычно громко и беззаботно сказал преподобный. – Сынок, подожди минутку.
Его спутник специально отвернулся, и они вместе вышли, не произнеся больше ни слова в моем присутствии. Я понял, что дело нечисто. От этого дела, прямо скажем, попахивало. Во-первых, отец всегда представлял меня незнакомцам. Он учил меня вежливости, пусть и не всегда успешно, но разве не говорится в Библии, что отцы должны своими поступками подавать пример детям? Может, и нет, но, черт побери, я разволновался, как индюшка в День благодарения. Вернувшись, отец вел себя как ни в чем не бывало, что окончательно сбило меня с толку. Тогда я решил, что раз у меня есть секреты – ах, Аманда, знала бы ты, как беззаветно я был увлечен тобой в те дни! – то и у отца могут быть свои. Вот только эти двое не были похожи на ремонтников или местных бизнесменов, у которых можно было взять кредит или ссуду. Нет, они не были местными, и этих машин я прежде не видел. Раздери меня аллигатор, они были крокодилами из совсем другого болота.
Дома я попытался провести связь между незнакомцами и вечерними беседами моих родителей. Мое предложение устроиться на работу родители не одобрили, оставалось лишь ждать и надеяться, что однажды они посвятят меня в суть происходящего. Больше ничего. Младший брат Дрю спрашивал меня, в чем дело, но, к сожалению, я мало что мог ему объяснить. Положив на его костлявое плечо руку – которую он тут же стряхнул, – я постарался убедить его в том, что все хорошо, точно так же, как родители убеждали в этом меня.
– Дружище, – сказал я, – жизнь – сложная штука. Не переживай, все будет путем.
Он разозлился и убежал в свою комнату. Я его не виню. Мне было известно чуть больше, но из-за этого я был в куда большем замешательстве. Насколько помню, я тоже отправился в спальню, запер дверь и всю ночь прорубился в приставку. Не стану называть игру – мне за нее стыдно, – скажу лишь, что в ту ночь я пролил достаточно пиксельной крови, отрубил множество виртуальных рук и ног – в общем, устроил беспредел. В разумных пределах, конечно. Думаю, никто не станет возражать, что это хороший способ выплеснуть эмоции и успокоиться. Вроде того.
Вернемся к настоящему. Преподобный мертв. Мы с братом потеряли отца. Моя мама – вдова. Первая методистская церковь осталась без пастора. Мягко говоря, ничего хорошего. Я хотел бы вернуть те дни, когда отец был рядом и я мог его доставать. Мама все так же кормила бы его мясом, овощами и пюре, и все шло бы по-прежнему, как заведено в нашем маленьком семейном кругу. В то же время, как ни сложно мне было осознать это, благодаря литературным бриллиантам, найденным в наследстве отца, я обладал миллионным состоянием. Если в моей жизни когда-нибудь сверкал луч надежды, то это случилось именно тогда. Да что там луч – настоящее солнце. Я недоумевал, почему отец, чья одежда напоминала обивку нашего протертого дивана, каждый вечер считал церковные деньги до единого цента, зная, что продажа любой из этих книг позволит ему купить новый орган или отреставрировать старый. Мне хотелось встать перед мамой и братом и заорать: «Мы богаты!» – но я держал язк за зубами. Надо было сохранять спокойствие и невозмутимость, пока я не выясню, где отец раздобыл редкие издания и почему не продал их, чтобы разобраться с финансовыми затруднениями последних месяцев.
То ли из сострадания, то ли от рассеянности мама позволила мне отдохнуть еще один день. Я сказал, что чувствую себя неплохо, кхе-кхе, но день выдался дождливым, с грозой и сильным ветром: с деревьев слетели последние листья, капли гулко стучали по стеклам. Будь погода немного лучше, мама отправила бы меня в школу. Но была пятница, снаружи все выглядело мерзко, и она дала добро на прогул.
– Но в понедельник пойдешь в школу как миленький! – предупредила она, помешивая овсянку – наш завтрак.
– Обязательно, – ответил я, сидя за столом в пижаме и стараясь выглядеть одновременно и бодро, и вяло. – И домашнюю работу за пропущенные дни сделаю, как только смогу.
Я ведь не говорил, что был отличником?
Мне несказанно повезло. Оставшись дома, я принял почти столько же гостей, сколько Амаль[15]. Только вместо трех волхвов ко мне заглянули двое мужчин – один с утра, другой после обеда. Первый звонок в дверь раздался, когда я составлял свой книжный каталог. Быстро убрав тоненький томик Сэмюэла Тейлора Кольриджа обратно в тайник, я подтянул пижаму, надел тапки, спустился и открыл дверь. На пороге стоял детектив Рейнолдс в привычном облике уличного хулигана, но на этот раз помывшегося и пахнущего тальком. Я вновь воспринял его неформальный вид как признак добропорядочности. Детектив, вероятно, заслуживал доверия, но в тот момент я не намеревался доверять кому бы то ни было.
– Привет, Лиам, – сказал он.
Меня обдало холодным ветром с улицы.
– Здравствуйте, сэр.
– Мама дома?
– Нет, – ответил я и непритворно чихнул.
– Ладно, с тобой мне тоже есть о чем поговорить, – произнес детектив. – Но ты, похоже, болен. Могу зайти в другой день.
Надо было соглашаться, но вместо этого с языка сорвалось:
– Ничего, заходите.
Мы расположились в гостиной. С учетом погоды, правила вежливости требовали предложить детективу остатки утреннего кофе, но я этого не сделал. Да, Рейнолдс вызывал у меня симпатию, но раскатывать перед ним ковровую дорожку я не собирался. К тому же я не хотел посвящать его в тайну своего наследства. И не только из-за денег; книги были моей собственностью, и я намеревался ревностно охранять их – как и мой отец.
Рейнолдс рассказал, что продолжает расследование гибели отца.
– Кроме меня, все в отделе считают это несчастным случаем. Коронер исключил вероятность убийства. В прокуратуре не хотят заводить дело из-за падения. Улик у меня нет, только догадки. Мы с тобой – единственные, кто верит в версию об убийстве, – подытожил он, неуклюже улыбнувшись. – Ты ведь не изменил своего мнения?
– Вроде нет, – с сомнением ответил я, подозревая, что мой отец и сам мог быть замешан в грязных делишках. Как иначе он раздобыл редкие книги, спрятанные нынче у меня в шкафу среди похабного чтива? Он ведь едва сводил концы с концами!
– В прошлый раз ты был увереннее, – заметил сыщик. Я пожал плечами, чувствуя себя настолько виноватым, будто сам убил отца. – Ладно, раз уж я здесь, стоит спросить тебя о том же, о чем я спрашивал твою маму. Не помнишь каких-нибудь странных гостей или телефонных звонков от незнакомцев?
Я считал себя атеистом, но был уверен, что врать полицейскому нехорошо – даже Рейнолдсу, напоминавшему бродягу в своих дешевых шмотках из «Гудвилла». Под мятым свитером и рваными джинсами скрывался полицейский значок, а мое бунтарство никогда не выходило за рамки дозволенного.
– На днях звонил какой-то мужчина и спрашивал отца. Наверное, не знал, что он умер.
– Что ему было нужно?
– Не знаю. Я спросил, как его зовут, и он повесил трубку.
– Ты не сказал, что отец умер?
– Не мое дело рассказывать.
Рейнолдс усмехнулся:
– Решил прикинуться веником и вытянуть у него информацию? Умно. Лиам, из тебя вышел бы отличный детектив. Мне уже страшно за свое место!
Я не хотел обидеть Рейнолдса и не стал парировать, что лучше быть слепым, безногим дворником с раком мозга, чем полицейским. Вместо этого я сказал:
– Рыбка не клюнула.
– А перезванивать ты не пробовал? Знаешь, что у телефона есть такая функция?
– Знаю, но она не сработала.
– Еще один вопрос. – Рейнолдс внезапно сменил тему, позу и тон, который теперь звучал по-приятельски. – После гибели твоего отца мы изучили его церковные документы. Искали что-нибудь подозрительное, письма с угрозами и все в таком роде.
– Да ну! – сорвалось у меня.
– Верно. Мы ничего не нашли. Твоего отца действительно уважали.
Пустая болтовня раздражала меня. Это был последний свободный день, а я еще не успел оценить с десяток книг. Рейнолдс мне нравился, но беседа меня порядком утомила. Я не мог дождаться, когда он закончит.
– Скажи, у твоего отца был только один рабочий кабинет, в церкви, или дома тоже? Официально расследование не ведется, я взял отгул, как и ты, и ордера на обыск мне не получить. Но попытка не пытка.
– Только один, – с облегчением ответил я. Он так долго ходил вокруг да около, что я ожидал услышать вопрос о Библиях, а не такую ерунду.
– Раз уж мы с тобой верим в убийство, может, ты позволишь осмотреть его письменный стол?..
– Все домашние дела ведет мама. Можете взглянуть на ее бумаги, если это важно. Думаю, она не стала бы возражать.
– Если это тебя не затруднит, – ответил детектив.
– Нисколько, – сказал я и проводил его в большую комнату, в углу которой было мамино рабочее место.
Я сделал это с радостью, во-первых, потому, что комната находилась далеко от моей спальни, а во-вторых, потому, что маме было совершенно нечего скрывать.
Спускаясь по лестнице, я слышал за спиной тяжелое дыхание Рейнолдса. Ему не стоило так волноваться: я прекрасно знал, что он не найдет ничего полезного. Однако чем дольше я стоял, наблюдая за ним и переминаясь с ноги на ногу, тем сильнее я жалел о том, что впустил его. А если в мамином столе случайно окажется бумажка с упоминанием редких книг? К тому же минуты неумолимо шли – и у меня оставалось все меньше времени на изыскания.
Но я оказался прав. Рейнолдс не нашел ничего важного.
– Как я и предполагал, – вынужден был признать он, поднимаясь с маминого вращающегося стула. – Спасибо за доверие, Лиам. Извини, что потратил твое время.
Когда мы поднялись, он добавил:
– Лучше нам держать сегодняшнюю встречу в тайне, если не возражаешь.
– Конечно, – согласился я, не собираясь ничего рассказывать маме.
На пороге он снова поблагодарил меня и попросил связаться, если появится новая информация.
– Буду начеку, – сказал я и откашлялся почти так же неестественно, как мой брат несколькими днями ранее.
– Лечи кашель. – Рейнолдс подмигнул, протянул мне визитку, надел пальто и вышел.
Сквозь окошко в двери я заметил, что еще на дорожке он закурил сигарету. Вместо того чтобы бросить спичку в высокую мокрую траву, которую стоило бы еще разок подстричь перед снегопадами, детектив аккуратно сунул ее в карман.
«Ушлый мужик, – подумал я тогда. – Пренебрегать его расположением, а тем более злить его – опасно для здоровья». Вообще-то, я был уверен, что раз в церкви, в отцовском кабинете, никаких бумаг не нашли, то их и не было.
Это предположение оказалось ошибочным и довело меня, еще в нежном подростковом возрасте – Аманда, прости, что мои мысли тогда были заняты не тобой, – до язвы.
Почему ошибочным? Буквально через час, разобравшись с «Рождественской песнью» Диккенса 1843 года издания (раскрашенные вручную иллюстрации Джона Лича) и альдинским Лукрецием начала шестнадцатого века, я открыл одну из последних Библий и обнаружил внутри не книгу, а значительную сумму денег – около тридцати тысяч – и стопку бумажек. Перевязанные резинками пачки банкнот я положил обратно трясущимися руками, а бумажки осторожно разложил на кровати. Я сразу понял, что именно нашел. Это были квитанции о покупке. Я рассортировал их по книгам, поспешно осмотрел сокровища в оставшихся Библиях, бегло занес данные в свой собственный каталог и сложил всю коллекцию в коробки из-под детских комиксов, которые продал, чтобы купить приставку. Прибравшись в кладовке, я аккуратно поставил туда коробки, прикрыв их старой одеждой, спортивным инвентарем и спальным мешком. Теперь обнаружить книги смогла бы лишь команда археологов. Себе я оставил лишь Библию, которую отец читал в свободное от коллекционирования литературных памятников время, и ту, в которой лежали деньги и квитанции.
Мне всегда казалось странным, что у отца, обладавшего громким, могучим голосом, почерк был как у изящной старой леди. Выходило как-то по-дурацки. Его львиный рык мне уже не услышать, а вот кошачьи пометки на квитанциях и документах сохранились. Во мне проснулся настоящий счетовод, и я принялся изучать бумажки. Поначалу меня поставили в тупик закодированные пометки. Что, скажите, могло означать $ИНГБ0 или $АОБ00? Я пал духом. Среди непонятной писанины проскакивали имена Мильтона, Драйдена, Свифта и По. Книги некоторых из них – не всех – лежали в моей кладовке. Но тут я нашел смятый клочок бумаги, на котором было написано «$Иоанбгслв0», и после непродолжительных раздумий меня осенило. Вот он, код! Мой отец взял имя апостола, убрал повторяющиеся буквы, чтобы каждая из оставшихся соответствовала числу от одного до девяти, и добавил ноль. «Неплохо придумано, папа», – с чувством гордости за отца подумал я. От воспоминаний меня кинуло в жар, будто температура и вправду поднялась. Я вздрогнул, подумав о том, чего ему стоило собрать все эти книги и не выдать секрета, и тут в дверь снова позвонили. Понимая, что эта стопка бумаг не менее ценна, чем сами книги, я убрал их обратно в Библию и сунул под подушку, надеясь, что даже инопланетяне или вампиры не опустятся до того, чтобы отобрать у несчастного скорбящего мальчика его экземпляр Слова Божьего.
Уже приученный осмотрительно относиться к незваным гостям, я выглянул из окна второго этажа и опешил: перед домом стоял черный «мерседес», который я видел в тот жаркий августовский день. Ничего хорошего это мне не сулило. Но я не мог до конца своих дней прятаться в доме, как книга внутри Библии, в надежде, что деловые партнеры отца – а я был уверен, Аманда, что это именно один из них, и в ту минуту отчаянно захотел оказаться в твоих теплых, нежных объятиях – оставят меня в покое. Аминь.
Звонок повторился. Что ж, волков бояться – в лес не ходить. Я спустился и открыл дверь. Передо мной стоял мужчина средних лет в шикарном непромокаемом пальто со стоячим воротником. Седеющие усы, голубые с металлическим отливом глаза, вид человека, умудренного опытом. Выглядел он как типичный богатый горожанин.
Он вежливо спросил, дома ли отец, и мне стало ясно, что это он звонил по телефону. Капли дождя барабанили по полям коричневой шляпы, и я понял, что его приезд в такую ненастную погоду означал, что он не знает, на самом деле не знает о смерти отца. А это, разумеется, означало, что убийцей был кто-то другой.
– К несчастью, отец скончался две недели назад. – Мне даже не пришлось прибегать к своим жалким актерским способностям, ведь сказанное было чистой правдой.
Незнакомец выглядел ошеломленным, что в очередной раз доказывало его непричастность. Новость его расстроила.
– Не знал. Я уезжал за границу по делам. Мои соболезнования. У нас была договоренность о встрече, и… даже не знаю, что теперь делать.
– Может, зайдете в дом? А то промокнете.
– Только на минутку.
Мы вошли в прихожую. С незнакомца ручьями лилась вода, а я дрожал от холода.
– Если не ошибаюсь, мы уже встречались. Несколько месяцев назад, в церкви, – заметил он. – Могу я узнать, что случилось с твоим отцом? Внезапная болезнь? Когда мы в последний раз виделись, он выглядел здоровым как бык.
– Нас друг другу не представили, – уточнил я, – но мы с вами действительно встречались. Папа умер от черепно-мозговой травмы. Упал с церковной лестницы. Говорят, несчастный случай.
Я только сейчас заметил, что у мужчины с собой был кожаный чемодан.
– А ты, кажется, сомневаешься в том, что это несчастный случай.
Теперь его голос звучал озабоченно, и я решил, что поторопился с выводами. Он явно был нечист на руку.
– Я еще ребенок, поэтому могу лишь гадать. – Опять хлеб по водам.
– Ребенок, но весьма смышленый. Это, конечно, не мое дело, но ты ведь наверняка сообщил полиции о своих подозрениях?
– Конечно. Детектив лишь недавно ушел.
– Вот как? Надеюсь, он докопается до истины. Я был высокого мнения о твоем отце. У нас были общие увлечения. Я привез ему из-за границы кое-что из того, о чем он просил, – мужчина приподнял чемодан, – но это уже не важно.
Его слова поставили меня в затруднительное положение. Я одновременно знал и не знал, что в чемодане. Я умирал от любопытства, желая знать, что принес незнакомец, чьего имени я, по своей глупости, так и не спросил. Неужели отцовские книги настолько завладели мной, как и им? Еще никогда я не чувствовал себя таким беспомощным. Будь у меня хотя бы жиденькие усики, не говоря уже о шикарных усищах моего собеседника, я мог бы поговорить с ним на равных и сказать: «Эй, я разбираюсь в книгах. Что там у вас? Древний пергамент? Книга в двенадцатую долю или ин-кварто? Боэций или Лукреций?» Но я прекрасно понимал, что разговора на равных не выйдет, поэтому ответил иначе:
– Если это подарок, я бы мог передать его маме от вашего имени.
Я надеялся вытянуть из незнакомца хоть какую-нибудь информацию. Он явно задумался. Будь он героем мультфильма или комикса, художники наверняка бы изобразили то, что творится в его голове, – шестеренки, поршни, клубы дыма, похожие на цветную капусту. Клянусь всеми ангелами, что порхают вокруг на легких крылышках, и всеми чертями, что когда-либо тыкали вилами в зад грешника, он размышлял целую минуту. Его ответ меня обезоружил:
– Это не подарок. Твой отец хотел продать эту вещь одному своему… другу.
Заминка перед словом «друг» означала, что это никакой не друг. Я был юн, но не вчера родился. Простое любопытство сменилось твердым желанием узнать правду.
Мужчина продолжил, раздумывая на ходу:
– Я бы отдал эту вещь тебе, но ты можешь не знать, что нужно с ней делать.
– А что там сложного? – При всей моей любви к отцу я полагал, что разберусь в его схемах.
– Тебя ведь зовут Лиам, так?
– Верно.
– А я – Джон Харрисон. Можно снять пальто?
– Конечно, – ответил я, чувствуя, что разгадка близка.
Словно по команде невидимого режиссера, мы сели ровно на те же места, где до этого я сидел с Рейнолдсом. Харрисон поставил чемодан между своими начищенными до блеска черными туфлями.
– Ты знал об отцовской страсти к книгам?
Невероятно! Неужели он прямо сейчас все мне выложит?
– К Святому Писанию? Еще как! Кроме этого – не особенно.
– Ему нравились и другие книги. Лиам, ты любишь читать?
– За последнее время во мне проснулся интерес к чтению, – коряво ответил я, желая изречь умную фразу.
– Уверен, твой отец оценил бы это.
– Мистер Харрисон, чем вы занимаетесь? – спросил я, желая сменить тему разговора.
Я постарался, чтобы вопрос прозвучал непринужденно, но еще до ответа придумал целую кучу новых. Как он познакомился с отцом? К чему такая секретность? Кто тот другой мужчина в белом «порше»? Если отца столкнули с лестницы, то зачем? Что вообще происходит?
– Можешь звать меня Джон. Я библиотекарь, – ответил мужчина. – Как и ты, я с детства любил читать, а когда вырос, решил работать в окружении книг.
– Логично, – сказал я, стараясь не обращать внимания на его снисходительный тон.
– Работа временами скучная, но полезная.
– Так можно сказать про любую работу, – заметил я, но, чувствуя, что Харрисон обдумывает нечто очень важное, решил не давить на него. Мне хотелось, чтобы он скорее дошел до сути.
– Лиам, послушай, – после короткой паузы сказал Харрисон, то есть Джон. – Ты умеешь хранить тайны?
Я подумал о спрятанных в кладовке Библиях, Аманде и прочих фантазиях, которые не выходили за пределы моей комнаты, и ответил:
– Еще как!
– Отлично. Я так и думал. Как сын пастора, ты, должно быть, знаешь выражение «совершить прыжок веры»?
– Да. Рискнуть во имя убеждений.
– Хорошо. Сейчас я совершу такой прыжок, идет?
– Валяйте, – ответил я тоном «четкого» парня и тут же пожалел, что не выразился по-взрослому.
– Договорились. Знаешь ли ты, что такое «переуступка»?
– Нет, сэр.
– А «изъятие»?
Это слово я знал, но не понимал, в каком контексте оно здесь используется. Харрисон все объяснил, а заодно рассказал много других интересных вещей. Чем больше я с ним общался, тем более крутым, точнее, солидным он мне казался. Мне стало ясно, почему отец дружил и сотрудничал с ним. Мы беседовали целый час, и Харрисон обращался со мной как со взрослым. Такого отношения я прежде ни в ком не встречал. Он буквально открыл мне новый мир, о существовании которого я не догадался бы, если бы в моих руках не оказалась отцовская коллекция. Когда я более-менее вник в суть, часы пробили четыре. Мама и Дрю должны были вернуться с минуты на минуту. Харрисон пожал мою влажную от волнения руку, но оставлять книгу не стал, для большей надежности, хотя в моей кладовке она была бы спрятана, пожалуй, еще надежнее. Безусловно, он мог обманывать меня, но я нутром чуял, что он говорил правду: преподобный уже несколько лет вел весьма занятную двойную жизнь. С одной стороны, я не мог представить своего богобоязненного отца-велосипедиста в образе контрабандиста, с другой – чувствовал необъяснимую гордость за то, что ему удавалось так долго хранить в тайне свои махинации. Он стоял вне подозрений именно благодаря кристально чистой репутации. Да, я был потрясен, но одновременно и вдохновлен. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что именно в этот день, к добру или худу, я стал взрослым.
Верный своим богопротивным принципам, я сдержал слово и не рассказал родным о втором пятничном госте, упомянув лишь о визите полицейского.
– У него есть какие-нибудь новости? – спросила мама, набивая кухонные шкафчики жестянками с супом и овощами.
Холодильник ломился от кастрюль с жарким и пирогов, оставленных после похорон соседями-прихожанами, и туда влез лишь пакет молока.
Нужно отдать маме должное; рацион, благодаря которому отец оставался таким здоровым и бодрым за много лет их совместной жизни, не поменялся с его уходом. Раз мясные хлебцы, картофельное пюре и консервированная фасоль подходили человеку, который много лет читал проповеди сотням неприкаянных душ, а втайне собирал и толкал редкие книги – пока Харрисон не объяснил, я и не знал, что у глагола «толкать» есть и такое значение, – то они сгодятся и для меня.
– Не особенно, – ответил я, оставаясь спокойным как удав. – Сказал, что все в отделе согласны с версией о несчастном случае. Улик у них нет.
Я чуть не предложил подать против церкви иск из-за выступа на третьей ступеньке, о который отец мог споткнуться, но сразу сообразил, что это будет иск против нас самих. К тому же не было гарантий, что отец исправно платил страховые взносы. Игра не стоила свеч.
– Пускай больше не приходит и не ворошит плохих воспоминаний.
– Понимаю. Но он хочет как лучше. – Мне вспомнилось высказывание о том, что путь в преисподнюю выложен добрыми намерениями.
Мама была права. Теперь, зная чуть больше, я бы предпочел, чтобы Рейнолдс поумерил рвение. Правило «око за око, зуб за зуб» мог привести к тому, что я сам недосчитаюсь ока и зуба. В конце концов, отец действительно мог споткнуться и упасть сам. Все равно его не вернуть. Нравилось мне это или нет, но чем меньше полиция интересуется его гибелью, тем меньше риск, что мою коллекцию обнаружат. Он был человеком, которого горячо любили прихожане, пусть таким и остается.
– Это Лиам его толкнул, – пробормотал себе под нос мой недалекий брат. Он был всего на три года моложе, но порой вел себя как трехлетний.
– Придержи язык, – сурово отчитала его мама.
– Да, помолчи, дружище, – добавил я.
– Хватит меня так называть, – парировал брат.
– Как? «Дружище»?
– Прекратите оба!
Ужин проходил под звон вилок и ножей, стукающихся о тарелки, чавканье губ, жадно втягивающих сок, стук стаканов о стол и хлюпанье носом с моей стороны. Похоже, меня одолела вовсе не притворная простуда, – вне сомнения, это была кара небесная. Я улегся спать рано; никакой приставки, никаких видеоклипов в Интернете, никакого Лукреция и его трактата «О природе вещей». Весь в поту, я проспал до позднего утра.
– Как ты? – постучала в дверь обеспокоенная мама.
– Через минуту спущусь! – ответил я, но вместо этого провалялся еще полчаса, думая об Аманде.
Церковь была закрыта до приезда нового пастора, и у меня не было повода с ней увидеться. Я думал также о Харрисоне. Он оставил мне номер своего мобильного. Кажется, он и сам не до конца верил, что фактически предложил мне заняться подпольным бизнесом отца. Вероятно, преподобный был толкачом уже много лет и других посредников у Харрисона не было. То ли он не мог их найти, то ли они оказывались ненадежными.
– Ты слишком юн, чтобы этим заниматься, – сказал Харрисон под конец нашего разговора. Он будто бы думал вслух. – Но дело срочное, и нарушать предварительные договоренности нежелательно.
Я был горд, когда меня попросили участвовать в сделке.
Такие махинации – не детская забава. Не игра в шарики, футбол или еще какую-нибудь ерунду.
– Клод должен выйти на связь в ближайшие дни. На кону большие деньги для нас троих, – продолжил Харрисон.
Неожиданное участие в банде, в сложной криминальной схеме, где каждый зависел друг от друга, а барыши текли рекой, взволновало меня.
– Твой отец был бы благодарен, если бы я попросил тебя оформить сделку. Да и деньги тебе не помешают. Только никому не рассказывай и не давай повода что-либо заподозрить, договорились?
– Можете на меня положиться, – на полном серьезе ответил я.
Не знаю насчет благодарности отца, но работа была не пыльной и вполне подходила моей бунтарской натуре. План выглядел так: Харрисон передаст мне книгу для покупателя – некоего Клода, – тот заплатит заранее оговоренную сумму, которую я в свою очередь отдам Харрисону за вычетом «посреднического процента», и все останутся довольны. Харрисон и Клод не хотели встречаться лично и даже разговаривать друг с другом во избежание риска, поэтому роль посредника перешла от отца ко мне.
– А почему вы не хотите? – невинно спросил я.
– Лиам, лучше тебе не знать, – объяснил, а точнее – не объяснил Харрисон. – И постарайся забыть слово «почему?».
Мне и так не слишком нравилось это слово, и не произносить его было проще простого.
– Как мне связаться с этим Клодом?
– Никак, – ответил Харрисон. – Он сам с тобой свяжется.
– А откуда он узнает, что у меня есть нужная ему вещь?
– Он и не узнает. Либо у тебя будет товар, либо нет, – сказал Харрисон. – Не думай об этом. Все гораздо проще, чем тебе кажется. Твой отец говорил, что Клод – весьма приятный человек, и у меня нет причин сомневаться в его оценке.
Я не был настолько уверен, что отец хорошо разбирался в людях, но возражать не стал. Избегая слова «почему?», я попробовал еще немного прощупать почву:
– А этот Клод, случайно, не на белом «порше» ездит? Как в старых фильмах?
– Лиам, твоя любознательность и смелость меня восхищают. В твоем возрасте такие качества – редкость. Ответ на твой вопрос: «необязательно». А ответ на твой следующий вопрос, если я верно его угадал: «узнаешь, когда придет время». Устроят тебя такие ответы?
– Устроят, – кивнул я, все больше и больше восхищаясь безумием происходящего.
Добрая улыбка на лице Харрисона воодушевила меня. Мне не терпелось узнать, что же за книгу он принес в чемодане. Какого она века, в каком переплете, кто автор и все остальное. Вне всякого сомнения, она была очень ценной, но это не слишком волновало меня. Да, нам, моей семье и отцовской церкви, нужны были деньги. Но меня необъяснимо привлекала сама книга как предмет, и я не смогу ответить почему, даже если потрачу на это тысячу лет. Наилучшим объяснением станет слово «любовь». Я не слишком сентиментален, но я чувствовал к этим книгам любовь: чистую и простую и одновременно – порочную и сложную. Не такую, которую я испытывал к Аманде – ее я любил больше всего на свете, – но полноценную, растущую с каждым днем любовь к этим античным игровым приставкам в кожаных переплетах, пергаментных телевизорах, запрограммированных и настроенных Боэцием и его блестящими сотоварищами, что обессмертили себя, поставив свои имена на бумаге. Мне хотелось выпалить Харрисону, что я в деле, но я сохранил хладнокровие. Пускай немного подождет. Он достаточно умен, чтобы догадаться самому.
К тому же я вспомнил в точности слова матери, сказанные после гибели отца, острые, словно бритва, которой я только начал снимать тонкие волоски на подбородке, и твердые, как цементный пол, о который отец размозжил голову. «Теперь ты – глава семьи, – сказала она, – и заменишь отца, насколько сможешь». Тогда я не задумывался о том, что от меня потребуется. Но время быстротечно, и моя жизнь мгновенно перевернулась с ног на голову. Я больше не мог сидеть и мечтать, чтобы все вернулось на круги своя. Я знал, что должен сделать, если хочу оправдать возложенные на меня надежды. Знал, кем должен стать. Курс на ближайшие несколько лет был задан. Я твердо решил пробиваться к цели, не обращая внимания на подводные камни. Пораздумав несколько дней, Харрисон позвонил мне и спросил, готов ли я.
– Да, сэр, – отчеканил я. – Благодарю за доверие!
Мы встретились у игровой площадки начальной школы. Харрисон передал мне книгу, добытую для отца, на этот раз в непримечательном бумажном пакете коричневого цвета, и поспешно ушел.
Я выполнил свои обязанности безупречно, и было решено, что я продолжу играть роль посредника. Я с гордостью облачился в шкуру моего отца, но не забывал об осторожности. Мне все больше казалось, что любой диплом, который я мог получить, не шел ни в какое сравнение с теми симбиотическими знаниями, что я получал при чтении и изучении этих книг. Не хочу показаться глупым и преувеличивать, но они пробудили во мне желание узнать гораздо больше, чем я мог узнать в колледже или университете.
Мне до сих пор кажется невероятным, что в те дни моей безусой юности, дни безумно методичного стремления к знаниям, дни, когда мне приходилось постоянно перекрашиваться из хорошего мальчика в плохого и обратно, осторожно передавая редчайшие книги за деньги, которые, как известно, не пахнут, Харрисон или Клод мог довериться несовершеннолетнему, неопытному мальчишке. У меня было лишь одно разумное объяснение: раз мой праведный, благочестивый отец считался идеальным посредником в их «освободительной операции» – так они называли контрабанду, вероятно прогоняя угрызения совести, – то я, его старший, но еще невинный сын, мог справиться с этим еще лучше.
Я благоразумно не спрашивал Харрисона о причинах моего вовлечения в отцовский подпольный бизнес, если можно так сказать. Мы лишь говорили о книгах, суммах, прибыли, коллекционерах и дилерах – Клод был далеко не единственным. Как я вскоре выяснил, всех наших клиентов звали Клодами. Оплата всегда шла наличными, и я никогда не видел чеков, водительских прав и других удостоверений личности. Я не знал и не хотел знать настоящих имен своих коллег-библиоманов. Имя «Клод» было идеальным – вы знаете хоть одного исторического деятеля с таким именем?
Идя по стопам отца, я сохранял кое-какие книги, предназначенные для продажи, если был не в силах с ними расстаться. Делал я это открыто и платил за них Харрисону из своих сбережений. Потенциальным покупателям я говорил, что книги не оказалось в наличии, и предлагал взамен одну из ненужных отцовских книг. Покупатели нередко расстраивались, но, постучу по дереву, ни в чем меня не подозревали. Благодаря кристально чистой репутации отца и моей юношеской открытости – удивительно, но чем больше я обманывал, тем легче мне было убедить всех в своей честности – все шло без сучка без задоринки.
Конечно же, я не рассказывал о своих сокровищах ни родным, ни друзьям. Это было непросто, и хотя число томов в моей коллекции не увеличивалось, ценность их неуклонно росла. Когда мне перевалило за двадцать, а Эндрю отправился в колледж – второразрядный, двухгодичный, – в моих Библиях лежали редкие книги на два с четвертью миллиона долларов. Близкие считали, что меня подкосила смерть отца и я попусту растратил свои способности и знания, но это заблуждение было мне только на руку. Я устроился работать продавцом в местном супермаркете и в конце концов дослужился до управляющего, хотя мне это было не нужно: я зарабатывал деньги куда более быстрым и легким способом, пусть и тайком. Меня всецело захватила лихорадка, болезнь, страсть – прости, милая Аманда, – от которой не было исцеления.
Я отдавал маме деньги на содержание дома, порой немалые, а на ее удивленные расспросы отвечал, что выиграл в лотерею. Тысячу здесь, несколько тысяч там. Ей оставалось лишь принять это объяснение и выразить мне скупую благодарность. Кроме того, я, стиснув зубы, жертвовал деньги на церковь, притом что проповеди нового пастора вдохновляли меня ничуть не больше отцовских. Но я все равно исправно посещал службы: отчасти, чтобы составить компанию маме, отчасти, чтобы порадовать Харрисона, который хотел от меня как можно больше внешнего благочестия. Но главной причиной оставалась Аманда. По будням она работала кассиром в банке и больше не занималась с детьми в воскресной школе, но по-прежнему приходила петь в церковном хоре и даже заменяла порой постоянного дирижера, миссис Тот, милую даму с грушевидным лицом, много лет работавшую вместе с отцом. Она – Аманда – с годами стала только краше. Годы были ей к лицу – по крайней мере, на мой субъективный и предвзятый взгляд. Она стала прекрасной женщиной с доброй улыбкой и прекрасным чувством юмора, и многие считали ее достойной куда лучшей партии, чем я. Но никакие препятствия не могли меня остановить. Небеса предназначили нам быть вместе. Я был Данте, Аманда – моей Беатриче. После некоторых колебаний она разрешила мне провожать ее после службы. За много месяцев эти прогулки позволили нам лучше узнать друг друга. Аманда стала видеть во мне не просто сына проповедника, а живого человека: доброжелательного, пусть и немного странного, преданного, пусть и застенчивого – по крайней мере, в ее присутствии. Мои же подростковые фантазии ушли на второй план, когда я познакомился с ее истинной натурой – скромной, благопристойной, человечной. Мы обсуждали ее любовь к музыке и мою любовь к книгам. Она познакомилась с литературными и философскими шедеврами, которые я ценил больше всего, – некоторые в виде первоизданий по-прежнему прятались в моей кладовке, – а также с несколькими романами Дэвида Лоуренса и Генри Миллера, которые я считал классикой. Я иногда заходил к ней послушать музыку. К моему удивлению, наряду с Бахом, Моцартом и Бетховеном ее любимыми композиторами оказались Морис Равель и Клод – только подумайте, Клод! – Дебюсси. А еще ей нравился Принс, что еще больше подогрело мои чувства.
В одной из моих тайных книг наверняка отыщется объяснение обстоятельствам, сложившимся в том туманном мае, когда мне был двадцать один год. Не столько самим обстоятельствам, сколько их стечению, невидимым нитям, за которые дергал скрюченный кукловод, известный нам как всеведущий Бог. Сам Бог уж точно не станет ничего разъяснять, и даже мой ненаглядный Боэций вряд ли справится, поэтому придется вам послушать меня.
Год назад Аманда невероятно удивила меня, позволив поцеловать себя во время прогулки. Поцелуй под одиноким деревом был долгим, нежным, и я не мог поверить, что мои фантазии наконец стали реальностью. Быть может, общение с начитанным библиотекарем Харрисоном, отчасти заменившим мне отца, сделало меня мудрее и искушеннее, а значит, привлекательнее для Аманды, которая была на добрых шесть лет старше. А может, дело в том, что спрятанная в кладовке, под грязным бельем, куча денег – пожалуй, вдвое больше, чем у всех соседей, вместе взятых, – придавала мне уверенности в себе, свойственной взрослым. Кроме того, я наконец осилил Набокова и взялся за чтение переводов моих книг, изданных на греческом, латинском, французском и немецком. Кто знает и зачем лишний раз задаваться этим вопросом?
Наши воскресные прогулки переросли в полноценный совместный отдых. Мы ходили в рестораны и кино, ездили на Манхэттен, в Карнеги-холл и музеи и в конце концов стали проводить вместе больше времени, чем я мог надеяться в своей похотливой юности. Я и сам удивлялся тому, что мои фантазии, мои подростковые желания и грезы сбылись и девушка, в которую, казалось, я был влюблен еще в школе, превратилась в женщину, которую я действительно полюбил. В юности я цинично полагал, что те чувства мимолетны, нереальны, в отличие от суровых фактов, вроде смерти отца и угасания мамы. Любой повод для радости был редкостью, хрупкой, как мои драгоценные книги.
Преподобный обожал Аманду – разумеется, не зная о моих грязных мыслях, – и мама одобрила наши отношения. Мне кажется, что мама с радостью бы обменяла нас с братом на дочь, и я ее не виню. Мы с Дрю много лет доставляли ей одни хлопоты. Будь у нее дочь, ей было бы легче переносить чопорность отца. Аманда стала для нее кем-то вроде дочери: помогала тушить мясо по воскресеньям, советовала, в какой цвет красить седеющие волосы. Я был рад за обеих, ведь у матери Аманды оказался очень сложный характер, – но это уже совсем другая история. Мои ухаживания – уж не знаю, из какого нафталина мама откопала этот термин, – имели успех, на который я даже не надеялся. Аманда не только говорила, что любит меня, но и уверяла, что не встречала никого лучше меня.
Как-то раз она даже разоткровенничалась:
– Я давно положила на тебя глаз. Симпатичный сын симпатичного пастора. Наверное, я всегда тебя любила. Но и как человек ты мне тоже нравишься. Очень-очень нравишься.
Не думаю, что кто-нибудь еще, включая моих родных и Харрисона, мог сказать нечто подобное. «Лиам? О, этот парень мне искренне нравится». Да ну?
Однажды за обедом – кажется, мы ели бараньи ребрышки с картошкой – раздался звонок в дверь. Я открыл.
– Привет, Лиам. – На пороге стоял Рейнолдс. – Как дела?
Стараясь не выдать удивления – хотя Рейнолдс вряд ли удивился бы моему удивлению, учитывая, что мы не виделись несколько лет, – я ответил, что все хорошо.
– Я проезжал мимо и решил вас навестить.
– Очень любезно с вашей стороны.
Пришлось его впустить.
– Лиам, кто там? – спросила из столовой мама.
– Детектив Рейнолдс! – ответил я, от всей души желая, чтобы она не пригласила его к столу.
– Пускай пообедает с нами, если хочет.
– Нет, Лиам, не стоит. Не хочу мешать вашему семейному обеду.
Мне не хотелось перекрикиваться, поэтому я сказал:
– Ничего страшного, заходите. Мама будет рада. Моя девушка тоже здесь.
– У тебя появилась девушка? Молодец, – сказал Рейнолдс, но проходить не спешил. – Не хочу показаться невежливым, но мне нужно перекинуться с тобой парой слов.
Он взглянул на часы, сделав вид, что торопится, но в этом нарочитом жесте прозвучало больше тревожных звонков, чем в экстренной службе за целый день, как говаривал отец.
– Минутку, – ответил я и зашел в столовую – предупредить, что детектив хочет поговорить со мной наедине.
– Он узнал что-то об отце? – произнесла мама таким голосом, будто ее подстрелили, и опустила вилку.
– Не знаю, – ответил я, глядя на Аманду. Та взволновалась не меньше мамы. – Не волнуйтесь. Ешьте спокойно, я скоро вернусь.
Рейнолдс предложил выйти на улицу. Я взял с вешалки дождевик и вышел. Дождь стоял стеной, и казалось, будто он льется снизу вверх, а не наоборот. У дорожки стоял тот же темно-синий «шевроле», что и несколько лет назад.
– А вы любите свою машину, – сказал я, нарушая неловкое молчание.