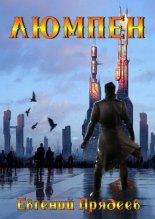Создание атомной бомбы Роудс Ричард
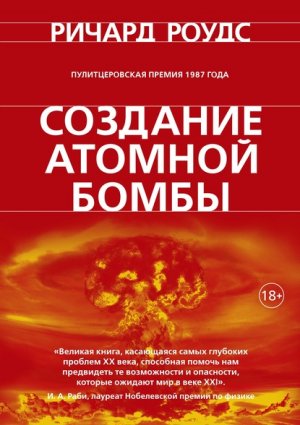
Однако сам Оппенгеймер чувствовал себя неполноценным; как он признался много лет спустя, он всегда ощущал в отношении всех действий в своей жизни «очень сильное чувство отвращения и неправильности». По-видимому, в Лос-Аламосе это отвращение впервые несколько ослабло. Возможно, там он нашел процесс самоанализа, основанного на дополнительности, который он применял более широко в последующей жизни: «Пытаясь освободиться и стать разумным человеком, я неизбежно осознал, что мои тревоги о том, что я делаю, обоснованны и важны, но ими дело не исчерпывается; что должна существовать дополнительная к ним точка зрения, потому что другие люди видят в них не то, что вижу я. И мне нужно было то, что они видели, нужны были они сами»[2401]. Он, несомненно, нашел более традиционное средство от тревог – забыться в работе.
Каковы бы ни были в эти годы нравственные и рабочие тяготы Оппенгеймера, на него в полной мере лег еще и груз личных проблем. Он находился под постоянным наблюдением; за его перемещениями следили; его квартиру и телефоны прослушивали; посторонние люди наблюдали за ним даже в самые интимные моменты его жизни. Его домашняя жизнь явно не была счастливой. Напряжение изолированной жизни в Лос-Аламосе заставило Китти Оппенгеймер искать утешения в тяжком пьянстве; в конце концов руководство общественной жизнью на Холме взяла на себя Марта Парсонс, дочь адмирала. Офицеры армейской службы безопасности безжалостно донимали директора главной лаборатории самого важного в стране секретного военного проекта; по меньшей мере один из них, Пеер де Силва, был убежден, что Оппенгеймер – советский шпион. Они часто допрашивали его, вытягивая из него имена людей, бывших, по его сведениям или предположениям, членами Коммунистической партии, надеясь поймать его на ошибке. Оппенгеймер выдумывал истории и называл имена своих друзей, чтобы защитить свое собственное[2402], и эта разговорчивость впоследствии доставила ему немало мучений.
В первое лето его пребывания в Лос-Аламосе с ним связалась Джин Тэтлок, та несчастливая женщина, которую он любил до знакомства с женой. Хотя она некогда состояла – и могла до сих пор состоять – в компартии, а он знал, что за ним следят, он счел своим долгом встретиться с ней. Отчет ФБР дает холодное описание этой встречи в изложении подглядывавшего за нею сотрудника службы безопасности:
Оппенгеймер выехал из Беркли по железнодорожной линии «Ки»[2403] и вечером 14 июня 1943 г. прибыл в Сан-Франциско, где его встретила Джин Тэтлок, которая его поцеловала. Они поужинали в кафе «Хочимилчо» в д. 787 по Бродвею, Сан-Франциско, а после этого, в 10:50 вечера, переместились в д. 1405 по Монтгомери-стрит и вошли в квартиру на верхнем этаже. Затем свет погас, и Оппенгеймер не появлялся до 8:30 утра следующего дня, когда он вышел из здания вместе с Джин Тэтлок[2404].
В январе 1944 года Джин Тэтлок покончила с собой. «Я хотела быть живой и щедрой и как-то оказалась парализована»[2405], – было сказано в ее предсмертной записке. Видимо, с таким же параличом духа боролся в себе и Оппенгеймер.
В марте 1944 года началось планирование полномасштабных испытаний имплозивного оружия. Где-то между мартом и октябрем[2406] Оппенгеймер предложил кодовое название этих испытаний. Первый рукотворный ядерный взрыв должен был стать событием историческим, и его название могло остаться в истории. Оппенгеймер назвал испытания и площадку их проведения словом Trinity (Троица). В 1962 году Гровс спросил его в письме, почему он выбрал именно это слово, предполагая, что причиной было то, что оно не должно было привлечь особого внимания, так как часто встречается в названиях рек и гор американского запада.
«Я действительно предложил это название, – ответил Оппенгеймер, – но не по [этим] соображениям… Почему я выбрал именно это слово, не вполне ясно, но я знаю, о чем я думал. У Джона Донна есть одно стихотворение, написанное им перед самой смертью, которое я знаю и люблю. Вот цитата из него:
Это стихотворение Донна называется «Гимн Богу, моему Богу, написанный во время болезни». В его хитросплетениях проявляется идея дополнительности, вторящей той дополнительности бомбы, с которой незадолго до этого познакомил Оппенгеймера Бор. «Бор сильно увлекся этой идеей, – свидетельствует Бете, – и был искренне заинтересован в ее осуществлении, причем у Бора были долгие беседы с Оппенгеймером, благодаря которым Оппенгеймер оказался вовлечен в это дело на очень раннем этапе. Оппенгеймер очень проникся идеями Бора относительно международного контроля»[2409]. Одна из идей, которые выражают этот парадокс в стихотворении, сводится к тому, что умирание ведет к смерти, но в то же время может открывать путь к воскрешению – так же, как бомба, по мнению Бора и Оппенгеймера, является орудием смерти, но также может привести к окончанию войны и спасению человечества.
«Все это еще не приводит к Троице, – продолжает Оппенгеймер в своем письме к Гровсу, – но другое, более известное, религиозное стихотворение Донна начинается словами “Бог триединый, сердце мне разбей!”. Помимо этого у меня нет никаких идей»[2410]. Не было их, по-видимому, и у Гровса, но четырнадцатый из «Священных сонетов» Джона Донна также разрабатывает тему разрушения, которое может обернуться спасением:
- Бог триединый, сердце мне разбей!
- Ты звал, стучался в дверь, дышал, светил,
- А я не встал… Но Ты б меня скрутил,
- Сжег, покорил, пересоздал в борьбе!..
- Я – город, занятый врагом. Тебе
- Я б отворил ворота – и впустил,
- Но враг бразды правленья захватил,
- И разум – Твой наместник – все слабей…
- Люблю Тебя – и Ты меня люби:
- Ведь я с врагом насильно обручен…
- Порви оковы, узел разруби,
- Возьми меня, да буду заточен!
- Лишь в рабстве – я свободу обрету,
- Насильем возврати мне чистоту!..[2411]
Возможно, эти стихи были достаточно воинственными, достаточно пылкими и достаточно парадоксальными, чтобы из них можно было позаимствовать идею кодового названия для первых секретных испытаний эпохальной силы, навязанной миру.
Оппенгеймер не сомневался, что его до какой-то степени будут помнить и винить в том, что он возглавил предприятие, впервые в истории давшее человечеству средства самоуничтожения[2412]. Он лелеял еще одну искупающую мысль – знание, что та страшная задача, решать которую заставит бомба, имеет два решения, два исхода, один из которых трансцендентен. Понимание этого по меньшей мере оправдывало работу в Лос-Аламосе, а работа, в свою очередь, помогала залечить разрыв между самосознанием и чрезмерно мучившими его угрызениями совести[2413]. Он уже давно осознал возможность такого исцеления и прямо говорил о нем в послании о дисциплине, которое написал своему брату Фрэнку в 1932 году. Оно завершалось следующим наставлением в духе апостола Павла: «Поэтому я полагаю, что все то, что порождает дисциплину, – учебу и наши обязанности перед людьми и обществом, войну и личные невзгоды, даже нехватку средств к существованию – мы должны принимать с глубокой благодарностью, ибо только через них мы сможем достичь хоть какой бы то ни было отрешенности, и только так мы можем познать умиротворение»[2414]. В Лос-Аламосе он, хотя бы на время, нашел такую отрешенность в обязанностях перед людьми и обществом, которые, как учил его Бор, можно было считать благородными, а не смертоносными. Оппенгеймер был не первым человеком, нашедшим себя в войне.
Для успешной работы над имплозией в Лос-Аламосе нужно было разработать средства диагностики, методы регистрации и измерения событий, происходивших за время гораздо более короткое, чем мгновение ока. Железные трубки, которые сжимал взрывами Сет Неддермейер, можно было изучать, нацеливая на их отверстия высокоскоростной фотоаппарат со вспышкой, но как физики Отдела G могли наблюдать форму детонационной волны во время ее прохождения сквозь сплошные блоки взрывчатки или сжатие металлической сферы, полностью окруженной этим взрывчатым материалом? Это были компетентные исследователи, ученые, проработавшие в условиях жестких технологических ограничений полтора года; диагностика требовала изобретательности, и они приложили к этой задаче все свои еще не растраченные творческие силы.
Надежные результаты давала рентгеноскопия; отдел артиллерии уже использовал рентгеновские лучи для исследования поведения малоразмерных сферических зарядов взрывчатки. Рентгеновское исследование выявляет различия в плотности – более плотные кости дают более темную тень, чем менее плотная мышечная ткань, – а поскольку детонационная волна развивающейся имплозии изменяет плотность взрывчатого вещества по мере прохождения сквозь него и его воспламенения, рентгенограмма позволяла увидеть такую волну. Но приспособление рентгеновской диагностики к исследованиям имплозии во все более крупных масштабах требовало защиты хрупкого рентгеновского оборудования от многократных взрывов, в каждом из которых могло использоваться до ста килограммов взрывчатки. Физики решили эту проблему необычным способом: они разместили стенд для имплозивных испытаний между двумя близкорасположенными блокгаузами, в одном из которых были установлены источники рентгеновского излучения, а в другом – радиографическое оборудование, отделенное от испытательного стенда защитными окнами. В конце концов наиболее пригодным для исследований детонационных волн оказалось импульсное рентгеновское оборудование – рентгеновские трубки с высоким током, испускающие импульсы раз в одну десятимиллионную секунды.
При помощи рентгеновских лучей и высокоскоростной фотографии было легче изучать поведение опытного взрывчатого снаряда, чем сжатие его более плотного металлического сердечника. Для слежения за металлическим сердечником во время его уплотнения, при котором он сжимался до объема, составлявшего менее половины исходного, в Лос-Аламосе разработали несколько разных методик диагностики, которые использовали в дополнение к рентгеноскопии.
В соответствии с одним из методов опытный образец помещали в магнитное поле и измеряли изменения конфигурации поля при сжатии металлической сферы. Поскольку взрывчатка практически не взаимодействует с магнитным полем, этот метод наконец позволил физикам исследовать полномасштабные сборки. Он обеспечивал возможность достоверных измерений отражения ударных волн от активного материала и нежелательного пересечения ударных волн, вызывающего струи и расщепления.
Заранее установленные провода, аккуратно распределенные по поверхности металлической сферы, сжимаемой имплозией, выдавали информацию не только о развитии имплозии во времени, но и о скорости перемещения материала сферы на разных глубинах. Это позволяло напрямую получать численные данные, которые теоретический отдел мог использовать для проверки соответствия гидродинамической теории реальности. Группа электрических методов начала с измерения ускорения плоских металлических пластин взрывчатыми веществами. В начале 1945 года она адаптировала свои методики на части сферы, а потом и на полные сферы, полностью окруженные системами взрывчатых линз: снимали только одну линзу, чтобы оставить окно для проводки необходимых проводов.
Система из двух блокгаузов, использованная для защиты обычного рентгеновского оборудования, была воспроизведена и на другой испытательной площадке, на которой она защищала самую необычную диагностическую установку, изобретенную учеными. В ней рентгеновские лучи, полученные из бетатрона, проходили сквозь масштабную модель имплозивного устройства и попадали в камеру Вильсона, а возникающие в камере ионизационные следы фотографировали стереоскопической фотокамерой[2415]. Для бетатронной методики потребовалась хитроумная схема синхронизации, которая обеспечивала в быстрой, но точно отмеренной последовательности взрыв заряда, выработку бетатронного импульса, открытие диафрагмы камеры Вильсона, в которой ионизационные следы проявлялись в виде капелек жидкости в тумане, и срабатывание заслонки фотоаппарата, который их регистрировал.
Пятый успешно работавший метод, разработанный Отделом G, отличался от бетатронного тем, что в нем интенсивный источник гамма-излучения устанавливали внутри самого сердечника. По этому источнику, радиоактивному лантану, извлеченному из продуктов распада реактора с воздушным охлаждением в Ок-Ридже, этот метод и назвали «РаЛа». Для регистрации изменяющейся при сжатии активного материала конфигурации излучения РаЛа использовали не камеру Вильсона, а набор прочных ионизационных камер. Поскольку заранее никто не знал, насколько сильное загрязнение испытательного стенда может вызвать радиоактивный лантан, Луис Альварес, который руководил первым опытом, одолжил на военном полигоне Дагуэй в штате Юта пару танков, чтобы сделать из них временные блокгаузы. Результаты, как он вспоминает, получились эффектными:
В момент первого взрыва я сидел в танке. Джордж Кистяковский был в одном танке, а я – в другом. Мы смотрели в перископы, и в первый момент мы увидели только большое количество пыли. А потом – о такой возможности мы заранее совсем не думали – оказалось, что весь лес вокруг нас горит. Куски раскаленного добела металла разлетались во все стороны и поджигали деревья. Мы были почти полностью окружены огнем[2416].
Разработка имплозивных линз началась предыдущей зимой, говорит Бете, когда Джон фон Нейман «очень быстро придумал конфигурацию, очевидно правильную с теоретической точки зрения, – я пытался сделать это раньше, но безуспешно»[2417]. Теперь, осенью и зимой 1944/45 года, Кистяковскому нужно было превратить эту теоретическую конструкцию в нечто работоспособное.
Действие оптической линзы основано на том обстоятельстве, что свет распространяется в разных средах с разными скоростями. Свет, распространяющийся в воздухе, замедляется, когда встречает на своем пути стекло. Если стекло имеет выпуклую кривизну, как увеличительное стекло, то свет, попадающий в его более толстую центральную часть, проходит в стекле больший путь, чем свет, попадающий в более тонкие края. Из-за этой разницы в длине пути свет отклоняется по направлению к оси линзы.
Система имплозивных линз, разработанная фон Нейманом, состояла из блоков в форме усеченной пирамиды размером приблизительно с автомобильный аккумулятор. В сборке линзы образовывали сферу, внутрь которой были направлены их узкие концы. Каждая линза состояла из двух частей, изготовленных из разных взрывчатых веществ: толстого внешнего слоя, горящего с большей скоростью, и твердой вставки особой формы из медленно горящего материала, выходившей на поверхность блока, обращенную к активному материалу бомбы:
Быстро горящий внешний слой действовал на детонационную волну так же, как воздух, окружающий оптическую линзу, действует на свет. Медленно горящая вставка выполняла функции увеличительного стекла, направляя волну и изменяя ее форму. Детонатор воспламенял быстро горящую взрывчатку. В этом материале возникла сферическая детонационная волна. Однако когда вершина этой волны достигала вершины вставки, начиналось более медленное горение. Эта задержка позволяла подойти остальной части волны. Таким образом, достигнув вставки и проходя через нее, детонационная волна изменяла форму: из сферической волны, расходящейся из точки, она превращалась в сферическую волну, сходящуюся в точку, и ее форма соответствовала выпуклой кривизне сферической отражающей оболочки. Прежде чем волна измененной формы достигала отражающей оболочки, она проходила сквозь второй слой сплошных блоков быстро горящей взрывчатки, что увеличивало ее мощность. После этого отражающая оболочка из тяжелого природного урана, которую ударная волна сжимала, проходя сквозь нее к плутониевому сердечнику, сглаживала оставшиеся мелкие возмущения этой волны.
После войны Кистяковский извинялся, что программа исследований «слишком часто сводилась к догадкам и эмпирическим уловкам»[2418], так как до того этой областью почти никто не занимался. «До этой войны наука очень мало интересовалась взрывчатыми веществами, – писал он во введении к технической истории работы Отдела Х, – так как эти материалы считали не прецизионным инструментом, а слепой разрушительной силой; уровень фундаментальных знаний о детонационных волнах – и о мощных ударных волнах, которые они порождают в прилегающих невзрывчатых веществах, – был катастрофически низким»[2419]. Для поддержки экспериментальных исследований Отдел X развернул в нескольких километрах к югу от ранчо Анкор площадку для отливки взрывчатых зарядов. Ее здания были построены из неотесанных бревен, облепленных землей, потому что строительство из бетона слишком замедлило бы работу.
Испытания взрывчатых линз дали первые перспективные результаты только в середине декабря 1944 года. Когда Гровс говорил Джорджу Маршаллу, что надеется получить ко второй половине 1945 года восемнадцать 5-килограммовых бомб, он считал, что они, возможно, будут взрываться настолько неэффективно, что каждая из них будет эквивалентна не более чем 500 тоннам ТНТ, то есть даже меньше оценки в 1000 тонн, которой оперировал в октябре Конант.
Прежде чем Кистяковский одержал окончательную победу, ему пришлось еще раз сразиться с Парсонсом. «Наша способность создать удовлетворительные линзы вызывала такой сильный пессимизм, – вспоминает он, – что капитан Парсонс (и не он один) начал уговаривать нас полностью оставить линзы и попытаться соорудить какую-нибудь систему для имплозии безлинзового типа»[2420]. Кистяковский считал такую альтернативу совершенно бесперспективной. В конце концов Оппенгеймер встал на сторону Кистяковского и утвердил разработку линз. После этого Артиллерийский отдел Парсонса занялся исключительно работой над урановой пушкой, «Малышом», и разработкой полевых вооружений. Имплозия стала заботой отделов X и G.
Доводка отлитых взрывчатых зарядов методом механической обработки была самым впечатляющим из изобретений Кистяковского. Он хотел полностью формировать взрывчатые компоненты на станках для механической обработки из заранее отлитых сплошных блоков, но для конструирования и изготовления сложного оборудования с дистанционным управлением, которого требовала эта новаторская технология, не хватало времени. Ему пришлось удовольствоваться прецизионной отливкой с механической доводкой, а имевшиеся в его распоряжении станочники, число которых было ограничено, в основном занялись изготовлением отливочных форм. Формы доставляли ему «величайшие мучения», вспоминает он; изготовленные из взрывчатки компоненты бомбы представляли собой «что-то около сотни деталей, которые нужно было подогнать друг к другу так, чтобы они образовали шар, с точностью порядка нескольких тысячных сантиметра при общем размере в полтора метра. Поэтому формы нужно было сделать с чрезвычайно высокой точностью»[2421]. В конце концов оказалось, что темпы испытаний и окончательной готовности «Толстяка» определяет именно скорость изготовления форм.
Но даже при наличии необходимых форм технология отливки взрывчатки была отнюдь не простой, и ее тоже приходилось осваивать методом проб и ошибок. В феврале 1945 года Кистяковский выбрал в качестве быстро горящего компонента линз «Толстяка» взрывчатое вещество под названием «состав В», а в качестве медленно горящего компонента – смесь «баратол»[2422], которую он заказал в одной из исследовательских лабораторий ВМФ. Состав В заливали в формы в виде горячей жидкой смеси воска, расплавленного тротила и неплавящегося кристаллического порошка гексогена, взрывчатая мощность которого на 40 % больше, чем у чистого тротила. Баратол представлял собой смесь жидкого тротила с нитратом бария, алюминиевым порошком, стеароксиуксусной кислотой и нитроцеллюлозой:
Постепенно мы узнали, что эти отливки, весом по двадцать и более килограммов, нужно охлаждать строго определенным образом, иначе в их толще остаются пузырьки воздуха или происходит разделение твердых и жидких компонентов, а это полностью убивало имплозию. Поэтому процесс был медленным. Взрывчатку заливали в форму, а потом люди сидели над этой чертовой штукой, следя за ней, как будто яйцо высиживали, изменяя температуру воды, которая текла по всяким охлаждающим трубкам, встроенным в форму[2423].
Этой зимой в пустыне гремели взрывы, сила которых постоянно возрастала по мере того, как химики и физики применяли результаты опытов, поставленных на малоразмерных образцах, на все большем масштабе. «Каждый день, – говорит Кистяковский, – мы расходовали что-то около тонны высокомощной взрывчатки, разделенной на дюжину опытных зарядов»[2424]. Общее число отливок, если считать только те из них, качество которых было достаточно высоким для использования, превысило в конечном счете 20 000. За 1944 и 1945 годы Отдел X выполнил более 50 000 крупных операций по механической обработке этих отливок без единого несчастного случая с непреднамеренным взрывом, что стало лучшим подтверждением правильности прецизионных методов Кистяковского. Измерения методом РаЛа, проведенные 7 февраля 1945 года, показали несомненное улучшение симметрии имплозии. 5 марта, после нескольких напряженных совещаний, Оппенгеймер утвердил конструкцию линз. Какими бы скудными ни были запасы плутония, никто не сомневался, что гарантировать возможность реального военного применения «Толстяка» можно будет только после полномасштабных испытаний.
Небольшую по масштабам, но трудноразрешимую проблему создал запал, самый центральный миниатюрный компонент бомбы[2425]. Для запуска цепной реакции необходимо появление нескольких нейтронов. Никому не хотелось доверять уран стоимостью в миллиард долларов или плутоний стоимостью в несколько сот миллионов долларов спонтанному делению или залетным космическим лучам. Нейтронные источники были хорошо знакомым лабораторным оборудованием уже более десятилетия, с тех самых пор, когда Джеймс Чедвик впервые бомбардировал бериллий альфа-частицами, вылетающими из полония, и высвободил эту трудноуловимую незаряженную частицу. В своих первых лекциях в Лос-Аламосе Роберт Сербер говорил о возможности использования в бомбе пушечного типа радиево-бериллиевого источника: если прикрепить радий к одной части активного материала, а бериллий – к другой, так, чтобы они сталкивались при выстреле пушки и соединении двух половин активного материала в критическую сборку. Однако радий испускает опасно большое количество гамма-излучения, и Эдвард Кондон отмечал в «Лос-Аламосском букваре», что «более пригодным, вероятно, окажется… какой-либо другой источник, например полоний»[2426]. Полоний обильно испускает альфа-частицы с энергией, достаточно высокой для выбивания нейтронов из бериллия, но дает очень мало гамма-излучения.
Труднее всего при разработке запала было сконструировать достаточно интенсивный нейтронный источник, который испускал бы нейтроны только в тот конкретный момент, когда они нужны для запуска цепной реакции. В случае урановой пушки выполнить это требование было сравнительно легко, так как источник альфа-частиц и бериллий можно было разделить между пулей и мишенью из активного материала. Но в имплозивной бомбе такой удобной возможности разделения – и последующего соединения – не было. И полоний, и бериллий нужно было поместить в центр плутониевого сердечника «Толстяка», но они не должны были производить нейтронов до тех пор, пока сходящаяся ударная волна не сожмет плутоний до максимальной плотности. А тогда эти два материала должны были моментально объединиться.
Полоний, 84-й элемент периодической системы, – металл странный. В 1898 году Мария и Пьер Кюри вручную выделили его из урановой смолки после удаления из нее урана и тория; его содержание было чудовищно низким – несколько десятых миллиграмма на тонну руды. Они назвали его в честь Польши, родины Марии Кюри. По физическим и химическим свойствам полоний похож на висмут, следующий за ним элемент периодической системы, но первый металл мягче и испускает на единицу массы в пять тысяч раз больше альфа-частиц, чем радий. Поэтому ионизированный, возбужденный воздух вокруг образца чистого полония светится потусторонним голубым светом.
Изотоп 210Po, который и интересовал Лос-Аламос, распадается в свинец-206 с испусканием альфа-частицы и периодом полураспада 138,4 суток. Длина пробега альфа-частиц из 210Po составляет 38 миллиметров в воздухе, но всего несколько сотых миллиметра в твердых металлах; альфа-частицы теряют энергию, ионизируя атомы, с которыми они сталкиваются по пути, и в конце концов останавливаются. Это означало, что полоний, используемый в запале, можно было безопасно разместить между слоями металлической фольги. Вокруг фольги, в свою очередь, можно было расположить концентрические оболочки из легкого серебристого бериллия. Все это устройство в целом можно было сделать размером не больше лесного ореха.
«По-моему, идея [конструкции запала] сначала появилась у меня, – вспоминает Бете, – а у Ферми была другая идея, и мне в кои-то веки казалось, что моя идея лучше, а кроме того, я был председателем комитета из трех человек, который должен был наблюдать за разработкой запала»[2427]. Отделение 210Po от бериллия было делом простым. Сложнее было обеспечить качественное смешивание этих двух элементов в нужный момент, и основные различия между разными конструкциями запала – а их за зиму 1944/45 года было изобретено и испытано немало – сводились к различиям между механизмами смешивания. 210Po в количестве, дающем альфа-излучение, эквивалентное 32 граммам радия, тщательно смешанный с бериллием, производит около 95 миллионов нейтронов в секунду, но в течение того короткого периода, когда они могут запустить цепную реакцию в сжимаемом имплозией заряде «Толстяка», длительностью в одну десятимиллионную секунды, производится не более девяти-десяти нейтронов. Поэтому необходимо было гарантировать тщательное смешивание. Конструкции запала так и не были рассекречены, но можно предположить, что смешивание обеспечивали неровности, механически нанесенные на внешнюю поверхность бериллиевого слоя: они порождали в сжимающей ударной волне турбулентность. Возможно, запал «Толстяка» имел рифленую поверхность и был похож на мячик для гольфа.
На получение десятка нейтронов для запуска цепной реакции ушли годы упорной работы. Французский химик Бертран Гольдшмидт, бывший некогда личным ассистентом Марии Кюри и приехавший после вторжения Германии во Францию в Соединенные Штаты, чтобы работать в Металлургической лаборатории с Гленном Сиборгом, извлек первые 0,5 кюри[2428] запального полония из старых радоновых капсул в нью-йоркской онкологической больнице (полоний является дочерним продуктом распада радия). Для крупномасштабного производства требовалось использовать дефицитные нейтроны, производимые в реакторе с воздушным охлаждением в Ок-Ридже, для преобразования висмута в полоний, следующий за ним элемент периодической системы. Очистку полония взял на себя Чарльз А. Томас, научный директор химической компании Monsanto, работавший в проекте консультантом по вопросам химии и металлургии. Для этого он временно реквизировал крытый теннисный корт в обширном и надежно изолированном от внешнего мира имении своей тещи в Дейтоне, штат Огайо, и переоборудовал его под лабораторию.
Томас пересылал полоний на платиновой фольге в герметичных контейнерах, но при перевозке проявилось еще одно неприятное свойство полония: по причинам, которые так никогда и не получили удовлетворительного экспериментального объяснения, этот металл перемещается с места на место и способен быстро загрязнять большие площади. «Наблюдалось перемещение этого изотопа против воздушного потока, – отмечается в послевоенном британском отчете об изучении полония, – и его передвижение в условиях, в которых оно, по-видимому, происходило самопроизвольно»[2429]. Когда на листах фольги Томаса оказывалось недостаточно полония, химики в Лос-Аламосе научились искать его вкрапления в стенках контейнеров, в которых его пересылали.
Отдел G проводил разработку запала на испытательной площадке, организованной в каньоне Сандия, через одно плато на юг от Холма. Сотрудники запальной группы высверливали глухие отверстия в больших шариках от турбинных подшипников – которые экспериментаторы называли screwballs[2430] («кручеными мячами»), – вставляли туда опытные образцы запалов и закупоривали отверстия болтами. После имплозии шариков они собирали их остатки и смотрели, как прошло смешивание полония с бериллием. К несчастью, одного лишь качества смешивания было недостаточно для оценки эффективности запала. 1 мая 1945 года комитет под председательством Бете выбрал наиболее перспективную конструкцию, но точно убедиться в ее работоспособности можно было только в полномасштабном испытании, которое завершилось бы возбуждением цепной реакции.
К середине войны на Тихом океане японские разработки атомной бомбы, и так никогда не бывшие быстрыми, замедлились до почти полной потери перспектив и смысла. После того как Императорский флот прекратил заниматься исследованиями атомной энергии, Ёсио Нисина, движимый патриотическими чувствами, продолжал работать в этой области, хотя сам он считал, что вступление Японии в борьбу с Соединенными Штатами неизбежно приведет к катастрофе[2431]. 2 июля 1943 года Нисина встретился со своим армейским связным, генерал-майором Нобуудзи[2432], и доложил, что питает «большие надежды» на успех. Он упомянул, что ВВС предложили ему изучить возможности применения урана в качестве авиационного топлива, взрывчатого вещества и источника энергии, а недавно другая армейская лаборатория обратилась к нему за помощью и выделила 2000 иен на его расходы. Нобуудзи немедленно выразил свое неудовольствие по поводу таких консультаций. «Важнее всего, – согласился с ним Нисина, – как можно быстрее завершить проект». По его расчетам выходило, сказал он Нобуудзи, что бомба должна получиться из 10 килограммов 235U по меньшей мере 50-процентной чистоты, хотя точно определить «будет ли достаточно 10 кг, или потребуется 20 или даже 50 кг» позволят только эксперименты на циклотроне. Он хотел помощи в завершении сооружения полутораметрового циклотрона:
250-тонный, 1,5-метровый ускоритель готов к эксплуатации, за исключением некоторых компонентов, которые невозможно достать, так как они используются в производстве вооружений. Мы полагаем, что, если этот ускоритель будет завершен, мы сможем добиться существенных результатов. Сейчас США планируют сооружение ускорителя в десять раз более крупного, но мы не уверены, что они смогут его создать.
В марте того же года Нисина отверг как неосуществимые в условиях Японии военного времени все методы разделения изотопов, кроме газовой термодиффузии. В начале 1941 года Отто Фриш, работавший тогда в Бирмингеме, пытался использовать газовую термодиффузию (в отличие от жидкостной термодиффузии Филиппа Абельсона) и доказал непригодность этого метода к разделению изотопов урана, но Нисина об этой засекреченной работе не знал. В лаборатории Рикен сконструировали тепловую колонку, очень похожую на лабораторную колонку, которую Абельсон построил в вашингтонской Исследовательской лаборатории ВМФ: она состояла из концентрических пятиметровых труб; внутреннюю трубу нагревали до 400 °C – в конструкции Рикен использовались электрические нагреватели, – а внешнюю охлаждали водой.
В следующий раз Нисина встретился с Нобуудзи лишь семь месяцев спустя, в феврале 1944 года[2433], и сообщил ему о трудностях с производством гексафторида урана. Его группа смогла разработать метод получения элементарного фтора, но ей пока не удалось добиться соединения газа с ураном с использованием старого и неэффективного процесса, который Абельсон в Соединенных Штатах отверг до того, как начал работать с термодиффузией. Кроме того, с диффузионной колонкой Нисины возникла проблема, которую Абельсон смог бы оценить по достоинству: она подтекала. «Чтобы получить воздухонепроницаемую систему, – сказал Нисина Нобуудзи, – мы использовали [сургуч] и в конце концов добились желаемого результата. Сварка была неприменима в связи с коррозионными свойствами фтора». Он находился «в середине разработки этого процесса [производства гексафторида], но уже видел цель». Полутораметровый циклотрон был теперь запущен в работу, но только на низкой энергии; объяснение этого компромисса, которое дал Нисина, ярко иллюстрирует состояние японской промышленной экономики к 1944 году:
Нам не удалось обеспечить для циклотрона высококачественных вакуумных ламп, генерирующих излучение высокой частоты… В связи с этим ограничением низкие рабочие напряжения ограничивают производимое количество нейтронов… Для высвобождения большого числа высокоэнергетических нейтронов необходимы вакуумные лампы высокого напряжения. Но их, к сожалению, трудно приобрести.
К лету группа Нисины произвела около 170 граммов гексафторида урана[2434] – в Соединенных Штатах он к этому времени производился тоннами, – а в июле предприняла первую попытку термического разделения. Манометры, установленные вверху и внизу колонки, которые должны были показывать перепад давления – свидетельствующий об успешном разделении, – не показали никакой разницы. «Что же, не будем беспокоиться, – сказал Нисина своей группе. – Продолжайте работать, продолжайте подавать газ»[2435].
17 ноября 1944 года он снова встретился с Нобуудзи[2436] и сообщил ему, что «с февраля этого года большого прогресса достигнуто не было». Не менее половины гексафторида терялось из-за эффектов коррозии:
Мы думали, что материалы, которые мы использовали для изготовления этого аппарата для работы с [гексафторидом], состояли из нечистых металлов. Поэтому в следующий раз мы использовали в системе металлы максимально высокой очистки. Однако их разъедание продолжалось. Поэтому нам пришлось уменьшить давление в системе… чтобы скомпенсировать эту эрозию.
Циклотрон работал с большей, но все еще не полной мощностью. Нисина сказал Нобуудзи, что использует его «для оценки концентрированного, разделенного материала». Важно отметить, что в отчете о совещании 17 ноября отсутствуют какие бы то ни было упоминания об отделении 235U от 238U в измеримых количествах. В течение более чем полутора лет сотрудники Нисины понимали, что он не верит в возможность создания в Японии атомной бомбы, достаточно быстрого, чтобы это могло повлиять на исход войны[2437]. Лаконичные официальные записи не сообщают, чем именно он руководствовался, продолжая эти исследования, – чувством долга, надеждой, что такие знания будут ценны и после войны, или стремлением получить поддержку для своей лаборатории и отсрочку от военной службы для своих молодых сотрудников. На совещании 17 ноября он вновь воспользовался возможностью пожаловаться на отсутствие достаточно мощных вакуумных ламп для циклотрона и сказал Нобуудзи, что работа лаборатории Рикен по разделению изотопов «находится сейчас на полпути к получению практически применимого решения», – хотя это и не соответствовало экспериментальным данным. Помощь Нобуудзи могла бы быть более полезной, если бы он понимал хотя бы самые элементарные основы этой работы. Разговор между Нисиной и Нобуудзи, произошедший в конце совещания, показывает, что представитель военных не имел ни малейшего представления о ядерной физике:
Нобуудзи. При использовании урана в качестве взрывчатки требуется 10 кг. А почему бы не использовать 10 кг обычной взрывчатки?
Нисина. Это абсолютно бессмысленно.
Специально переоборудованный бомбардировщик В-29 впервые сбросил атомную бомбу – макет «Худыша» – на авиабазе Мюрок в Калифорнии 3 марта 1944 года. В бомбовом отсеке В-29 находилась одна бомба, закрепленная диагональными раскосами с одним отпускным механизмом. Первая серия испытаний закончилась неудачей: на высоте 7300 метров отпускной трос провис и ударился об одну из закрытых створок бомболюка. «После этого створки открылись, – говорится в техническом отчете, – и бомба вывалилась наружу, значительно повредив створки»[2438]. Вторая серия испытаний, проведенная в июне, прошла более успешно. Узнав, что «Толстяк» должен быть тяжелее, чем предполагалось ранее, группа доставки под руководством Нормана Рамзея заменила исходный бомбосбрасыватель, переделанный из стандартного механизма отцепления планера, на более надежную конструкцию, позаимствованную с британского бомбардировщика «Ланкастер».
Усвоив этот урок, в августе ВВС приступили к модификации еще семнадцати В-29 на заводе Гленна Л. Мартина в Омахе, штат Небраска. В этом же месяце началась подготовка к обучению особой группы летчиков для применения первых атомных бомб. Ядро новой организации должна была образовать 393-я бомбардировочная эскадрилья, базировавшаяся тогда в Фэйрмонте, штат Небраска, и проходившая подготовку перед отправкой в Европу. В конце августа командующий Воздушным корпусом Армии США Генри Х. Арнольд (по прозвищу Счастливчик) утвердил назначение на должность командира группы двадцатидевятилетнего подполковника Пола У. Тиббетса, уроженца Иллинойса.
Тиббетс, вполне возможно, был лучшим бомбардиром Военно-воздушных сил. Он командовал первым налетом бомбардировщиков на Европу из Англии, он перевозил Дуайта Эйзенхауэра на его командный пост в Гибралтаре перед высадкой в Северной Африке и командовал первым бомбовым налетом в рамках этой операции. В последнее время он участвовал в летных испытаниях В-29, которые в 1944 году только начинали поступать на вооружение, и работал вместе с сотрудниками физического факультета Университета Нью-Мексико в Альбукерке над проверкой защиты нового бомбардировщика от нападений истребителей на больших высотах. Это был человек среднего роста и крепкого телосложения, с темными, волнистыми волосами, которые образовывали у него на лбу так называемый «вдовий мысок». У него было полное лицо с квадратной челюстью; он курил трубку. Его отец, оптовый торговец конфетами из Флориды, был приверженцем строгой дисциплины; вероятно, именно от него Тиббетс унаследовал свою сдержанную требовательность. Однако более близким ему человеком была мать, в девичестве Энола Гей Хаггард из Глиддена, штат Айова. В послевоенном интервью Тиббетс сказал, что выбрал карьеру военного летчика, когда мать поддержала его намерение, несмотря на возражения отца:
Когда я учился в университете на врача, я понял, что всегда хотел летать. В 1936 году мое намерение предпринять какие-то действия в этом направлении развилось до такой степени, что дело дошло до семейного конфликта на эту тему. Обсуждение этого вопроса сопровождалось несколькими эмоциональными вспышками, но мать не говорила ни слова. В конце концов, так и не приняв никакого решения, я отвел ее в сторону и спросил, что она думает. Несмотря на все, что было сказано на эту тему, и на то, что большинство участников разговора говорили: «Ты погибнешь в самолете», мать совершенно спокойно и уверенно сказала мне: «Летай. Все у тебя будет хорошо»[2439].
Так оно пока что и было, а теперь он получил новое задание. В сентябре 1944 года он прилетел в штаб-квартиру 2-й воздушной армии в Колорадо-Спрингс и явился с докладом к ее командующему, генерал-майору Узалу Энту. Адъютант попросил его подождать в приемной генерала. Какой-то офицер вошел в комнату, представился, отвел Тиббетса в сторону и спросил, арестовывали ли его когда-нибудь. Тиббетс обдумал ситуацию и решил честно ответить этому незнакомцу, что был арестован подростком в Майами-Бич, когда его застали «на месте преступления» с девушкой на заднем сиденье автомобиля. Подполковник Джон Лансдейл – младший, подчиненный Гровса, отвечавший в проекте создания атомной бомбы за разведку и безопасность, знал об этом аресте и пытался таким образом проверить честность Тиббетса. После этого он отвел его в кабинет Энта. Там их ждали Норман Рамзей и Дик Парсонс. «Я удовлетворен»[2440], – сказал Лансдейл. Физик и офицер ВМФ рассказали Тиббетсу о Манхэттенском проекте и об испытаниях бомбы в Мюроке. Лансдейл предупредил о режиме секретности. После того как эти трое ушли, Энт описал задание Тиббетса более конкретно. «Вы должны собрать команду и доставить это оружие, – сказал, как вспоминает пилот, командующий 2-й воздушной армией. – Мы еще ничего о нем не знаем. Мы не знаем, на что оно способно… Вам нужно будет совместить его с самолетом и разработать тактику, прицеливание, баллистику – словом, все. Все это входит в вашу задачу. Это задание будет очень важным. Я полагаю, что оно потенциально может закончить войну»[2441]. Программа транспортировки бомбы получила в ВВС кодовое название «Силверплейт», сказал ему Энт. Если Тиббетсу что-нибудь понадобится, ему достаточно будет всего лишь произнести это волшебное слово; в своих войсках Арнольд присвоил этой программе самый высокий приоритет.
В качестве основной базы новой организации ВВС выбрали авиабазу Уэндовер-Филд, штат Юта[2442]. В начале сентября Тиббетс слетал в Юту, осмотрел базу и остался ею доволен. Она была расположена между низкими горными хребтами на пустынных солончаках, в суровом и надежно изолированном месте, в 200 километрах к западу от Солт-Лейк-Сити, вблизи границы Юты с Невадой. В плоской впадине, бывшей в древности дном огромного пресноводного озера, от которого осталось только Большое Соленое озеро, были многие километры пустынной местности, удобные для тренировочного бомбометания. Когда-то эту местность пересекали первопроходцы из Калифорнии – поблизости все еще можно было видеть колеи, проложенные их фургонами. В сентябре 393-я эскадрилья перебазировалась в Уэндовер и, с добавлением транспортного самолета и других вспомогательных компонентов, превратилась в 509-ю сводную группу. В октябре в нее начали поступать новые В-29.
Бомбардировщик В-29 производства компании Boeing был самолетом революционным, первым межконтинентальным бомбардировщиком[2443]. Он был разработан в конце 1930-х годов энергичными офицерами тогдашнего Военно-воздушного корпуса Армии США, у которых возникла идея ведения войны на больших расстояниях при помощи стратегической авиации. Еще в сентябре 1939 года они предложили в случае войны с Японией применять эти самолеты с баз на Филиппинах, в Сибири или на Алеутских островах[2444]. Это был первый в мире бомбардировщик с герметизированным фюзеляжем и самый тяжелый серийный бомбардировщик; масса пустого самолета составляла более 31 815 килограммов, а максимальная взлетная масса с грузом – 61 235 килограммов. Для его взлета требовалась полоса длиной более 2400 метров. Выглядел он как изящная 30-метровая труба из полированного алюминия, которую пересекали огромные крылья размахом 43 метра – два В-29 занимали площадь футбольного поля – с классическим хвостом синусоидальной формы высотой почти с трехэтажный дом. Четыре 18-цилиндровых двигателя Wright мощностью по 2200 лошадиных сил позволяли самолету развивать на высоте максимальную скорость до 560 км/ч – крейсерская скорость составляла 350 км/ч – и пролетать до 6400 километров с максимальной бомбовой нагрузкой около 9000 килограммов, хотя нормальная рабочая нагрузка была ближе к 5400 килограммам. Он мог совершать крейсерский полет на высоте более 9000 метров, вне досягаемости зенитного огня и большинства вражеских истребителей. Мощность двигателей увеличивалась турбокомпрессорами; специально увеличенные пятиметровые пропеллеры вращались медленнее, чем у любого другого самолета; самые большие в мире закрылки, занимавшие одну пятую площади крыла, позволяли при взлете и посадке изменять конфигурацию крыла с низким аэродинамическим сопротивлением, разработанного для дальних полетов на высокой скорости.
На земле В-29 стоял горизонтально, опираясь на три точки – убирающиеся колесные шасси на носу и под каждым из крыльев. Экипаж самолета, состоявший из одиннадцати человек, размещался в двух герметичных кабинах, входивших в состав пяти сообщавшихся друг с другом отсеков фюзеляжа. Два бомбовых отсека, расположенные перед крыльями и за ними, отделяли носовую часть от средней и хвостовой; чтобы попасть из носа самолета в среднюю часть, нужно было проползти по герметичному туннелю, в который помещался только один человек. В состав стандартного экипажа В-29 входили пилот, второй пилот, бомбардир, бортинженер, штурман и радист, находившиеся в носовом отсеке, три стрелка и оператор радара в среднем отсеке и еще один стрелок в хвостовом. Поскольку электрическую проводку было труднее повредить в бою, чем пневматические или гидравлические трубки, все системы самолета, за исключением гидравлических тормозов шасси, работали исключительно на электромоторах, общее число которых превышало 150. В задней части фюзеляжа был установлен вспомогательный бензиновый двигатель, вырабатывавший ток, когда самолет находился на земле. Централизованная система управления артиллерийским огнем работала под управлением аналогового компьютера, но с бомбардировщиков 509-й группы было снято все вооружение, кроме 20-миллиметровой хвостовой пушки.
Мощные двигатели В-29 были в то же время печально известны своей пожароопасностью. Чтобы увеличить отношение их мощности к весу, фирма Wright делала их картеры и корпуса вспомогательного оборудования из магния. Охлаждение двигателей не справлялось с их нагревом, и выхлопные клапаны часто перегревались и застревали; в этом случае двигатель заминал клапан и загорался. Если огонь доходил до магния, металла, который широко используют в зажигательных бомбах, двигатель обычно прожигал насквозь основной лонжерон и отрывался от крыла. Во избежание таких аварий фирма Boeing усовершенствовала охлаждение двигателей, но фундаментального конструктивного дефекта это не устранило; разработка новой силовой установки для самолета заняла бы столько времени, что использовать его в той войне, ради которой он был изобретен, не получилось бы. Один из физиков из группы доставки вспоминает, что после взлета в Уэндовере самолеты пролетали несколько километров на бреющем полете, почти касаясь росшей вокруг полыни, чтобы охладить двигатели перед набором высоты[2445].
Набрав высоту, экипажи 509-й группы выполняли тренировочное бомбометание; бомбардиры целились с высоты более 9000 метров через свои бомбардировочные прицелы Norden в мишени все меньшего и меньшего размера, начерченные на земле известкой. Экипажи, имевшие опыт вылетов в облачной Европе, недоумевали, зачем им упражняться в визуальном бомбометании; тот странный маневр ухода, который им нужно было научиться выполнять, давал им представление по меньшей мере о потенциальной взрывной силе неизвестного оружия, которое им предстояло доставлять к цели. Тиббетс никого не информировал об атомной бомбе, но требовал от экипажей уходить сразу после сброса бомбы в пике с резким поворотом на 155°. Перевод огромного бомбардировщика в пике резко увеличивал его воздушную скорость; экипаж, освоивший этот маневр в совершенстве мог отойти от точки замедленного взрыва на целых шестнадцать километров, а на этом расстоянии «опасность уничтожения» взрывом бомбы в 20 000 тонн тротилового эквивалента, как пишет Гровс, «уменьшалась вдвое»[2446]. Еще до тренировок разворотов с пике экипажи сбрасывали бетонные болванки и бомбы, начиненные обычной взрывчаткой. Эти грубо склепанные макеты «Толстяка», покрашенные в ярко-оранжевый цвет для большей заметности, прозвали «тыквами». 509-я группа работала на износ; над территорией базы Уэндовер завывал зимний ветер, носивший по округе клубки перекати-поля, которые застревали в ограждении из колючей проволоки; по выходным экипажи отправлялись развлекаться в Солт-Лейк-Сити. Тиббетс просматривал их почту, прослушивал их телефоны, организовывал слежку за ними и отправлял всех, кто нарушал режим секретности, до конца войны на безопасные, но малоприятные для жизни Алеутские острова. Используя кодовое слово «Силверплейт», он реквизировал по всему миру самых лучших летчиков, бомбардиров, штурманов и бортмехаников, каких только мог найти[2447].
Один из них, капитан Роберт Льюис из Бруклина, штат Нью-Йорк, коренастый двадцатишестилетний блондин, неуживчивый, но одаренный пилот, которого учил лично Тиббетс, провел часть лета 1944 года в Гранд-Айленде, штат Небраска, где он учил летать на В-29 одного старшего офицера, уже имевшего сотни часов боевых вылетов. По окончании этого обучения, в конце августа, генерал-майор Кертис Лемей улетел на транспортном самолете С-54 в Индию, чтобы принять командование 20-м бомбардировочным отрядом. Отряд базировался в Индии и имел полевые аэродромы в Китае, с которых он пытался бомбить Японию, используя менее двухсот В-29. Перед каждым вылетом бомбардировщики должны были перевозить из Индии в Китай через Гималаи свое собственное топливо и боеприпасы – на каждый бомбардировочный вылет приходилось по семь транспортных перелетов, причем на перевозку каждого литра топлива расходовалось до двенадцати литров. «Из этого ничего не получилось, – пишет Лемей в автобиографии. – Добиться успеха этого предприятия не мог никто. Оно было организовано на совершенно абсурдной с точки зрения логистики основе. Тем не менее вся наша страна требовала налетов на собственную территорию Японии с яростью, достойной волчьей стаи»[2448].
Кертис Лемей был необуздан, требователен и груб. Он пилотировал бомбардировщики, охотился на крупную дичь и жевал сигары; это был человек смуглый и полный. «Я вам скажу, что такое война, – без обиняков сказал он однажды, но уже после войны, – на войне вам надо убивать людей, и, когда вы убьете их в достаточном количестве, они перестанут сопротивляться»[2449]. В течение большей части войны он, кажется, отдавал предпочтение точечному, а не массированному бомбометанию – этим американские ВВС отличались от британских еще со времен вмешательства Черчилля и Черуэлла в этот вопрос в 1942 году. В Европе точечное бомбометание иногда давало результаты, хотя они никогда не были решающими. В Японии его применение до сих пор было абсолютно неудачным. А Кертис Лемей ненавидел неудачи.
Неудачником был его отец: он то и дело менял работу и постоянно перевозил семью с места на место. Родители Лемея успели пожить по всему штату Огайо, в Пенсильвании, в диких местах Монтаны, в Калифорнии. Кертис Эмерсон Лемей, родившийся в 1906 году в Колумбусе, штат Огайо, был старшим из семи детей. В автобиографии он приводит два воспоминания из детства, связанные между собой. О том, как он впервые увидел самолет и, потеряв голову, гнался за ним: «Я стремился не только к вещественной части этого таинственного объекта, не только к тому, что я мог потрогать руками. Я также мечтал, каким-то неопределенным, но незабываемым образом, о напоре, скорости и энергии этого создания»[2450]. И о непреодолимом стремлении убегать из дому: «бродяжничестве, почти маниакальном»[2451] говорила ему его мать. «Мне потребовалось вырасти, – пишет Лемей, – обременить себя множеством обязанностей и начать лелеять честолюбивые замыслы, и только после этого я научился контролировать свой норов и обуздывать свои действия»[2452].
Он разносил телеграммы, посылки и коробки с конфетами. Он разносил газеты, торговал газетами, продавал газеты оптом разносчикам, зарабатывая на жизнь себе и своей семье: «Когда бакалейщик начинает сомневаться, продавать ли в долг очередную порцию продуктов, лучше иметь наготове какой-нибудь источник наличности. Эту горькую истину я усвоил в очень раннем возрасте… Кладовка с продуктами была для папы местом таинственным, в которое он не считал нужным заглядывать»[2453]. Лемей переживал, что у него не было детства, но это не мешало ему двигаться вперед. Он сам оплатил свое обучение в Университете штата Огайо, работая по ночам на сталелитейном заводе. В университете он прошел курс подготовки офицеров запаса, затем перешел в Национальную гвардию Огайо, потому что у ее служащих было больше шансов поступить в военную летную школу, чем у резервистов. В 1929 году он получил «крылышки» пилота и после этого уже ни на что не отвлекался. Он был офицером снабжения, штурманом, штурманом Главного штаба, летал на В-10, затем на В-17. В 1943 и 1944 годах, будучи в Англии, он день и ночь работал над совершенствованием точечных бомбардировок. Его продвижение по службе было стремительным.
Арнольд послал его на Тихий океан, потому что ему нужен был человек, заведомо способный добиться нужных результатов:
Генерал Арнольд с самого начала был убежденным сторонником программы В-29 и тысячу раз шел на самые разные риски, чтобы обеспечить материальные и финансовые ресурсы для строительства этих самолетов и их ввода в строй… И вот он выясняет, что дела у них идут не лучшим образом. Ему приходится тасовать задания, самолеты и людей, пока он не добивается положения, в котором В-29 действительно работают. Генерал Арнольд намеревался добиться результатов от этой системы вооружения любой ценой[2454].
В-29 должны были использоваться – то есть использоваться успешно, – в противном случае те, кто поставил на них свою карьеру и свои убеждения, были бы опозорены, необходимые для ведения войны ресурсы, которые можно было использовать иначе, оказались бы потрачены впустую, были бы понапрасну растрачены человеческие жизни и миллионы долларов. Это обоснование встречается снова и снова.
Первый В-29, отправленный на Марианские острова, приземлился на Сайпане 12 октября 1944 года. Его пилотировал бригадный генерал Хейвуд С. Ханселл – младший, назначенный командиром 21-го бомбардировочного отряда. Когда Ханселл был начальником штаба у Арнольда, он участвовал в разработке доктрины точечных бомбардировок; он искренне верил в ее центральное положение – что победа в войне может быть обеспечена выборочным уничтожением ключевых военно-промышленных объектов противника. Вслед за новым командиром на Марианские острова потянулась череда новых бомбардировщиков. Первым американским самолетом, пролетевшим над Токио со времен налета Дулитла в 1942 году, стал В-29 без бомбового груза, совершивший 1 ноября полет для аэрофотосъемки. Живший в то время в Токио французский журналист Робер Гийен вспоминает несбывшееся ожидание, связанное с этим полетом:
Город ждал. Миллионы жизней приостановились в тишине яркого осеннего дня. На мгновение горизонт потряс зенитный огонь, грохотавший, как будто в небе захлопывали двери. И ничего не произошло: зазвучала сирена отмены воздушной тревоги, но самолеты так и не показались. По радио объявили, что один-единственный В-29 пролетел над столицей, не сбросив никаких бомб.
Казалось, что удар отсрочен; в течение некоторого времени над слабо защищенным городом летали только разведывательные самолеты. «Однажды наконец появился гость, летевший на высоте 10 000 метров, – продолжает Гийен, – он даже оставил на небе свою подпись, как бы написанную мелом, – чистую белую линию, похожую на какое-то живое существо, которое, казалось, ползло за летевшей перед ним почти неразличимой серебряной мушкой»[2455]. На Марианских островах Ханселл учил своих подчиненных групповой навигации, полетам в строю; в Соединенных Штатах их обучали только полетам отдельными экипажами.
Первые целеуказания Ханселл получил 11 ноября[2456]. Они были утверждены начальниками штабов вооруженных сил и отражали их убежденность в том, что одни лишь бомбежки и морская блокада не способны обеспечить своевременное завершение войны на Тихом океане. В сентябре Объединенный комитет начальников штабов – британских и американских – установил плановый срок окончания этой кампании: через восемнадцать месяцев после поражения Германии. Комитет начальников штабов США считал существенным фактором, необходимым для достижения этой цели, вторжение на Японские острова. Поэтому в целеуказаниях, которые получил Ханселл, наивысший приоритет отдавался точечной бомбардировке объектов японской авиационной промышленности (что должно было парализовать японскую противовоздушную оборону перед высадкой американцев), второй по значимости задачей была поддержка операций на Тихоокеанском театре военных действий (в это же самое время Макартур вел операцию по повторному захвату Филиппин: он вернулся туда, как и обещал), а третьей – испытание эффективности массированных налетов с применением зажигательных бомб. Такое распределение приоритетов, ставившее на первое место точечные бомбардировки, соответствовало собственным приоритетам Ханселла.
Его экипажи вылетели с Сайпана в первый налет на Японию 24 ноября. Их целью был завод авиационных двигателей Мусаси, расположенный к северу от Токио, в шестнадцати километрах от императорского дворца. На задание вылетели сто самолетов. Семнадцать повернули назад; шесть не смогли сбросить бомбы из-за технических неполадок. Зенитный огонь был плотным, а цель была закрыта низкой облачностью. Однако полной неожиданностью стал ветер, дувший со скоростью 225 км/ч на большой высоте, на которой летели бомбардировщики. Он пронес их над целью со скоростью около 725 км/ч, на которой бомбардиры работать не могли. В результате только 24 самолета сумели отбомбиться по району завода – остальные сбросили свой груз на доки и склады в районе Токийского залива – и всего 16 бомб попали в цель. «Я не ожидал экстремально высокой скорости ветра на высотах более девяти тысяч метров, – говорил впоследствии Ханселл, – и она была чрезвычайно неприятным сюрпризом»[2457]. Так военно-воздушные силы познакомились со струйным течением.
В то время Лемей еще работал со своим 20-м бомбардировочным отрядом с баз в Индии и Китае. Он терпеть не мог участвовать в поддержке вялых военных кампаний Чан Кайши, но иногда ему приходилось этим заниматься. В течение шести месяцев Клэр Шеннолт, жилистый техасец, возглавлявший штаб американских военно-воздушных сил, приписанных к китайской Национально-революционной армии, агитировал за бомбежку Ханькоу[2458], города на берегу реки Янцзы в восьмистах километрах вглубь материка от Шанхая, из которого японцы снабжали свои сухопутные армии в Азии. В ноябре, когда японцы возобновили наступление вглубь Китая, Шеннолт стал особенно настойчиво добиваться налета на Ханькоу. Лемей не хотел отвлекать свой отряд от целей внутри Японии; чтобы заставить его участвовать в этой операции, потребовалось вмешательство Комитета начальников штабов. В налете также принимали участие многочисленные В-24 и В-25; Шеннолт хотел, в частности, чтобы самолеты Лемея несли зажигательные бомбы и бомбили не с 9000, а с 6000 метров, чтобы добиться более плотного попадания бомб. Лемей загрузил в каждый пятый самолет фугасные бомбы. Семьдесят семь В-29 приняли участие в налете 18 декабря и сожгли приречный район Ханькоу; с бушевавшими в городе пожарами не удавалось справиться в течение трех суток. Этот урок не прошел даром ни для Вашингтона, ни для Лемея.
На этой же неделе Гровс, Парсонс, Конант, Оппенгеймер, Кистяковский, Рамзей и несколько других руководителей собрались в кабинете Оппенгеймера в Лос-Аламосе[2459], чтобы обсудить подготовку «тыкв» – они называли их «блокбастерами»[2460] – для 509-й сводной группы Тиббетса. Первый вариант конструкции «Толстяка», так называемая модель 1222, уже был изменен, так как оказался слишком сложным в сборке – для нее требовалось вставить более 1500 болтов, наживить на них гайки и затянуть их. Изменение конструкции означало, что около 80 % механической обработки, которой всю осень занималась в Лос-Анджелесе компания Pacific Aviation, было проделано впустую. Первое устройство новой конструкции – модели 1291 – должно было быть готово через три дня, 22 декабря. «Капитан Парсонс сказал, что производство блокбастеров для устройства 1291 между 15 февраля и 15 марта должно обеспечить не менее 30 блокбастеров, – сообщается в протоколе совещания, – чтобы каждый из В-29 мог сбросить по меньшей мере два… Еще 20 блокбастеров следует изготовить для испытаний со взрывчатыми веществами… После этого должны быть произведены 75 единиц для отправки за границу».
Гровс даже слышать не хотел обо всем этом. Ему не нужны были макеты 1291-й модели для пробных сбросов вне территории континентальных Соединенных Штатов, и он не видел смысла в производстве 75 «тыкв» для заграничных учебных вылетов экипажей Тиббетса. Кончался 1944 год, и он ощущал давление все более накапливающихся задержек Манхэттенского проекта: «Генерал Гровс указал, что на программу блокбастеров тратится слишком много ценного времени в ущерб другим задачам». Конант спросил, как долго нужно будет продолжать программу блокбастеров; Парсонс резко ответил, что она будет продолжаться, пока будет действовать группа Тиббетса, чтобы экипажи 509-й могли поддерживать свои навыки бомбардировки. Несколько остыв, он сообщил, что «группа полковника Тиббетса рассчитывает достичь максимальной боевой готовности к 1 июля».
Поскольку Парсонсу не удалось убедить Гровса в важности сборки бомб и учебного бомбометания в личном разговоре, на следующий день после Рождества он написал генералу памятную записку, составленную в решительных выражениях. Между «пушечным устройством» и «имплозивным устройством», указывал он, имеются существенные различия, особенно в том, что касается окончательной сборки:
Считается, что с точки зрения механических испытаний сборку пушечного устройства вполне можно сравнить с нормальной полевой сборкой торпеды… Случай имплозивного устройства радикально отличается от этого, и предполагается, что по сложности эта операция сравнима с постройкой самолета в полевых условиях. Даже это не отражает всех затруднений, так как процесс сборки в значительной своей части предполагает работу с незакрытыми блоками взрывчатки и, по всей вероятности, будет завершаться установкой и закреплением по меньшей мере тридцати двух усилителей и детонаторов с последующим их подключением к взрывным электросхемам, в том числе с использованием специальных коаксиальных кабелей и контура высоковольтных конденсаторов… Я полагаю, что любой человек, знакомый с работой передовых баз… согласится, что речь идет о самой сложной и запутанной операции, какая когда-либо предпринималась за пределами лаборатории, объединенной со складом боеприпасов[2461].
Парсонс просто и убедительно доказывал одну-единственную мысль: тренировка нужна не только бомбардирам, но и сборщикам. Гровс уступил; Тиббетс получил свои «тыквы». К этому времени на Японию регулярно падали обычные бомбы, которые, правда, пока что не производили особенных опустошений. Французский журналист Робер Гийен вспоминает первый ночной налет на Токио, случившийся в конце ноября, следующим образом:
Внезапно возникло странное, ритмичное жужжание, которое наполнило ночь глубокой, мощной пульсацией и заставило дрожать мой дом: это был необычайный звук невидимых В-29, пролетавших через близлежащий участок неба; им вслед раздавался лай зенитного огня… Я вышел на крышу своей террасы… В-29, захваченные шарящими по небу лучами прожекторов, спокойно продолжали свой путь. За ними появлялись красные вспышки разрывов зенитных снарядов, которые не могли достать их на такой высоте. На горизонте, за ближайшим холмом, разлился розовый свет, становившийся все больше и заливавший кровью все небо. Другие красные пятна, похожие на туманности, возникали в других точках горизонта. Вскоре это зрелище стало привычным. В феодальную эпоху Токио назывался Эдо, и его жители всегда смертельно боялись часто возникавших случайных пожаров, которым они дали эвфемистическое название «цветов Эдо». Этой ночью начал цвести весь город[2462].
Пока Парсонс и Гровс спорили о «тыквах», Лорис Норстад, занявший в Вашингтоне место начальника штаба Счастливчика Арнольда вместо Ханселла, когда тот перебрался на Марианские острова, сообщил своему предшественнику, что «срочно требуется» пробный налет с бомбардировкой зажигательными бомбами на Нагою, третий по величине город Японии. Ханселл возражал. «С большим трудом», – писал он Норстаду, ему удалось «утвердить тот принцип, что нашей целью является разрушение первостепенных целей последовательными и решительными налетами с использованием методов точечной бомбардировки, как с визуальным, так и с радарным наведением», и он «начинает добиваться результатов». Как ни странно, он опасался, что участие в массированных бомбардировках приведет к тому, что его экипажи утратят так тяжело привитые им навыки. Норстад сочувствовал ему, но настаивал, что налет на Нагою – всего лишь проверка, «особое задание, связанное с необходимостью планирования на будущее»[2463]. 3 января 1945 года почти сто В-29 Ханселла сбросили на Нагою, расположенную в южном конце равнины Ноби, в 300 километрах к юго-западу от Токио, зажигательные бомбы, которые вызвали многочисленные мелкие пожары, так и не объединившиеся в один большой.
За три месяца упорных полетов в тяжелых условиях, с регулярными потерями, Ханселлу не удалось уничтожить ни одной из девяти назначенных им первостепенных целей. Его упорное нежелание идти на поводу у Вашингтона – Билли Митчелл, первый проповедник стратегического применения ВВС, указывал на возможность уничтожения японских городов огнем еще в 1924 году – стоило ему командования. 6 января Норстад вылетел в Гуам, чтобы освободить Ханселла от его обязанностей. На следующий день из Китая прибыл Лемей. «Лемей – человек действия, – сказал Норстад Ханселлу, – а мы все – планировщики. В этом все дело»[2464]. Как будто подталкивая нового командира к большей независимости, Счастливчик Арнольд перенес 15 января тяжелый сердечный приступ и на время удалился в Майами, поближе к солнцу, для поправки здоровья.
Лемей официально принял командование 20 января. У него было на Марианских островах 345 В-29, а должно было стать еще больше. У него было 5800 офицеров и 46 000 солдат. И перед ним стояли те же проблемы, что и перед Ханселлом: струйные течения; ужасная японская погода, позволявшая бомбить с визуальным наведением в лучшем случае семь дней в месяц, причем метеорологических прогнозов почти не было, так как советская сторона отказывалась предоставлять прогнозы из Сибири, из которой и приходили атмосферные фронты; двигатели В-29, которые перегревались и загорались от перегрузок при долгом наборе высоты; невысокое качество бомбардировки:
Генералу Арнольду нужны были результаты. Ларри Норстад говорил об этом очень прямо. По сути дела он сказал: «Вы должны добиться результатов с В-29. Если вы их не добьетесь, вас уволят. Кроме того, если вы не добьетесь результатов, на Тихом океане никогда не будет стратегических ВВС… Если вы не добьетесь результатов, это приведет в конечном счете к массированной высадке в Японии морского десанта, что, вероятно, будет стоить лишнего полумиллиона американских жизней»[2465].
Лемей начал интенсивную тренировку своих экипажей. Они начали получать радары, и он позаботился о том, чтобы летчики умели по меньшей мере определять момент перелета с моря на сушу. Он отправлял самолеты на высотную точечную бомбардировку, но экспериментировал и с зажигательными бомбами: 3 февраля 159 тонн таких бомб было сброшено на город Кобе, в котором сгорела тысяча зданий. Но и этого было недостаточно: Лемей назвал февраль «очередным месяцем незначительных результатов»:
Подведя итоги, я понял, что за эти шесть или семь недель мы добились немногого. Мы по-прежнему летали на слишком больших высотах, по-прежнему сталкивались наверху с сильными струйными течениями. Почти все время стояла плохая погода.
Я проводил целые ночи за подробным изучением изображений всех целей, которые мы бомбили или разведывали. Кроме того, я изучал донесения разведки.
Существовала ли на самом деле в Японии сколько-нибудь значительная маловысотная зенитная артиллерия? Я не мог найти никакой информации о ней.
Это наводило на размышления[2466].
Наводили на размышления и две крупномасштабные трагедии, случившиеся в этом феврале. Одна из них произошла на другом конце мира, в Европе, где Лемей так часто летал раньше. Другая началась поблизости. Упрямый генерал из Огайо, ненавидевший неудачи и терпевший сейчас неудачу в Японии, несомненно, подробно изучил обе.
Европейским событием была бомбардировка Дрездена, столицы германской земли Саксонии, расположенной на реке Эльбе в 180 километрах к югу от Берлина и знаменитой своей изящной ажурной архитектурой. В феврале 1945-го надвигающийся русский фронт находился менее чем в 130 километрах к востоку; потоки беженцев, спасавшихся от смертельной опасности, текли на запад и вливались в саксонский город. Поскольку в Дрездене не было никакой значительной военной промышленности, до этого он не подвергался бомбежкам и был городом, по сути дела, незащищенным. В его пригородах насчитывалось 26 000 военнопленных из армий союзников.
Налет на Дрезден был организован с подачи Уинстона Черчилля[2467]. Где-то в январе премьер-министр позвонил министру военно-воздушных сил, который изложил в ответ свои тактические предложения. Реакция Черчилля была не менее резкой, чем в случае с Нильсом Бором:
Я не спрашивал вас вчера вечером о планах ускорения процесса отступления немецких войск из Бреслау. Напротив, я спрашивал, следует ли рассматривать сейчас Берлин и, без сомнения, другие крупные города Восточной Германии в качестве особенно привлекательных целей. Я рад, что этот вопрос «рассматривается». Прошу вас, доложите мне завтра, что будет предпринято[2468][2469].
Так настала очередь Дрездена. Холодной ночью 13 февраля 1400 самолетов командования бомбардировочной авиации сбросили на город фугасные бомбы и около 650 000 зажигательных; при этом были потеряны шесть самолетов. Возникший после этого огненный вихрь был виден за 300 километров. На следующий день, сразу после полудня, прилетели 1350 американских тяжелых бомбардировщиков, которые должны были сбросить фугасные бомбы на сортировочную железнодорожную станцию. Однако они обнаружили, что цель на девять десятых закрыта облачностью и дымом, и отбомбились по гораздо более обширной территории, не встретив при этом никакого зенитного огня.
Молодой в то время американский писатель Курт Воннегут – младший был в плену и находился в Дрездене во время налета. Через много лет после войны он описывал свои впечатления в интервью:
Это был первый роскошный город, который я видел в своей жизни. Город, полный скульптур и зоопарков, как Париж. Мы жили на бойне, в прекрасном новом свинарнике, построенном из шлакоблоков. В свинарнике поставили нары с соломенными тюфяками, и каждое утро мы ходили работать на фабрике по производству солодового сиропа. Сироп предназначался для беременных женщин. Время от времени начинали выть эти чертовы сирены, и мы слышали, как бомбят какой-нибудь другой город – бух-бух-бух-бух. Мы не думали, что это коснется и нас. В городе было очень мало бомбоубежищ и не было никакой военной промышленности, только табачные фабрики, больницы, заводы по производству кларнетов. А потом завыла сирена – это было 13 февраля 1945 года, – и мы спустились на два этажа под землю в большое мясохранилище. Там было прохладно, вокруг висели туши. Когда мы поднялись наверх, города не было… При бомбежке даже не было особенно сильного грохота. Бух. Они сбросили сначала фугасы, чтобы расшатать все вокруг, а потом разбросали зажигательные… Они, черт возьми, сожгли весь город целиком…
[После этого] мы каждый день выходили в город и раскапывали подвалы и убежища, чтобы достать оттуда трупы – из санитарных соображений. Когда мы попадали в такое убежище – чаще всего это были обычные подвалы, – оно было похоже на трамвай, полный людей, которые одновременно умерли от сердечного приступа. Люди просто сидели на стульях, и все они были мертвы. Огненный смерч – поразительная штука. В природе его не бывает. Он поддерживается за счет вихрей, которые образуются внутри его, и там не остается никакого воздуха для дыхания. Мы выносили мертвых наружу. Их грузили на повозки и вывозили в парки, большие, открытые городские пространства, которые не были завалены обломками. Немцы устраивали погребальные костры и сжигали тела, чтобы они не пахли и не распространяли болезни. Под землей нашли сто тридцать тысяч трупов[2470].
На примере более близких событий Кертис Лемей мог видеть интенсивность и яростность японского сопротивления, усиливавшегося по мере того, как американцы с боями продвигались все ближе к Японским островам. Самая недавняя бойня произошла на острове Иводзима – «Серном острове»[2471]. Остров представляет собой скопление вулканического пепла и камня площадью всего двадцать три квадратных километра; на одном его конце находится спящий вулкан Сурибати, поднявшийся из моря уже в исторические времена. Хотя воздух на острове пропитан серными испарениями, пахнущими тухлыми яйцами, и имеется недостаток пресной воды, на нем существовали два аэродрома, с которых японские истребители-бомбардировщики вылетали, чтобы атаковать В-29 Лемея на бетонированных стоянках на Гуаме, Сайпане и Тиниане. Иводзима находится почти на полторы тысячи километров ближе к Токио, чем Марианские острова, и, когда В-29, отправленные на стратегическую бомбардировку, пролетали над островом, его радарные станции могли заблаговременно предупредить о налете зенитные батареи и истребительные подразделения ПВО на Хонсю.
Японцы сознавали стратегическое положение острова и готовили его оборону в течение нескольких месяцев, часто под бомбами самолетов ВМФ и ВВС США. 15 000 человек превратили Иводзиму в настоящую крепость из блиндажей, окопов, траншей, 13 000 метров туннелей, 5000 дотов и укрепленных входов в пещеры, пищеблоков и казарм, устроенных в толще горы Сурибати, а также блокгаузов с толстыми бетонными стенами. Концентрация артиллерии в этих укреплениях была выше, чем в любых предыдущих японских оборонительных сооружениях: орудия береговой артиллерии в бетонных бункерах, полевые орудия всех калибров, укрытые в пещерах, ракетные установки, танки, вкопанные в песок по самую башню, 300-килограммовые стержневые минометы, длинноствольные зенитные орудия, установленные так, что их стволы были направлены параллельно земле. Командующий японскими силами генерал-лейтенант Тадамити Курибаяси учил своих солдат новой стратегии: «Всем нам хотелось бы быстрой и легкой смерти, но это не нанесет врагу тяжелого урона. Мы должны сражаться из укрытия, причем сражаться как можно дольше»[2472]. Его солдаты и морские пехотинцы, общая численность которых превышала теперь 21 000 человек, уже не собирались бессмысленно гибнуть в психических атаках. Они собирались сопротивляться до последнего. «Мне жаль, что моя жизнь закончится здесь, в сражении с Соединенными Штатами Америки, – писал Курибаяси своей жене. – Но я хочу защищать этот остров, пока смогу»[2473]. Спасения он не ждал. «Они хотели, чтобы Иводзима досталась нам такой ценой, – говорит Уильям Манчестер, сражавшийся не в этой битве, а в следующей, на Окинаве, – что американцев приводила бы в ужас сама мысль о высадке у них на родине»[2474].
В Вашингтоне тайно рассматривали вариант зачистки острова артиллерийскими снарядами с отравляющим газом, которыми могли стрелять по нему суда, стоящие далеко в море[2475]. Это предложение дошло до Белого дома, но Рузвельт резко наложил на него вето. Это решение, возможно, позволило бы сохранить тысячи жизней и приблизить капитуляцию японцев – эти аргументы привлекались для оправдания большей части массовых боен Второй мировой войны; кроме того, ни Соединенные Штаты, ни Япония не подписывали Женевскую конвенцию, запрещающую подобные практики, – но Рузвельт, вероятно, помнил то возмущение, которое вызвало во всем мире применение отравляющих газов Германией в Первой мировой войне, и решил поручить зачистку Иводзимы морской пехоте США.
Высадка началась в 9 утра в субботу 19 февраля, после нескольких недель обстрела корабельными орудиями и бомбардировок. Менее укрепленного противника такая артподготовка стерла бы с лица земли; японцы же, окопавшиеся на Иводзиме, всего лишь не выспались из-за продолжительного грохота. Флот высадил морских пехотинцев на берег на гусеничных транспортерах, оставил их на широких и скользких пляжах, покрытых черной пемзой, и отошел за новой партией десанта. Японцы удерживали господствующую высоту Сурибати; они заранее пристреляли все сколько-нибудь значимые точки плоского острова и теперь просто открыли по ним огонь. На берегу, говорит Манчестер, люди чаще гибли от артиллерийского огня, чем от пуль.
Силы вторжения попали под сильный минометный и артиллерийский обстрел. Сталь хлестала по ним подобно пыльной буре. К закату 2420 человек из 30 000, высадившихся на берег, были убиты или ранены. Периметр имел в длину всего четыре тысячи метров, а в глубину – семьсот метров на севере и тысячу метров на юге. Картина напоминала иллюстрации Доре к «Аду». Важные грузы – боеприпасы, пайки, вода – были свалены в полном беспорядке. Повсюду были кровь, мясо и кости. Люди гибли на Иводзиме необычайно страшным образом. Казалось, что ни у кого не было чистых ран – только части разорванных тел. Одному из медиков батальона это напомнило анатомический театр в больнице Бельвю. Отличить убитого японца от морского пехотинца часто можно было только по ногам: на морпехах были холщовые лосины, а на японцах – обмотки защитного цвета. Опознать тела как-нибудь иначе было совершенно невозможно. Под ногами валялись кишки длиной до пяти метров и тела, разрезанные пополам в районе пояса. Ноги и руки, головы с шеями лежали метрах в пятнадцати от ближайшего торса. К ночи весь берег смердел горелым мясом[2476].
После этой ужасной первой ночи, когда японцы могли бы растратить свои силы в контратаке, а вместо этого прочно засели в своих оборонительных редутах, руководителям высадки стало ясно, что захват каждого метра территории острова будет стоить им жизней американцев. Последний приказ, которые Курибаяси отдал своим солдатам, требовал от них такой же жертвы. «Мы должны проникнуть в гущу врагов и уничтожить их, – настаивал он. – Мы должны взять гранаты, напасть на вражеские танки и взорвать их. Каждый наш залп должен непременно убивать врагов. Долг каждого – успеть убить десять вражеских солдат прежде, чем умрет он сам!»[2477] Медленные, жестокие бои продолжались большую часть месяца. К концу марта, когда снаряды и пожары изменили самый пейзаж острова, была одержана окончательная победа, ради которой 6281 морской пехотинец из 60 000 участвовавших в операции был убит, 21 865 человек ранены, а уровень потерь составил 2 к 1 и стал самым высоким за всю историю Корпуса морской пехоты США. Из числа японцев, защищавших Иводзиму, погибли 20 000 человек; лишь 108 человека позволили себе попасть в плен.
Сознание того, что защита экипажей В-29 стоила такого числа человеческих жизней, в то время как результаты их деятельности по-прежнему не оказывали влияния на ход войны, подвигло Лемея на радикальные перемены. Нужно было сделать так, чтобы гибель этих людей не была напрасной, отплатить за их смерть.
Еще один пробный налет на Токио с зажигательными бомбами, совершенный 23 февраля силами 172 самолетов, дал лучшие на тот момент результаты: выгорело целых 2,5 квадратного километра города. Но Лемей и так давно знал, что деревянные японские города можно уничтожать пожарами, если правильно их организовать. То есть задача, которую ему никак не удавалось решить, сводилась к правильной организации, а не к самому применению зажигательных бомб.
Он изучал снимки результатов налетов. Он просматривал сообщения разведки. «Казалось, что у японцев просто нет всех этих 20- и 40-миллиметровых [зенитных] орудий, – вспоминает он свое откровение. – А именно такое оружие необходимо для защиты от бомбардировщиков, заходящих на цель на малых и средних высотах. По самолетам, идущим на высоте семи с половиной или девяти тысяч метров, они вынуждены стрелять из 80- или 90-миллиметровых орудий, иначе такие самолеты не сбить… Но против низколетящего самолета 88-миллиметровые пушки бессильны. Такой самолет движется слишком быстро»[2478].
У маловысотного бомбометания были и другие важные преимущества. Полет на малой высоте позволял экономить топливо по пути с Марианских островов и обратно; значит, В-29 могли взять на борт большее количество бомб. Полет на малой высоте требовал меньшего напряжения больших двигателей Wright; значит, число самолетов, вынужденных повернуть назад или пойти на аварийную посадку, должно было уменьшиться. Лемей ввел в эту формулу еще одну переменную и предложил бомбить ночью; разведка сообщала, что на японских истребителях нет бортовых радаров. При отсутствии или малом количестве зенитной артиллерии и истребителей ПВО Токио оказывался практически ничем не защищенным. Тогда, рассуждал Лемей, нельзя ли снять с В-29 все пушки и всех стрелков и еще более увеличить бомбовую нагрузку? Он решил оставить хвостового стрелка в качестве наблюдателя и снять с самолета всех остальных.
Этот свой план он обсуждал лишь с немногими членами своего штаба. Они наметили зону удара – равнинный район площадью чуть более 30 квадратных километров, плотно застроенный домами рабочих; он прилегал к северо-восточному углу императорского дворца в центральной части Токио[2479]. Даже через два десятилетия после войны Лемей ощущал необходимость обосновывать выбор этой цели, утверждая, что она была в некотором смысле промышленной: «Все эти люди жили вокруг завода Хаттори, на котором они делали запалы для снарядов. Так они распределяли свою промышленность: дети помогали [дома], работали целыми днями, маленькие дети»[2480]. Официальный американский «Обзор стратегических бомбардировок»[2481] честно отмечает, что зона удара на 87,4 % была занята жилыми домами[2482], а сам Лемей делает в автобиографии еще более откровенное признание:
С какой стороны на это ни посмотри, приходится убивать ужасно много гражданского населения. Тысячи и тысячи гражданских. Но, если не уничтожить японскую промышленность, нам придется высаживаться в Японии. А сколько американцев будет убито при вторжении в Японию? По минимальной оценке, видимо, пятьсот тысяч. Кое-кто называет миллион.
…Мы воюем с Японией. Япония напала на нас. Хотите ли вы убивать японцев или предпочитаете, чтобы убивали американцев?[2483]
Чуть позже, все еще во время войны, пресс-секретарь 5-й воздушной армии отмечал, что, поскольку японское правительство мобилизует гражданское население для оказания сопротивления вторжению, «все население Японии представляет собой законную военную цель»[2484].
Лемей решил сбросить на свою законную цель – рабочие кварталы Токио – зажигательные бомбы двух типов. Передовые самолеты несли М47, 45-килограммовые бомбы с нефтяным гелем, по 182 штуки на самолет; каждая из них была способна зажечь крупный пожар. За ними летели бомбардировщики основных сил, сбрасывавшие М69, напалмовые бомбы весом 2,7 килограмма; в каждом самолете было по 1520 таких бомб. Лемей не применял магниевые бомбы, потому что они были слишком жесткими: они пробивали насквозь черепичные крыши и легкие деревянные полы японских домов и зарывались в землю, не причиняя большого вреда. Кроме того, как вспоминает Лемей, он включил в этот набор некоторое количество фугасов для деморализации пожарных.
Свой план он представил на утверждение только накануне намеченной даты налета, взяв ответственность за эту операцию и связанный с нею риск на себя. 8 марта Норстад утвердил его план и предупредил пресс-службу ВВС о возможности «выдающегося удара»[2485]. В тот же день поставили в известность Арнольда[2486]. Экипажи Лемея были ошарашены, когда услышали, что им предстоит лететь безоружными, на нескольких высотных эшелонах от полутора до двух тысяч метров. «Вы зажжете самый большой фейерверк, какой когда-либо видели японцы»[2487], – сказал им Лемей. Некоторые решили, что он сошел с ума, и стали подумывать о мятеже. Другие встретили его выступление криками восторга.
В конце дня 9 марта 334 В-29 поднялись в воздух и взяли курс на Токио – сперва с Гуама, затем с Сайпана и, наконец, с Тиниана. Они несли более 2000 тонн зажигательных боеприпасов.
Они летели к городу, который хорошо знавший его корреспондент агентства Associated Press называл в своем бестселлере 1943 года «мрачным, тусклым и неопрятным»[2488]. Освободившись из-под японского ареста, сначала в Маниле, а потом в Шанхае, Рассел Брайнс вернулся на родину со следующим сообщением о людях, среди которых он жил до войны и на языке которых говорил:
«Мы будем сражаться, – говорят японцы, – пока нам не придется есть камни!» Это старинное выражение теперь возрождено и глубоко внедрено в японское сознание пропагандистами, искусными в деле мобилизации своего народа, похожего на стадо баранов… [Оно] означает, что они будут продолжать войну, пока все до последнего человека – возможно, даже до последней женщины и последнего ребенка – не будут лежать лицом в землю на поле боя. Тысячи, может быть, сотни тысяч японцев воспринимают его буквально. Упускать из виду этот комплекс самоубийства было бы ошибкой столь же опасной, как наша довоенная невнимательность к целеустремленности и коварству японцев, которая сделала возможным Перл-Харбор…[2489]
Американские воины, вернувшиеся домой с фронта, пытались рассказать Америке, что эта война – война на уничтожение. Они видели это из своих окопов и с пустых полос простреливаемого песка. Я видел это с другой стороны от линии фронта. Наши картины совпадают. Это действительно война на уничтожение. Такой сделали ее японские милитаристы[2490].
Этой зимой и осенью воины флота и авиации увидели особое свидетельство упорства японцев – появление камикадзе, самолетов, начиненных взрывчаткой, пилоты которых намеренно направляли их на таран судов. Между октябрем и мартом молодые японские летчики, в большинстве своем только что обученные студенты, совершили около девятисот самоубийственных вылетов. Корабельные истребители и зенитные орудия сбивали большинство камикадзе. Им удалось попасть приблизительно в четыреста из флота в несколько тысяч американских кораблей, и только около сотни из них были потоплены или серьезно повреждены, но эти атаки были непривычны и вселяли ужас; они давали американцам лишнее подтверждение отчаянного безрассудства японцев в то время, когда противовоздушная оборона Японии истощалась все сильнее и сильнее.
Первые самолеты наведения Лемея появились над Токио вскоре после полуночи 10 марта. Они проложили через весь район Ситамати, расположенный на равнине к востоку от реки Сумида, в котором жило около 750 000 человек, населявших скученные дома из дерева и бумаги, диагональную огненную прямую, а затем пересекли ее второй линией, как бы начертив гигантскую, сияющую букву Х. Ровно в час ночи основные силы В-29 начали методично бомбить равнину. Скорость ветра составляла около 7 метров в секунду. 1520 бомб М69 каждого бомбардировщика были поделены на 225-килограммовые пакеты, которые разделялись в нескольких сотнях метров над землей. Интервалометры бомбардировщиков основной группы – приборы, устанавливающие частоту сброса пакетов, – были установлены на 15-метровые интервалы. Таким образом, каждый самолет покрывал порядка 0,85 квадратного километра застройки. Если только одна зажигательная бомба из пяти вызывала пожар, это соответствовало одному пожару на каждые 3000 квадратных метров – то есть по одному пожару на каждые пятнадцать-двадцать тесно расположенных домов. По воспоминаниям Робера Гийена, плотность пожаров была более убийственной:
Жители героически оставались под бомбами, верно следуя приказу, что каждая семья должна защищать свой дом. Но как они могли бороться с огнем при таком ветре, когда в каждый дом могло попасть десять или даже больше бомб… падавших с неба тысячами? Падая, бомбы расплескивали что-то вроде горящей росы, которая быстро растекалась по крышам, поджигая все, на что она попадала, и распространяя повсюду волну пляшущего пламени[2491].
К двум часам ночи скорость ветра возросла и превысила 9 метров в секунду. Гийен поднялся на свою крышу и наблюдал оттуда:
Огонь, подстегиваемый ветром, начал быстро распространяться сквозь плотную застройку деревянного города… Разрасталось огромное северное сияние… Яркий свет разогнал ночную тьму, и в небе там и сям стали видны В-29. Они впервые летели на малых и средних высотах, распределившись по эшелонам. Их длинные, блестящие крылья, острые как бритвы, виднелись сквозь столбы дыма, поднимавшиеся от города, внезапно отражали огонь бушующего внизу пекла; черные силуэты самолетов проплывали по огненному небу и снова возникали вдали, сияя золотом на фоне черного небосвода или синим блеском в лучах прожекторов, шарящих по всему небесному куполу от горизонта до горизонта… Все японцы, жившие рядом с моим домом, вышли в свои сады или выглядывали из убежищ, издавая возгласы восхищения – типично японского – этим грандиозным, почти театральным зрелищем[2492].
Этой ночью в Токио разгорелось нечто худшее, чем обычный огненный смерч. В американском официальном «Обзоре стратегических бомбардировок» это явление назвали «комплексным пожаром», и возник он, когда дувший наверху ветер наклонил столб горячих и горящих газов, которые испускались пожарами и поднимались в воздух конвекционными потоками:
Главной особенностью комплексного пожара… было наличие огненного фронта, протяженной стены огня, которая перемещалась по ветру вслед за массой нагретых, плотных, горящих испарений. Столб огня находился в гораздо более турбулентном состоянии, чем в случае огненного смерча, и, находясь в основном ближе к земле, создавал больше пламени и жара и меньше дыма. Поэтому комплексный пожар развивался значительно быстрее и со значительно большими разрушениями, чем огненный смерч, так как огонь продолжал распространяться до тех пор, пока не заканчивался горючий материал… В полутора километрах от пожара измеренная скорость ветра составляла 12,5 метра в секунду; предполагается, что по его периметру она достигала 25 метров в секунду и более, а внутри пожара, вероятно, была еще выше. Распространившийся пожар охватил за 6 часов около 40 квадратных километров. Пилоты сообщали, что воздух был настолько бурным, что В-29, летевшие на высоте 1800 метров, переворачивались вверх днищем, а жар был настолько интенсивным, что даже на этой высоте всему экипажу приходилось надевать кислородные маски. Зона пожара выгорела почти на 100 %; ни одно строение или его содержимое не осталось неповрежденным. Огонь в основном распространялся по направлению естественного ветра[2493].
Бомбардир, пролетевший сквозь бурные клубы дыма, поднимавшиеся над этим пожаром, вспоминает, что это было «самое ужасное, с чем я когда-либо сталкивался»[2494].
В неглубоких каналах Ситамати, в которые люди ныряли, чтобы спастись от огня, кипела вода.
Река Сумида остановила пожар после того, как он охватил 41 квадратный километр города. В «Обзоре стратегических бомбардировок» высказывается предположение, что «за этот 6-часовой период в Токио, вероятно, погибло больше людей, чем за любой другой [равный промежуток времени] в истории человечества»[2495]. Возможно, дрезденский огненный смерч унес большее число жертв, но не за такое короткое время. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года в Токио погибло более 100 000 мужчин, женщин и детей; еще миллион человек получили ранения, из них не менее 41 000 тяжелые; в общей сложности миллион человек остались без крова. Орудием этой кары стали две тысячи тонн зажигательных бомб – две килотонны, если использовать нынешнюю терминологию. Но причиной комплексного пожара был не только вес самих бомб, но и ветер; следовательно, такая эффективность этой бойни была, до некоторой степени, стихийным бедствием.
Арнольд прислал Лемею торжествующий телекс: «поздравляю, эта операция показывает, что ваши экипажи готовы на всё»[2496]. Во всяком случае, сам Лемей действительно был готов на все; рискнув и выиграв, он стал быстро наращивать свой успех. 11 марта его В-29 забросали зажигательными бомбами Нагою; 13 марта, используя радарное наведение, подожгли Осаку; 16 марта сбросили зажигательные бомбы на Кобе – поскольку запасы М69 подходили к концу, вместо них пришлось использовать пакеты двухкилограммовых бомб М17А1 с магниевыми термитами, несмотря на их меньшую эффективность; 18 марта они произвели еще один налет на Нагою. «А затем, – говорит Лемей, – у нас кончились бомбы. Буквально»[2497]. За десять дней 20-й авиационный отряд выполнил 1600 вылетов, в результате которых выгорело 83 квадратных километра[2498] в центре четырех крупнейших городов Японии и было убито по меньшей мере 150 000 человек; точное число жертв почти наверняка было на несколько десятков тысяч больше. «Я считаю, – писал Лемей в апреле в частном письме к Норстаду, – что стратегические воздушные бомбардировки впервые достигли состояния, в котором их сила соразмерна масштабам их задач. Мне кажется, что лишение Японии способности вести войну вполне в силах нашего управления»[2499]. Лемей начал верить, что нашел способ, который позволит военно-воздушным силам завершить войну на Тихом океане без высадки в Японии.
В Ок-Ридже гости, входящие в дом, снимали обувь. Покрытый грязью комплекс в Теннесси нанимал все больше работников и продолжал строительство, и это приводило скудный почвенный слой в такое ужасное состояние, что некий безымянный сотрудник компании Tennessee Eastman даже увековечил его в стихах:
- Я так на службу торопился,
- Что похудел и закалился,
- Покуда брел в лучах зари
- Сквозь эту грязь, черт побери!
- Галоши утонули где-то,
- А вслед за ними – и штиблеты.
- Тоску наводит, хоть умри,
- Вся эта грязь, черт побери!
- Пропитан ею я, страдалец,
- И если я пораню палец,
- Не кровь сочится изнутри,
- А та же грязь, черт побери![2500]
Количество грязи было мерой развития проекта: калютроны Эрнеста Лоуренса, построенные такой дорогой ценой, начали обогащение урана. Начиная с конца сентября 1944 года через «дорожки» установок Альфа проходило не менее 100 граммов 10-процентного 235U в сутки[2501]. Но некачественное планирование химического вывода этого материала из камер установок Бета приводило к потерям порядка 40 %, как сообщал в начале ноября Джеймсу Чедвику бывший в Ок-Ридже Марк Олифант: «Эти потери или задержки… привели к очень серьезному запаздыванию производства материала для первого образца оружия… Я полагаю, что химическое производство в целом представляет собой ужасающий пример отсутствия координации, неэффективности и дурного управления»[2502].
Копия жалобы Олифанта была отправлена Гровсу, который, видимо, отреагировал на нее незамедлительно. Уже две недели спустя обнаруживший проблему австралийский физик смог сообщить генералу, что «выход бета-дорожек проявляет резкую и чрезвычайно удовлетворительную тенденцию к росту». В письме к Чедвику Олифант отмечал, что установки Бета дают всего по 40 граммов в сутки; теперь «достигнуто производство приблизительно 90 граммов в сутки, и [есть] основания полагать, что в ближайшие месяцы этот уровень сохранится или даже возрастет». В заключение он оптимистично утверждал, что «теперь есть определенная надежда, что благодаря продолжающимся усилиям управляющей компании и других сотрудников производительность завода выйдет на ожидавшийся уровень уже к Новому году»[2503].
К январю 1945 года ежедневно работали около 85 % из 864 камер калютронов Альфа, производя по 258 граммов материала, обогащенного до 10 %; в это же время 36 камер Бета перерабатывали и объединяли продукцию установок Альфа, выдавая в сутки по 204 грамма 235U, обогащенного уже до 80 %[2504]. Такого уровня обогащения было достаточно для изготовления бомбы. Джеймс Брайант Конант рассчитывал в своих рукописных исторических заметках от 6 января[2505], что производство одного килограмма 235U в сутки должно позволить производить по одной пушечной бомбе каждые шесть недель. Отсюда следует, что для пушечной бомбы требовалось около 42 килограммов – 2,8 критической массы[2506] – 235U. Без каких-либо дальнейших усовершенствований одни только калютроны могли произвести такое количество материала за 6,8 месяца, и после совещания с Гровсом Конант отметил, что «судя по всему, 40–45 кг… будут получены к 1 июля». Колоссальная работа Эрнеста Лоуренса привела к успеху; каждый грамм 235U в единственном «Малыше», который должен был быть готов к середине 1945 года, по меньшей мере один раз проходил через его калютрон.
Кроме того, Конант сопоставил свои предположения от июня 1944 года с тем, что он предполагал в начале нового года, составив сводку нерешенных задач: если раньше он полагал, что, чтобы закончить войну, может хватить «всего нескольких бомб», то в начале 1945 года он был «убежден, что потребуется много бомб (германский опыт)». Под «германским опытом» он, вероятно, имел в виду упорное сопротивление немцев, затягивавшее войну в Европе, в особенности контрнаступление в Арденнах, которое называли «битвой за выступ»: оно началось в середине декабря и все еще продолжалось, когда Конант писал свои заметки. Отчаяние союзников, вызванное таким продолжающимся сопротивлением, и стало одной из причин зверской бомбардировки Дрездена в следующем месяце.
Компания Houdaille-Hershey наконец начала поставлять для газодиффузионной установки К-25 барьерные трубки удовлетворительного качества. Фирма Union Carbide распланировала поставку барьеров так, чтобы использовать каскадную структуру К-25; по прибытии отдельных камер, которые называли конвертерами, рабочие подключали их к системе и проверяли на наличие течей в азотной и гелиевой атмосфере при помощи портативных масс-спектрометров, разработанных Альфредом Ниром. Если ступень была герметична и готова по остальным параметрам, ее можно было сразу же включать в работу, и уже 20 января 1945 года в первую ступень огромного каскада К-25 был загружен гексафторид урана. Так началось обогащение методом барьерной газовой диффузии на самой передовой в мире автоматической промышленной установке. Она продолжала эффективно работать в течение десятилетий, требуя лишь нормального обслуживания.
Трубы увеличенной термодиффузионной установки S-50 Филиппа Абельсона протекали так сильно, что их пришлось заваривать, что задержало начало производства, но к марту все стойки установки – двадцать одна штука – начали обогащать уран. Жонглирование разными методами обогащения для получения максимального количества продукции за минимальное время стало сложной математической и организационной задачей. Расписание разработал подполковник Кеннет Д. Николс, талантливый и многострадальный помощник Гровса. Исходя из расписания Николса, в середине марта Гровс решил не строить новые калютроны, как предлагал Лоуренс, а собрать вместо этого вторую газодиффузионную установку и четвертую установку Бета. Хотя Гровс, несомненно, ожидал, что его атомные бомбы завершат войну, в сооружении новых установок он, по-видимому, ориентировался на осторожную оценку Комитета начальников штабов, согласно которой война на Тихом океане должна была закончиться через восемнадцать месяцев после окончания европейской. Как он объяснял в своей заявке, новые установки могли быть готовы к работе не раньше 15 февраля 1946 года, но «в предположении, что война с Японией не закончится до июля 1946 года, планируется продолжить добавление нового оборудования к двум установкам, если не будут получены иные инструкции»[2507]. Возможно, он попросту осторожничал.
В начале 1945 года Ок-Ридж начал отправку 235U оружейного качества в Лос-Аламос. Между отправками партий урана Гровс не собирался рисковать веществом, более ценным, считая на вес, чем алмазы. Хотя военные очистили всю территорию комплекса Клинтон и выселили с нее всех жителей, в дальнем конце пыльной тупиковой дороги по-прежнему стояла белая ферма, возле которой пасся скот. Над дорогой, защищенной крутым обрывом, возвышалась бетонная силосная башня. На взгляд с воздуха этот участок ничем не отличался от любой из многочисленных ферм в Теннесси, но на самом деле на силосной башне было устроено пулеметное гнездо, на ферме дежурили охранники, а в обрыв был встроен бетонный бункер с сейфом размером с банковское хранилище, полностью окруженный охранявшимися дорожками[2508]. В этой пасторальной крепости Гровс хранил постепенно накапливающиеся граммы 235U. Вооруженные курьеры отвозили специальные чемоданы с ураном в форме тетрафторида на автомобиле в Ноксвилл и садились там на ночной поезд в Чикаго. На следующее утро они передавали чемоданы своим чикагским коллегам, у которых были забронированные купе в поезде «Санта-Фе Чиф». Двадцать шесть часов спустя, в середине дня, чикагские курьеры сходили с поезда посреди пустыни, на станции Лами, которая обслуживала Санта-Фе. Поезд встречали сотрудники службы безопасности Лос-Аламоса, которые наконец и доставляли материал на Холм, где химики с нетерпением ждали его, чтобы выделить из этого ценного груза металлический уран.
Для производства плутония в Хэнфорде химическая очистка была не менее важна, чем цепная реакция в реакторах. Химическим процессом занимался Гленн Сиборг, проделавший великолепную работу по прямому увеличению его масштабов в миллиард раз по сравнению с первыми ультрамикрохимическими опытами своей группы. В стержнях, облученных в реакторах Хэнфорда, плутония было всего лишь около 250 частей на миллион[2509]; остальное составляли уран и чрезвычайно радиоактивные продукты распада. Поэтому для извлечения столь немногочисленного плутония требовалась химическая очистка с применением носителей – такая же фракционная кристаллизация, какую использовали еще Мария Кюри и Отто Ган. Этот рукотворный металл обладает лишь небольшой радиоактивностью, но чрезвычайно ядовит, если попадает внутрь организма. Чтобы получить вещество, с которым человек может работать, не подвергаясь опасности, нужно было очистить его до концентрации продуктов распада менее 1 к 10 миллионам. А в связи с сильной радиоактивностью выведенных из реакторов стержней все работы с ними, за исключением окончательной химической обработки, необходимо было производить в дистанционном режиме, за толстыми защитными экранами.
Группа Сиборга разработала два процесса очистки, воспользовавшись разными химическими свойствами разных валентных состояний плутония. В одном из процессов в качестве носителя использовался фосфат висмута, в другом – фторид лантана. Фосфат висмута, количество которого было определено пропорциональным масштабированием данных экспериментов Металлургической лаборатории, служил для основной очистки от урана и продуктов распада. Фторид лантана, который применяли на опытных моделях в Ок-Ридже, обеспечивал осаждение плутония из больших объемов раствора, в котором он образовывал взвесь.
Хэнфорд был крупнейшим предприятием, которое когда-либо строила и эксплуатировала компания Du Pont; корпуса химической очистки были не самыми маленькими из его сооружений. «Исходно считалось, что понадобятся восемь очистных установок, – писал Гровс, – затем шесть, затем четыре. Наконец, основываясь на рабочем опыте и информации, полученной на оборудовании половинного масштаба в Клинтоне, мы решили построить всего три установки, две основные и одну резервную». Из соображений безопасности установки возвели за горой Гейбл, в 16 километрах к юго-западу от расположенных у реки реакторов. Каждый из корпусов имел 244 метра в длину, 20 метров в ширину и 24 метра в высоту. Эти бетонные сооружения были такими массивными, что рабочие окрестили их «Куин Мэри», по названию британского океанского лайнера, хотя его длина была в пять раз меньше. По сути дела, «Куин Мэри» были просто огромными бетонными коробками, говорит Гровс, защитными корпусами, «в которых имелись индивидуальные отсеки, содержащие разные части оборудования, занятого в технологическом процессе. Для защиты от сильной радиоактивности эти отсеки были окружены бетонными стенами двухметровой толщины и закрыты сверху бетонными плитами толщиной 1,8 метра»[2510].
В каждой «Куин Мэри» было сорок отсеков, и крышка каждого отсека, которую можно было снять при помощи мостового крана, перемещавшегося вдоль всего вытянутого ущелья корпуса, весила 35 тонн. Облученные стержни, выведенные из производственного реактора, выдерживали в бассейнах с водой пятиметровой глубины до тех пор, пока не распадались самые активные и, следовательно, короткоживущие продукты деления. Окружавшая их вода светилась голубым светом из-за черенковского излучения заряженных частиц – своего рода аналога хлопка, раздающегося при пролете сверхзвукового самолета. Затем стержни перевозили в экранированных ящиках, погруженных в специальные железнодорожные вагоны, в одну из «Куин Мэри», где их прежде всего растворяли в горячей азотной кислоте. Стандартная группа оборудования занимала две ячейки. В нее входили центрифуга, коллектор, осадитель и растворный бак; все они были сделаны из специально изготовленной нержавеющей стали, особо стойкой к коррозии. Жидкий раствор, в который превращались стержни, перемещался между этими модулями через пароструйные сифоны – их использовали вместо насосов, так как они требовали менее затратного обслуживания. В процессе очистки было три необходимых этапа: растворение, осаждение и центрифугирование для удаления осадка. Эти три операции повторялись снова и снова в каждой группе оборудования по всей длине очистного корпуса. Конечной продукцией были радиоактивные отходы, которые сбрасывали в подземные резервуары тут же на площадке, и малое количество высокочистого нитрата плутония.
После того как «Куин Мэри» были заражены радиоактивностью, сотрудники уже не могли входить в корпуса. Операторы оборудования должны были уметь обслуживать их исключительно при помощи средств дистанционного управления. Эти операторы обучались на предприятии Du Pont в Делавэре, в Ок-Ридже и на макете установки в самом Хэнфорде, но главный инженер Раймон Женеро хотел дать им более совершенную подготовку. И придумал, как это сделать: он велел операторам, которые прибыли в Хэнфорд в октябре 1944 года в количестве ста человек, установить технологическое оборудование в первом завершенном очистном корпусе средствами дистанционного управления, как будто корпус уже был радиоактивным. Они выполнили это задание, работая сначала довольно неуклюже, но постепенно приобретая все большую уверенность в управлении манипуляторами в ходе этого упражнения.
«Когда “Куин Мэри” начали работать, – вспоминает Леона Маршалл, – огромные клубы коричневого дыма, образующегося при растворении облученных стержней в азотной кислоте, вырастали над бетонными ущельями, поднимались на тысячи футов в воздух и, охлаждаясь, уплывали в сторону с дувшими в высотных слоях ветрами»[2511]. Стержни из реактора В начали поступать по железнодорожной ветке в очистную установку 221-Т с 26 декабря 1944 года. «Выработка в первых рабочих циклах установки… составляла от 60 до 70 %, – с гордостью отмечает Сиборг, – [и] достигла 90 % в начале февраля 1945 года»[2512]. Подполковник Франклин Т. Матиас, представитель Гровса в Хэнфорде, лично отвез первую маленькую порцию нитрата плутония на поезде из Портленда в Лос-Анджелес и передал ее там курьеру службы безопасности Лос-Аламоса. После этого материал – разделенный на маленькие докритические партии в металлических контейнерах, упакованных в деревянные ящики, – перевозили в Лос-Аламос под конвоем на военной санитарной машине через Бойсе, Солт-Лейк-Сити, Гранд-Джанкшен и Пуэбло.
Бертран Гольдшмидт, французский химик, работавший с Гленном Сиборгом, использует для описания наивысшей точки развития Манхэттенского инженерного округа во время войны следующее яркое сравнение. Это было, пишет он в своих воспоминаниях, «потрясающее американское предприятие, создавшее за три года, ценой двух миллиардов долларов, огромный комплекс заводов и лабораторий – не уступавший размером всей автомобильной промышленности Соединенных Штатов того времени»[2513].
Одной из загадок Второй мировой войны было отсутствие ранних и упорных усилий американской разведки, направленных на определение того, насколько Германия продвинулась в направлении создания атомной бомбы. Если, как неоднократно подчеркивают документы, Соединенные Штаты были серьезно обеспокоены возможностью появления у Германии такого неожиданного секретного оружия, способного обратить вспять ход войны, почему же ни их разведывательные организации, ни сам Манхэттенский проект не организовали масштабной кампании шпионажа в этой области?
Вэнивар Буш поднимал вопрос о шпионаже во время своей исторической встречи с Франклином Рузвельтом 9 октября 1941 года, когда Буш проинформировал Рузвельта об отчете MAUD. Однако тогда директор OSRD не получил удовлетворительного ответа, возможно, в связи с тем, что Соединенные Штаты еще не участвовали в войне. Гровс в своих мемуарах перекладывает ответственность на существовавшие тогда разведывательные службы – армейское Управление G-2, Управление военно-морской разведки и Управление стратегических служб, бывшее предшественником ЦРУ, – и объясняет недостаточность имевшейся у них информации «неприязненными взаимоотношениями, развившимися между [ними]»[2514]. Почему сам он занялся этим вопросом только в конце 1943 года, когда Джордж Маршалл прямо попросил его это сделать, Гровс не рассказывает. Одной из причин, несомненно, были соображения безопасности, которыми Гровс был одержим; чтобы агенты разведки знали, что им искать, их нужно было проинформировать по меньшей мере о технологиях разделения изотопов и исследованиях в области ядерного деления, а тогда любой пойманный и перевербованный агент мог выдать американские секреты. Когда Гровс наконец взял на себя ответственность за сбор разведывательной информации, он выбрал научных сотрудников, не работавших в Манхэттенском проекте, и дал разрешение на военизированные операции, только на уже занятой союзниками территории. По крайней мере, так должен был работать разведывательный отдел по его представлениям; на практике разведка часто добивалась результатов любыми правдами и неправдами, действуя на ничейной территории между фронтами, на которых еще шли бои.
Подразделение, которое Гровс разрешил создать в конце 1943 года, каким-то образом получило название «Алсос», от греческого слова , означающего «роща», в чем можно было увидеть туманный намек[2515]. Генерал хотел было его переименовать, «но решил, что изменение названия… только привлечет к нему лишнее внимание»[2516]. Возглавить миссию «Алсос» он поручил подполковнику Борису Т. Пашу, бывшему школьному учителю, ставшему сотрудником службы безопасности армейской разведки G-2 и прошедшему подготовку в ФБР. Паш стал известен в американских разведывательных кругах своим энергичным расследованием коммунистических настроений среди сотрудников лаборатории Эрнеста Лоуренса в Беркли. Он был подтянут, имел славянскую внешность и светлые, тонкие волосы, носил очки без оправы, бегло говорил по-русски и был неутомимым преследователем коммунистов. Причину этому можно найти в его происхождении: его отец был митрополитом Русской православной церкви в Северной Америке. Именно Паш допрашивал Роберта Оппенгеймера о его связях с коммунистами, причем тайно установленное в соседней комнате записывающее устройство регистрировало компрометирующие отговорки физика на кинопленке со звуковой дорожкой. Хотя Паш и не получил никаких убедительных доказательств, он заключил, что Оппенгеймер – член Коммунистической партии, перешедший на подпольное положение, и, возможно, шпион. Что бы Гровс ни думал об участии Паша в «охоте за красными», он выбрал его на роль руководителя миссии «Алсос» за результативность: «его доскональная компетентность и огромная энергия произвели на меня неизгладимое впечатление»[2517].
В 1944 году, когда войска союзников наступали во Франции после высадки в Нормандии, Паш организовал себе базу в Лондоне. После этого он пересек Ла-Манш со взводом солдат, включенных в состав миссии, и поехал на джипе в Париж. «Передовой отряд АЛСОС присоединился к 102-му моторизованному полку армии США на шоссе № 188 в Орсэ», – сообщает отчет военной разведки того времени. Американские силы остановились около Парижа – Шарль де Голль убедил Франклина Рузвельта позволить войскам Свободной Франции войти в город первыми, – но Паш решился на импровизацию: «Затем полковник Паш с отрядом переместились проселочными дорогами к шоссе № 20 и присоединились ко второй части французской бронетанковой дивизии. После этого миссия АЛСОС вошла в город Париж 25 августа 1944 года в 8 ч. 55 мин. Отряд продолжил продвижение в тылу первых пяти французских машин, вошедших в город, став, таким образом, первым американским подразделением, вошедшим в Париж»[2518]. Пять французских машин были танками. В Паша, ехавшего в открытом джипе, то и дело стреляли снайперы. Пытаясь укрыться от них, он пробирался по парижским закоулкам и к концу дня достиг своей цели – Радиевого института на улице Пьера Кюри. Там он и обосновался на вечер, распивая с Фредериком Жолио шампанское в честь радостного события.
Жолио знал о германских исследованиях урана меньше, чем кто-либо мог ожидать. Паш переместил свою базу в освобожденный Париж и начал распутывать казавшиеся перспективными следы. Один из наиболее значительных таких следов вел в Страсбург, старинный город на Рейне в Эльзасе – Лотарингии, который войска союзников начали занимать в середине ноября. Паш нашел там немецкую физическую лабораторию, устроенную в одном из зданий на территории городской больницы. Научным руководителем группы «Алсос» был Сэмюэл А. Гаудсмит, голландский физик-теоретик, ученик Эренфеста, некогда изучавший криминологию и работавший раньше в Радиационной лаборатории МТИ. Гаудсмит последовал за Пашем в Страсбург, начал скрупулезно изучать найденные там документы и нашел в них настоящее сокровище. Он пишет об этом эпизоде в послевоенных воспоминаниях:
Хотя эти документы не содержали точной информации, в них было более чем достаточно, чтобы получить общее представление о германском урановом проекте. Два дня и две ночи мы изучали эти бумаги при свете свечей, пока у нас не заболели глаза… Вывод был предельно ясен. Имеющиеся данные неопровержимо доказывали, что у Германии нет атомной бомбы и вероятность получения ее в сколько-нибудь приемлемом виде мала[2519].
Но Гровсу было недостаточно бумажных доказательств; с его точки зрения, германскую программу можно было списать со счетов, только проследив судьбу всей урановой руды компании Union Minire, которую немцы конфисковали после вторжения в Бельгию в 1940 году. Всего этой руды было около 1200 тонн, и она была единственным источником неучтенного материала для изготовления бомбы, которым Германия располагала во время войны: рудники в Иоахимстале находились под наблюдением, а Бельгийское Конго было отрезано.
Паш уже реквизировал часть этого запаса, около 31 тонны, из французского арсенала в Тулузе, в который руда была тайно перевезена и спрятана. В конце марта, перебравшись в Германию вместе с армиями союзников после того, как они переправились через Рейн, он собрал более крупный отряд, два бронеавтомобиля с пулеметами 50-го калибра[2520] и четыре джипа, также с пулеметами, и начал выслеживать самих германских ученых-атомщиков. «В Вашингтоне хотели абсолютных доказательств того, – вспоминает Паш, – что нацисты не проводили никаких неизвестных нам атомных работ. Кроме того, там хотели, чтобы ни один заметный немецкий ученый не избежал плена и не попал в руки Советского Союза»[2521]. Дойдя до Гейдельберга, отряд «Алсос» нашел там Вальтера Боте, в лаборатории которого находился единственный в Германии работающий циклотрон. Из обнаруженных там документов следовало, что лаборатория Курта Дибнера расположена в городе Штадтильме близ Веймара. Как оказалось, этот городок стал к тому же штаб-квартирой германской программы атомных исследований, и, хотя Вернер Гейзенберг и его сотрудники из Институтов кайзера Вильгельма перебрались на юг Германии, спасаясь от союзнических бомбардировок и русских и союзнических армий, в Штадтильме обнаружилось небольшое количество оксида урана, так что поиски Паша не были бесплодными.
Однако спасти руду довелось не Пашу. Связной Гровса в британских силах еще с конца 1944 года наблюдал за одним заводом в городе Штасфурте на севере Германии, недалеко от Магдебурга: документы, захваченные тогда в Брюсселе, указывали, что остаток бельгийской руды может храниться именно там. К началу апреля 1945 года Красная армия подошла к этому месту настолько близко, что откладывать его проверку было уже нельзя; Гровс организовал для этой операции совместный англо-американский ударный отряд под командованием подполковника Джона Лансдейла – младшего, того самого контрразведчика, который проверял Пола Тиббетса. Отряд обратился за разрешением на рейд в Штасфурт к представителю G-2 при 12-й группе армий в Гёттингене; Лансдейл описывает эту встречу в своем отчете:
Мы обрисовли ему наше предложение и предупредили, что, если мы найдем тот материал, который ищем, мы собираемся его вывезти, причем действовать мы будем должны в строжайшей тайне и как можно быстрее, учитывая, что, видимо, вскоре произойдет встреча русских армий с армиями союзников, а территория, на которой, по-видимому, находится материал, входит в предполагаемую русскую зону оккупации. [Представитель G-2] был очень встревожен нашим предложением и предположил возникновение всевозможных проблем в отношениях с русскими и политических осложнений в тылу. Сказал, что ему необходимо поговорить с главнокомандующим.
Главнокомандующим же был спокойный, деловой Омар Брэдли.
Он оставил нас и пошел к генералу Брэдли, у которого в этот момент было совещание с командующим 9-й армией, в зоне ответственности которой находился тогда Штасфурт. Оба они безоговорочно одобрили наш проект, причем генерал Брэдли, как нам сказали, заметил: «Черт с ними, с русскими».
17 апреля Лансдейл и его группа отправились в Штасфурт со знавшим местность разведчиком из пехотной дивизии, который служил им проводником.
Завод был разорен нашими бомбардировками и разграблен французскими рабочими. Перебрав горы бумаг, мы нашли сложенную ведомость или перечень документов, из которого следовало, что искомый материал действительно находится на заводе… По счастью, руда была сложена на поверхности земли. Она была в бочках, стоявших под навесами без стен, и явно хранилась там долгое время, так как во многих бочках были дыры. Там хранилось приблизительно 1100 тонн руды. Руда была разных типов, в основном в виде концентрата из Бельгии и около восьми тонн оксида урана[2522].
Лансдейл поручил своей группе составить опись и уехал в штаб-квартиру 9-й армии. Эта часть предоставила в его распоряжение две автотранспортные роты. Затем он поехал на ближайшую железнодорожную станцию, находившуюся в постоянной американской оккупационной зоне, но обнаружил там, что комендант слишком занят эвакуацией нескольких тысяч военнопленных из войск союзников, и единственная помощь, которую он может ему предложить, – это полдюжины солдат для охраны груза. Тогда Лансдейл сымпровизировал, нашел неподалеку пустые аэродромные ангары, в которых руду можно было сложить в ожидании отправки из Германии, и договорился об их разминировании. После этого он вернулся в Штасфурт:
Многие из бочек, в которые был упакован материал, были пробиты, а целые бочки по большей части были в настолько плачевном состоянии, что перевозки они не перенесли бы. Мы [с одним британским и одним американским офицерами] взяли джип и, осматривая окрестности, обнаружили в одном городке завод по производству бумажных мешков, на котором был большой запас очень прочных мешков. Позже мы отправили туда грузовик и получили 10 000 штук. Кроме того, мы нашли на одной фабрике большое количество проволоки и необходимые инструменты для запечатывания мешков. К вечеру 19 апреля мы организовали большую бригаду, которая энергично взялась за перегрузку материала, и той же ночью началась его перевозка к [станции][2523].
Тем временем Борис Паш продолжал выслеживать германских ученых-атомщиков. Из документов, имевшихся у группы «Алсос», следовало, что Вернер Гейзенберг, Отто Ган, Карл фон Вайцзеккер, Макс фон Лауэ и другие сотрудники их организации должны быть на юго-западе Германии, в расположенном в Шварцвальде курортном городке Хайгерлох. К апрелю германский фронт развалился, и французы продвигались вперед. Группа Паша, в которую к тому времени входил еще и саперный батальон, в середине ночи получила сигнал и поспешила на своих джипах, грузовиках и бронеавтомобилях в обход Штутгарта, стремясь добраться до Хайгерлоха раньше французских войск. По пути их обстреляли немцы; они открыли ответный огонь. Тем временем Лансдейл снова собрал в Лондоне свою англо-американскую команду и полетел в Германию, чтобы отправиться вслед за Пашем. Начались типичные для Паша приключения:
Хайгерлох – это маленький живописный городок, лежащий на обоих берегах реки Айах. Приближаясь к нему, мы видели вывешенные на флагштоках, швабрах и оконных ставнях в знак капитуляции наволочки, простыни, полотенца и другие белые полотнища.
…Пока наши друзья-саперы закреплялись в первом вражеском городе, взятом под руководством миссии «Алсос», [сотрудники Паша] возглавили группы, занявшиеся срочными поисками исследовательского центра нацистов. Вскоре они нашли хитроумное сооружение, дававшее почти абсолютную защиту от воздушного наблюдения и бомбежек, – церковь, стоявшую на вершине скалы.
Поспешив на место, я увидел похожий на бетонный ящик вход в пещеру в 25-метровой скале, возвышавшейся над нижней частью города. Тяжелая стальная дверь была закрыта на висячий замок. На двери висела бумажка с именем управляющего.
…Когда управляющего привели ко мне, он попытался убедить меня, что он – всего лишь бухгалтер. Когда я приказал ему отпереть дверь и он заколебался, я сказал: «Битсон, стреляйте в замок. Если этот будет мешать, застрелите его».
Тогда управляющий открыл дверь.
…В главном зале был бетонный колодец диаметром около трех метров. В колодце висел металлический щит, закрывавший сверху толстый металлический цилиндр. В нем находился сосуд в форме горшка, тоже из тяжелого металла, расположенный в метре с небольшим ниже уровня пола. На сосуде стояла металлическая рама… Взятый в плен немец… подтвердил, что к нам в руки попала, как называли ее немцы, «урановая машина» нацистов – то есть атомный котел[2524].
23 апреля Паш оставил Гаудсмита с несколькими коллегами в Хайгерлохе и поспешил в близлежащий город Хехинген. Там он нашел всех немецких ученых, за исключением Отто Гана, которого он настиг два дня спустя в деревне Тайльфинген, и Вернера Гейзенберга, оказавшегося вместе со своей семьей в Баварии, в домике на берегу озера.
Реактор, найденный в Хайгерлохе, использовался в последней серии исследований размножения нейтронов, проводившихся в Институтах кайзера Вильгельма. В качестве замедлителя в нем использовались полторы тонны экономно расходуемой тяжелой воды с завода Norsk Hydro; топливо состояло из 664 кубиков металлического урана, прикрепленных к 78 цепям, которые свисали в воду с того металлического «щита», который описывает Паш. На этой изящной конструкции с центральным источником нейтронов сотрудники Институтов кайзера Вильгельма получили в марте почти семикратное размножение нейтронов; Гейзенберг рассчитал тогда, что увеличения размеров реактора на 50 % должно быть достаточно для получения самоподдерживающейся цепной реакции[2525].
«Тот факт, что германская атомная бомба не представляла собой реальной угрозы, – пишет с обоснованной гордостью Борис Паш, – был, вероятно, самыми важными военными разведданными, полученными в течение всей войны. Уже одна эта информация в достаточной степени оправдывала существование миссии “Алсос”»[2526]. Но миссия «Алсос» добилась большего: она не позволила Советскому Союзу захватить германских ученых-атомщиков и получить значительное количество высококачественной урановой руды. Бельгийская руда, конфискованная в Тулузе, уже перерабатывалась в калютронах Ок-Риджа для изготовления материала для «Малыша».
В конце 1944 года неизменно находчивый и изобретательный Отто Фриш предложил провести в Лос-Аламосе дерзкую экспериментальную программу. На Холм начал поступать обогащенный уран из Ок-Риджа. Соединение металлического урана с богатыми водородом материалами для получения гидрида урана открывало путь к получению сборки критической массы, реагирующей как на быстрые, так и на медленные нейтроны. Фриш возглавлял группу критических сборок в составе Отдела G. Для получения критической сборки нужно было складывать вместе несколько дюжин 4-сантиметровых брусков гидрида, добавляя их по одному и измеряя интенсивность нейтронного потока в этой кубической стопке по мере ее приближения к критической массе. Эти маленькие бруски обычно устанавливали в прямоугольную решетку из более крупных, обработанных на станках бериллиевых кирпичей, которые отражали нейтроны, не давая им вылетать наружу, что позволяло использовать меньшее количество урана. В течение 1944 года было проведено несколько десятков таких экспериментов с критическими сборками. «Последовательное уменьшение содержания водорода в материале по мере появления все большего количества 235U, – говорится в технической истории Лос-Аламоса, – позволило накопить опыт работы со все более быстрыми реакциями»[2527].
Однако сложить из брусков полную критическую массу было невозможно; такая сборка вышла бы из-под контроля, убила бы своих создателей излучением и расплавилась бы сама. Однажды Фриш чуть было не вызвал неуправляемую реакцию, когда он нагнулся слишком близко к ничем не прикрытой сборке, – он называл ее «Леди Годива», – лишь немного не достигавшей критического состояния, и водород, содержавшийся в его теле, стал отражать нейтроны внутрь сборки. «В этот момент, – вспоминает он, – я увидел краем глаза, что маленькие красные [контрольные] лампочки перестали мигать. Казалось, что они горят непрерывно. Их мигание ускорилось настолько, что его уже нельзя было разглядеть». Фриш немедленно провел рукой по верхней стороне сборки и смахнул с нее несколько брусков гидрида. «Мигание лампочек снова замедлилось до различимой глазом скорости»[2528]. За две секунды он получил суточную предельно допустимую дозу облучения, весьма немалую, так как она была установлена по стандартам военного времени.
Несмотря на этот пугающий опыт, Фриш хотел работать с полной критической массой, чтобы установить экспериментально то, что до сих пор в Лос-Аламосе можно было установить только теоретически: сколько урана потребуется для «Малыша». Этим и было вызвано его дерзкое предложение:
Идея заключалась в том, чтобы набрать соединения урана-235, которое к тому времени уже было доставлено на площадку, в достаточном количестве для получения взрывного устройства, если его действительно собрать, но оставить в сборке большую дыру на месте центральной части. Это позволило бы вылетать достаточному количеству нейтронов, чтобы не возникла цепная реакция. А недостающий фрагмент нужно было собрать отдельно и сбросить его так, чтобы он пролетел сквозь дыру: тогда на долю секунды должны были возникнуть условия для ядерного взрыва, но только на самом пределе возможности[2529].
Когда блестящий молодой ученый Ричард Фейнман услышал о плане Фриша, он рассмеялся и придумал ему имя: он сказал, что это все равно, что щекотать хвост спящего дракона[2530]. Так этот опыт и получил свое название – эксперимент «Дракон».
Группа Фриша построила на отдаленной лабораторной площадке в каньоне Омега, которую также использовал Ферми, трехметровую железную раму, «гильотину», на которой были установлены вертикальные алюминиевые направляющие. Экспериментаторы окружили эти направляющие блоками гидрида урана, расположенными на высоте стола. На вершину гильотины они подняли слиток гидрида урана размером приблизительно пять на пятнадцать сантиметров. Он должен был упасть под действием силы тяжести, с ускорением 9,8 метра в секунду за секунду. Пролетая между блоками, он должен был на мгновение образовать критическую массу. Смешанный с гидридом 235U должен был реагировать гораздо медленнее, чем чистый металл, содержащийся в «Малыше». Но дракон должен был зашевелиться, и его опасное шевеление могло позволить Фришу понять, насколько теория согласуется с экспериментом.
Этот опыт был максимальным приближением к производству атомного взрыва, какое мы только могли получить, ничего по-настоящему не взрывая, и его результаты были в высшей степени удовлетворительными. Все произошло именно так, как должно было. Когда сердечник пролетел сквозь дыру, мы получили огромный всплеск нейтронного потока, и температура поднялась на несколько градусов: в течение этой доли секунды возникла цепная реакция своего рода подавленного взрыва. Мы работали в большой спешке, потому что материал нужно было вернуть к определенному дню на переработку в металл… В течение этих лихорадочных недель я работал часов по семнадцать в сутки, а спал с рассвета до середины утра[2531].
Вот как оценивает значение щекотания дракона официальная история Лос-Аламоса:
В этих экспериментах было получено прямое доказательство возникновения взрывной цепной реакции. В них вырабатывалось до двадцати миллионов ватт энергии, а скорость роста температуры в гидриде урана доходила до 2 °C в миллисекунду. В самом сильном из полученных всплесков было произведено 1015 нейтронов. Дракон имел важное историческое значение. Это была первая управляемая ядерная реакция, доведенная до сверхкритического состояния с использованием только мгновенных нейтронов[2532].
К апрелю 1945 года в Ок-Ридже произвели достаточно 235U для создания близкой к критической сборки из чистого металла, не разбавленного гидридом. Маленькие бруски прибывали на площадку Омега, упакованные в небольшие, тяжелые коробки, которые все очень старались держать как можно дальше друг от друга. Когда металл вынимали из коробки и снимали с него обертку, он сверкал серебром под лампой на рабочем столе Фриша. Постепенно окисляясь, он становился синим, а затем – насыщенного темно-пурпурного цвета. Когда-то Фриш бродил по заснеженному Кунгэльву, размышляя о смысле письма, которое Отто Ган прислал его тетке; в подвале института Бора в Копенгагене он позаимствовал в биологии название для процесса, который придавал этим необычным маленьким брускам неизмеримую смертоносную силу; в Бирмингеме он возился с формулой вместе с Рудольфом Пайерлсом и впервые ясно увидел, что того количества темно-пурпурного металла, которое было теперь разложено по его столу, хватило бы для создания бомбы, которая изменит весь мир. В весеннем Лос-Аламосе он добрался до развязки этой истории: он мог объединить 235U в максимальном количестве, доступном для сборки вручную без опасности самоуничтожения.
Фриш завершил свои эксперименты с критическими сборками металлического 235U в четверг 12 апреля 1945 года. Накануне Роберт Оппенгеймер написал Гровсу о радостной новости: Кистяковскому удалось получить настолько ровное и симметричное сжатие имплозией, что его экспериментальные данные совпали с теоретическими предсказаниями. Когда в Америке было 12 апреля, в Японии уже наступила пятница 13-е, и в ночь этого несчастливого числа В-29, бомбившие Токио, разбомбили лабораторию Рикен. Деревянное здание, в котором находилась установка для безуспешного эксперимента по газовой диффузии Ёсио Нисины, сгорело не сразу; пожарным и сотрудникам удалось потушить угрожавший ему огонь. Но уже после того, как погасли другие пожары, здание внезапно вспыхнуло. Оно сгорело дотла, и с ним окончательно погиб японский проект атомной бомбы. В Европе Джон Лансдейл готовился к спешной поездке в Штасфурт, где он должен был конфисковать остатки бельгийской урановой руды; позднее в апреле, когда Гровс узнал об успехе этой авантюры, он написал Джорджу Маршаллу памятную записку, в которой наконец подвел черту под германским проектом:
В 1940 году германская армия захватила в Бельгии и перевезла в Германию около 1200 тонн урановой руды. Пока этот материал оставался скрытым и в распоряжении противника, мы не могли быть уверены, что противник не занимается подготовкой атомного оружия.
Вчера я получил телеграмму, сообщающую, что мои сотрудники обнаружили этот материал близ города Штасфурта в Германии, и сейчас он перевозится в безопасное место вне Германии, в котором он будет находиться под полным контролем американских и британских властей.
Захват этого материала, составлявшего основную часть запасов урана, имеющихся в Европе, по-видимому, исключает всякую возможность применения Германией атомной бомбы в ходе этой войны[2533].
Тот же день, вокруг которого происходили все эти события, 12 апреля, подвел и еще одну черту: около полудня у шестидесятидвухлетнего Франклина Делано Рузвельта, позировавшего в это время для портрета в Уорм-Спрингс, штат Джорджия, произошло обширное кровоизлияние в мозг. Он впал в кому и прожил еще часть дня; в 3 часа 35 минут дня он умер. Он исполнял обязанности президента своей страны в течение тринадцати лет.
Когда известие о смерти Рузвельта достигло Лос-Аламоса, Оппенгеймер вышел из своего кабинета на крыльцо административного корпуса и обратился к мужчинам и женщинам, стихийно собравшимся там. Они, как и другие американцы в любом другом месте, скорбели об утрате лидера страны. Некоторые беспокоились, будет ли теперь продолжен Манхэттенский проект. Оппенгеймер назначил на утро воскресенья церемонию прощания, на которую могли прийти не только работники Технической площадки, но и все остальные.
«Утром в воскресенье плато было покрыто глубоким слоем снега, – вспоминает этот день, 15 апреля, Филипп Моррисон. – Выпавший за ночь снег скрыл грубые конструкции города, заглушил шум его деятельности и придал пейзажу однородную белизну, над которой светило яркое солнце, и все стены отбрасывали глубокие синие тени. Это не было похоже на траурное убранство, но выглядело как признание чего-то, нужного всем нам, как жест утешения. Все пришли в театр, где Оппи тихо говорил в течение двух или трех минут, высказав то, что было на сердце и у него, и у нас»[2534]. Это была одна из лучших речей Роберта Оппенгеймера:
Три дня назад, когда мир узнал о смерти президента Рузвельта, плакали многие из тех, кто не привык проливать слезы, молились многие мужчины и женщины, не привыкшие молиться. Многие из нас с глубокой тревогой смотрели в будущее; многие из нас ощутили меньшую уверенность в том, что результаты нашей работы смогут послужить благому делу; все мы получили напоминание о том, насколько драгоценно человеческое величие.
Мы пережили годы великого зла и великого ужаса. Рузвельт был нашим президентом, нашим главнокомандующим и, в старом и неизвращенном смысле этого слова, нашим вождем. Люди всего мира видели в нем пример и символ надежды на то, что зло нашего времени никогда более не повторится, что те ужасные жертвы, которые уже были принесены и которые еще предстоит принести, приведут нас к миру, лучше приспособленному для жизни человека…
В индуистском писании, Бхагават-гите, сказано: «Человек – это существо, суть которого есть вера. Он есть то, что есть его вера». Веру Рузвельта разделяют миллионы мужчин и женщин всех стран мира. Именно поэтому мы можем сохранять надежду, именно поэтому нам следует посвятить себя надежде, что его добрые дела не закончились с его смертью[2535].
Вице-президент США Гарри С. Трумэн из города Индепенденса, штат Миссури, знавший о существовании Манхэттенского проекта лишь в самых общих чертах, говорил впоследствии, что, когда он услышал от Элеоноры Рузвельт, что должен стать президентом вместо Франклина Рузвельта, он «все время думал: “Гром грянул! Гром грянул!”»[2536] Между четвергом, днем смерти Рузвельта, и воскресеньем, днем церемонии прощания, Отто Фриш сдал Роберту Оппенгеймеру свой отчет о первом экспериментальном определении критической массы чистого 235U. Для «Малыша» требовалось более одной критической массы, но удовлетворение этого требования было теперь лишь вопросом времени. В Лос-Аламосе тоже грянул гром.
Часть III
Жизнь и смерть
Что будут думать о нас люди будущего? Скажут ли они, как Роджер Уильямс сказал о некоторых индейцах Массачусетса, что мы были волками с человеческим разумом? Решат ли они, что мы отказались от своего человеческого существа? У них будут для этого основания.
Ч. П. Сноу
Я вижу, что внутри нас, людей, есть два великих экстатических стремления. Одно из них – это стремление участвовать в жизни, и оно ведет к созданию новой жизни. Второе – стремление избежать смерти, которое трагически становится источником смерти. Жизнь и смерть – это наш дар, мы способны давать жизнь или нести смерть.
Гил Элиот
18
«Тринити»
В течение двадцати четырех часов после смерти Франклина Рузвельта Гарри Трумэну рассказали об атомной бомбе два человека. Первым был прямой и седовласый Генри Льюис Стимсон, заслуженный военный министр. Он поговорил с только что вступившим в должность президентом после короткого заседания кабинета, которое Трумэн созвал после принесения присяги вечером того же дня, когда умер Рузвельт. «Стимсон сказал мне, – сообщает Трумэн в своих воспоминаниях, – что хочет, чтобы я знал об одном гигантском развивающемся проекте – проекте, направленном на разработку нового взрывчатого вещества почти невероятной разрушительной силы. Он считал, что в этот момент не может сказать ничего больше, и его заявление меня озадачило. Это была первая информация об атомной бомбе, которую я получил, но никаких подробностей он мне не сообщил»[2537].
Трумэн знал о существовании Манхэттенского проекта со времени своей работы председателем сенатского Комитета по расследованию программы национальной обороны: тогда он пытался выяснить, какую именно цель преследует столь крупномасштабный секретный проект, и получил отпор от самого военного министра. Тот факт, что сенатор, верный долгу, как сторожевая овчарка, и упорный, как бульдог, отказался от расследования неучтенных миллионов долларов из бюджета строительства оборонного предприятия по одному только слову Стимсона, дает некоторое представление о том, какой репутацией пользовался министр.
Когда Трумэн стал президентом, Стимсону было семьдесят семь лет. Он помнил рассказы своей прабабки, разговаривавшей в детстве с Джорджем Вашингтоном. Он учился в Академии Филлипса в Эндовере, когда обучение в этой престижной частной школе в Новой Англии стоило шестьдесят долларов в год, и ученики сами рубили себе дрова. Он закончил Йельский колледж и юридический факультет Гарварда, был военным министром при Уильяме Говарде Тафте, генерал-губернатором Филиппин при Кальвине Кулидже, госсекретарем при Герберте Гувере. В 1940 году Рузвельт вызвал его из отставки, и он сумел построить самую могущественную военную организацию в мировой истории и управлять ею при содействии своих талантливых помощников, в особенности Джорджа Маршалла, несмотря на бессонницу и мигрени, которые часто одолевали его. Он был человек долга и твердых принципов. «Главный урок, который я выучил за свою долгую жизнь, – писал он в конце своей карьеры, – состоит в том, что сделать человека достойным доверия можно, только доверяя ему; а самый верный способ сделать его недостойным доверия – это не доверять ему и выказывать свое недоверие»[2538]. Стимсон пытался беспристрастно применять этот урок к людям и народам. Весной 1945 года его чрезвычайно сильно тревожило применение атомной бомбы и последствия ее появления.
Вторым человеком, который говорил с Трумэном на следующий день, 13 апреля, был шестидесятишестилетний Джеймс Фрэнсис Бирнс, которого обычно звали Джимми: с начала апреля он стал частным лицом, обычным жителем Южной Каролины, но до того в течение трех лет был, по словам Франклина Рузвельта, «ассистентом президента»[2539]: он был директором Управления экономической стабилизации, а затем и главой Совета по военной мобилизации и работал непосредственно в Белом доме. То есть, пока ФДР занимался войной и иностранными делами, Бирнс управлял страной. «Ко мне зашел Джимми Бирнс, – пишет Трумэн о втором разговоре об атомной бомбе, – но даже он не сообщил мне почти никаких подробностей, хотя и сказал очень торжественно, что мы доводим до совершенства взрывчатое вещество, такое мощное, что оно может уничтожить весь мир»[2540]. Тогда же или чуть позже, до того как Трумэн снова встретился со Стимсоном, Бирнс добавил к своему рассказу один важный нюанс: «что, по его мнению, эта бомба вполне может позволить нам в конце войны диктовать наши условия»[2541].
На этой первой встрече в пятницу Трумэн попросил Бирнса расшифровать стенографические заметки, которые тот сделал за три месяца до этого на Ялтинской конференции; Трумэн, бывший тогда всего лишь вице-президентом, мало что о ней знал. Весь опыт Бирнса в сфере иностранных дел практически и ограничивался Ялтой. Но у Трумэна не было и этого. В сложившихся обстоятельствах новый президент посчитал, что этого будет достаточно, и сообщил своему коллеге, что хочет назначить его государственным секретарем. Бирнс не возражал. Однако он потребовал, чтобы ему была предоставлена полная свобода действий – такая же, какую Рузвельт предоставлял ему в области внутренних дел; Трумэн согласился.
«Маленький, жилистый, аккуратно сделанный человек, – описывают Джимми Бирнса современные ему наблюдатели, – со странным, остро-угловатым лицом, с которого смотрели с выражением иронического добродушия проницательные глаза»[2542]. Дин Ачесон, бывший тогда заместителем госсекретаря, считал, что Бирнс чересчур самоуверен и невосприимчив, «энергичный экстраверт, привыкший к пышным разговорам южнокаролинской политики»[2543]. Трумэн чрезвычайно проницательно охарактеризовал южнокаролинца в своем личном дневнике, который он вел время от времени; это было через несколько месяцев после их апрельского разговора: