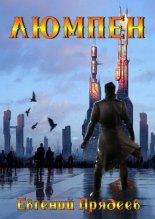Создание атомной бомбы Роудс Ричард
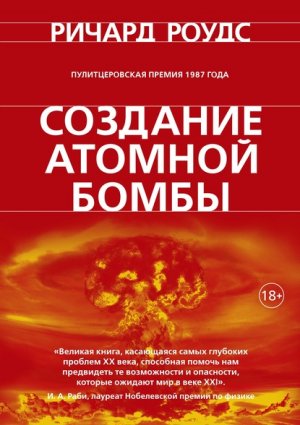
С самого начала было ясно, что имплозия, сжимая полую плутониевую сферу в сплошной шар, по сути дела, может произвести «сборку» критической массы гораздо быстрее, чем способно выстрелить самое быстрое орудие. Теперь же фон Нейман и Теллер поняли – и сообщили Оппенгеймеру в октябре 1943 года[2082], – что имплозия с более сильным сжатием, чем получалось до сих пор в опытах Неддермейера, должна сдавливать плутоний до такой неземной плотности, что в качестве заряда активного материала бомбы можно будет использовать сплошную докритическую массу, и это позволило бы обойти сложную проблему сжатия полых оболочек. Кроме того, это устраняло угрозу преждевременной детонации из-за вкраплений легких элементов. Другими словами, разработав технологию имплозии, можно было получить более надежную бомбу, причем получить ее быстрее.
На этом этапе появилась возможность приблизительно оценить размеры и форму бомбы, работающей на быстрой имплозии. Большая пушечная бомба должна была иметь диаметр чуть меньше 60 сантиметров и длину порядка 5 метров. Имплозивная бомба – толстая оболочка взрывчатки, окружающая толстую оболочку отражателя, окружающую плутониевый сердечник, окружающий пусковое устройство, – должна была иметь около полутора метров в диаметре и чуть более 270 сантиметров в длину: этакое яйцо размером с человека, снабженное хвостовыми стабилизаторами.
Той же осенью, когда тополя в Лос-Аламосе сменили цвет на ярко-желтый, Норман Рамзей планировал полномасштабные испытания сброски. Он хотел проводить их на «Ланкастере». ВВС настояли на использовании Б-29, хотя производство этих новых, покрытых полированным алюминием межконтинентальных бомбардировщиков только начиналось, и готовых самолетов еще было мало. «Для обеспечения возможности начала модификации самолета, – пишет Рамзей в составленном в третьем лице отчете об этой работе, – Парсонс и Рамзей выбрали два варианта внешней формы и веса, соответствующие планам, существовавшим в это время на площадке Y… По соображениям секретности представители военно-воздушных сил называли эти варианты соответственно “Худыш” и “Толстяк”; офицеры ВВС старались вести телефонные переговоры так, чтобы создавалось впечатление, будто бы они модифицируют самолет для перевозки Рузвельта (“худыша”) и Черчилля (“толстяка”)… Модификация первого Б-29 официально началась 29 ноября 1943 года»[2083].
В начале 1943 года к Нильсу Бору в копенгагенский Дом почета явился капитан датской армии, бывший также членом датского подпольного Сопротивления. После чая они с Бором вдвоем вышли в теплицу, в которой можно было разговаривать, не опасаясь скрытых микрофонов. Британцы передали подпольщикам, что вскоре пришлют Бору связку ключей. В головках двух ключей были высверлены гнезда, в которые были заложены одинаковые микроснимки, после чего гнезда снова запечатали. Расположение гнезд было показано на схеме с подписями. «Профессору Бору следует осторожно обработать ключи напильником в указанной точке до появления отверстия, – объяснялось в документе. – После этого сообщение можно перенести при помощи шприца или смыть на предметное стекло микроскопа»[2084]. Капитан предложил свою помощь в извлечении микроснимка и его увеличении. Поскольку у Бора не было навыков тайного агента, он с благодарностью принял это предложение.
Переданное таким образом сообщение оказалось письмом от Джеймса Чедвика. «Письмо приглашало отца приехать в Англию, где его ожидал самый теплый прием, – вспоминает Оге Бор. – <…> Чедвик писал отцу, что он сможет свободно заниматься научной работой. Но там упоминалось также, что существуют особые задачи, в которых его сотрудничество было бы очень полезно»[2085]. Бор понимал, что Чедвик, видимо, намекает на работу над ядерным делением. Датский физик по-прежнему относился к возможности его использования скептически. Он не остался бы в Дании, писал он Чедвику в ответном письме, «если бы мне казалось, что я смогу оказать реальную помощь… но я не думаю, что это вероятно. Прежде всего я искренне убежден, что последние чудесные открытия в области атомной физики неприменимы на практике». Если бы возможность создания атомной бомбы была реальной, Бор согласился бы уехать. В противном случае он считал своим долгом остаться, «чтобы помогать в противостоянии угрозам свободы наших учреждений и содействовать защите ученых-беженцев, которые искали здесь убежища»[2086].
Угрозы датским учреждениям, сопротивлению которым помогал Бор, были характерной особенностью немецкой оккупации Дании. Германия сильно зависела от датского сельского хозяйства, которое в одном только 1942 году обеспечило мясом и маслом пайки 3,6 миллиона немцев[2087]. А датское сельское хозяйство было трудоемкой отраслью, основу которой составляли мелкие фермы, и продолжать свою работу оно могло только с согласия фермеров и, вообще говоря, всего населения Дании. Чтобы не вызывать активного сопротивления, нацисты позволили Дании сохранить конституционную монархию и самоуправление. Датчане, в свою очередь, затребовали за сотрудничество с оккупантами необычайную цену: безопасность датских евреев. С точки зрения датчан, восемь тысяч проживавших в Дании евреев, 95 % которых находились в Копенгагене, были в первую очередь датскими гражданами; следовательно, их безопасность была проверкой добросовестности немцев. «Государственные деятели и руководители правительства Дании, – сообщает историк, – один за другим заявили, что безопасность евреев есть conditio sine qua non [2088] сохранения датского конституционного правительства»[2089].
Однако по мере того, как датский народ ощущал все более тяжелое бремя оккупации, а страны оси переставали одерживать военные успехи, сопротивление постепенно нарастало, особенно в форме забастовок и диверсий. Возможно, для многих датчан поворотным моментом стала капитуляция германских войск под Сталинградом 2 февраля 1943 года. Таким же моментом, несомненно, были и произошедшие следующим летом, 25 июля, отречение и арест Муссолини, после которых стала казаться неизбежной капитуляция Италии. 28 августа полномочный представитель нацистского правительства в Дании, доктор Карл Рудольф Вернер Бест, представил датскому правительству ультиматум Гитлера, требующий объявления чрезвычайного положения, запрета забастовок и собраний, установления комендантского часа, запрета на владение оружием, подчинения прессы цензуре германских властей и введения смертной казни за укрывательство оружия и саботаж. Правительство, получив на то разрешение короля, отказалось выполнить эти условия. 29 августа нацисты снова оккупировали Копенгаген, разоружили датскую армию, блокировали королевский дворец и заключили короля под стражу.
Одной из причин этого переворота была решимость нацистов уничтожить датских евреев; то, что они выпадали из «окончательного решения», приводило Гитлера в ярость. 29 августа нацисты арестовали нескольких видных евреев (они собирались арестовать и Бора, но решили, что это можно будет проделать с меньшим шумом во время всеобщей облавы). В начале сентября Бор узнал от посла Швеции в Копенгагене о намечающемся аресте его коллег-иммигрантов, в том числе и его сотрудника Стефана Розенталя. Он связался с подпольем, которое помогло иммигрантам бежать через пролив Эресунн в Швецию. Розенталь вместе с другими беженцами провел в тесной весельной лодке, позаимствованной в городском парке, посреди бурного моря девять часов, пока измученные гребцы не достигли наконец шведского берега.
Вскоре после этого настала очередь самого Бора. 28 сентября шведский посол зашел в Дом почета на чашку чаю и намекнул Бору, что через несколько дней его арестуют. Даже профессора уезжают из Дании, подчеркивал дипломат, как вспоминает Маргрете Бор[2090]. На следующее утро через ее деверя стало известно, что настроенная против нацистов немка, работавшая в копенгагенском управлении гестапо, видела подписанные в Берлине ордеры на арест и депортацию Нильса и Харальда Боров.
«Нам нужно было бежать в тот же день, – говорила потом Маргрете Бор. – Мальчики должны были последовать за нами позже. Но многие нам помогали. Друзья нашли судно, и нам сказали, что мы можем взять с собой одну маленькую сумку»[2091]. В конце дня 29 сентября чета Бор прошла через Копенгаген в пригородный сад на берегу моря и спряталась в садовом сарае. Там они дожидались ночи. В заранее условленное время они покинули сарай и вышли на пляж. Моторная лодка отвезла их на рыбацкое судно. Пробираясь в свете луны через минные поля и мимо немецких патрулей, они пересекли Эресунн и сошли на берег в поселке Лимхамн, близ Мальмё.
В последний момент Бор узнал, что следующим вечером нацисты собираются арестовать всех датских евреев и вывезти их в Германию. Оставив жену на юге Швеции ожидать приезда сыновей, он поспешил в Стокгольм, чтобы попросить шведское правительство о помощи[2092]. Там он выяснил, что Швеция уже предлагала интернировать датских евреев, но немцы отрицали, что планируется какая-либо облава.
На самом деле, пока Бор пробивался сквозь шведскую бюрократию, облава уже шла по плану, но не принесла почти никаких результатов. Предупрежденные заранее датчане по собственной инициативе спрятали своих сограждан-евреев. В руки немцев попали только 284 обитателя дома престарелых[2093]. Более 7000 евреев, остававшихся в Дании, временно были в безопасности. Однако в первое время лишь немногие из них собирались покинуть страну; они были вовсе не уверены, что Швеция согласится их принять, а больше, как им казалось, бежать было некуда.
30 сентября[2094] Бор встретился с заместителем шведского министра внутренних дел и призвал Швецию опубликовать ноту протеста, направленную в Министерство иностранных дел Германии. Он считал, что публичное заявление поможет предупредить потенциальных жертв об опасности, продемонстрирует сочувственное отношение Швеции и создаст давление, которое может заставить нацистов отказаться от своих планов. Замминистра ответил, что Швеция не планирует предпринимать какие-либо шаги по этому вопросу, кроме секретной ноты. 2 октября Бор обратился к министру иностранных дел, не смог добиться публикации ноты и решил, что обойдется без посредников. Как говорит Розенталь, датский лауреат «отправился к принцессе Ингеборге (сестре датского короля Кристиана Х) и, будучи у нее, выразил желание получить аудиенцию у короля Швеции»[2095]. Кроме того, Бор связался с датским послом[2096] и влиятельными коллегами-учеными. Вот как Розенталь описывает судьбоносное свидание с королем:
Аудиенция… прошла в тот же день после обеда… Король Густав сказал, что Швеция однажды уже пыталась обращаться к немцам подобным образом, когда оккупирующая держава начала депортировать евреев из Норвегии. Однако… ее требования были отвергнуты… Бор возразил, что ситуация с тех пор радикально изменилась в связи с победами союзников, и предложил предать гласности сделанное шведским правительством предложение взять на себя ответственность за судьбу датских евреев. Король обещал немедленно поговорить с министром иностранных дел, но подчеркнул, что осуществление этого плана связано с огромными трудностями[2097].
Однако трудности эти были преодолены. Вечером того же дня, 2 октября, шведское радио транслировало протест Швеции и сообщило, что страна готова предоставить евреям убежище. Эта передача показала путь к спасению; за следующие два месяца 7200 евреев пересекли пролив и укрылись в Швеции при активном содействии шведской береговой охраны. Типичен рассказ одного из скрывавшихся беженцев о том, что навело его на мысль о побеге: «Будучи в доме пастора, я услышал по шведскому радио, что братья Бор бежали в Швецию на корабле и что датских евреев там радушно принимают»[2098]. Личное вмешательство Нильса Бора, верного принципу открытости, который предполагает огласку как преступлений, так и ошибок, сыграло решающую роль в спасении датских евреев.
В Стокгольме кишмя кишели германские агенты, и были опасения, что Бора могут убить. «Пребывание в Стокгольме было недолгим, – вспоминает Оге Бор. – <…> От лорда Черуэлла пришла телеграмма… с приглашением в Англию. Отец немедленно его принял и попросил, чтобы мне разрешили приехать вместе с ним». Двадцатиоднолетний в то время Оге был подающим надежды молодым физиком. «Остальные члены семьи не могли поехать с нами; мать с братьями остались в Швеции»[2099].
Первым полетел Бор. Британцы перевозили свою дипломатическую почту в Стокгольм и обратно на невооруженном двухмоторном бомбардировщике «Москит». Это был легкий скоростной самолет, который мог подняться достаточно высоко, чтобы не опасаться германских зенитных батарей на западном побережье Норвегии: максимальная высота зенитного огня обычно составляла около 6000 метров. В бомбовом отсеке «Москита» было устроено место для одного пассажира. 6 октября Бор надел летный костюм и прицепил парашют. Пилот выдал ему летный шлем со встроенными наушниками для связи с кабиной и показал, где находится кислородная маска. Кроме того, Бор получил связку сигнальных фальшфейеров. В случае нападения на самолет пилот должен был открыть бомболюк и сбросить Бора на парашюте в Северное море; фальшфейеры должны были помочь спасателям найти его, если он все еще оставался в живых.
«Королевские военно-воздушные силы не привыкли к таким большим головам, как у Бора»[2100], – саркастически говорит Роберт Оппенгеймер. Оге Бор описывает чуть было не случившуюся катастрофу так:
«Москит» летел на большой высоте, и нужно было использовать кислородную маску. Пилот включил подачу кислорода и отдал команду по интеркому, но, поскольку шлем с наушниками не налезал на голову отца, он не услышал этой команды и вскоре потерял сознание от недостатка кислорода. Не получив ответа на свои запросы, пилот понял, что что-то неладно. Как только они миновали Норвегию, он снизился и перелетел через Северное море на малой высоте. Когда самолет сел в Шотландии, отец уже снова пришел в сознание[2101].
На состоянии энергичного пятидесятивосьмилетнего Бора это никак не отразилось. «Оказавшись в Англии и отдохнув, – продолжает свой рассказ Оппенгеймер, – он узнал от Чедвика о происходящих событиях»[2102]. Оге прибыл неделей позже, и отец с сыном совершили поездку по Британии, изучая развивавшуюся там деятельность Проекта трубных сплавов, в том числе установку для газовой диффузии полупромышленного масштаба. Но основной центр тяжести этой деятельности давно уже переместился в Соединенные Штаты. Британцы готовились отчасти вернуть себе инициативу, отправив в Лос-Аламос делегацию, которая должна была помочь в конструировании бомб. Они хотели включить Бора в состав этой делегации, что прибавило бы ей веса и престижности. К тому времени датский лауреат уже получил, по словам Оппенгеймера, «основательное первое впечатление». Относительно того, как ядерное оружие изменит мир, подразумевает Оппенгеймер. Чтобы подчеркнуть формировавшееся у Бора понимание, он использует следующую сильную аналогию: «Для него это стало открытием, похожим на то, которое он испытал [тридцатью] годами раньше, узнав об открытии Резерфордом атомного ядра»[2103].
Итак, в начале зимы 1943 года Нильс Бор снова готовился к поездке в Америку, вооруженный важным и новым откровением, на этот раз касающимся не физики, а политического устройства мира.
Он был готов поражаться могучему развитию промышленности. «Оказалось, что разработки в области атомной энергии в США и Англии продвинулись гораздо дальше, чем ожидал отец»[2104], – с некоторым преуменьшением говорит Оге Бор. Заключение Роберта Оппенгеймера, должно быть, точнее описывает то потрясение, которое должен был ощутить беженец, освободившийся из безжизненной атмосферы оккупированной Дании: «Деятельность, ведущаяся в Соединенных Штатах, показалась Бору совершенно фантастической»[2105].
Такою она и была.
15
Разные звери
Участок площадью 24 000 гектаров полудикой местности в Аппалачах, вдоль реки Клинч, текущей на востоке штата Теннесси, приобретение которого для Манхэттенского проекта 12 сентября 1942 года было одним из первых действий генерала Лесли Р. Гровса на новом посту, охватывал несколько разделенных гребнями параллельных долин, проходящих на юго-восток от подножия Камберлендских холмов. Гровсу понравилась геологическая структура этой местности, позволявшая разместить его многочисленные предприятия в изолированных местах. Однако эта новая территория была почти такой же неосвоенной, как впоследствии Лос-Аламос. Юго-восточную и юго-западную границу участка образовывала река Клинч, извилистый приток Теннесси. Километрах в тридцати к востоку находился город Ноксвилл с населением чуть менее 112 000 человек; еще дальше к востоку возвышалась горная стена национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс. 240 квадратных километров бесплодных долин и поросших падубом гребней пересекали пять грунтовых проселочных дорог. На всем участке длиной около 27 и шириной около 11 километров жило всего около тысячи обнищавших крестьянских семей. Именно в этих огражденных гребнями долинах обедневшего холмистого края армия Соединенных Штатов намеревалась возвести футуристические фабрики, которые должны были отделить 235U от 238U в количестве, достаточном для создания атомной бомбы.
Для этого прежде всего нужно было улучшить транспортные связи и построить город. Зимой 1942 и весной 1943 года подрядчики проложили на клейкой, красной теннессийской земле 90 километров железнодорожных насыпей и почти 500 километров мощеных дорог и улиц. Основные дороги округа были превращены в четырехполосные шоссе. Не успевавшая справляться с работой бостонская инженерная компания Stone & Webster предложила настолько примитивный план будущего города, что Манхэттенский инженерный округ отказался его принять и передал заказ молодой и перспективной архитектурной фирме Skidmore, Owings and Merrill. Та разработала проект удобно расположенных домов, которые предполагалось строить с использованием новаторских материалов: это дало такую экономию, что в лучших из жилых коттеджей можно было предусмотреть такие дополнительные удобства, как камины и веранды. Новый город, изначально рассчитанный на 13 000 работников, назвали по месту его расположения вдоль северо-западного края долины – Ок-Ридж[2106]. Вся территория в целом, огороженная колючей проволокой, за которую можно было попасть только через семь охраняемых ворот, получила название Клинтонского инженерного предприятия по имени находившегося рядом населенного пункта. Работавшие в ней прозвали ее Догпэтч («Собачий Пятачок») в честь места действия комикса «Крошка Абнер»[2107] из жизни «хиллбилли», обитателей глухих деревень в Аппалачах. Только что установленные ворота закрылись для посторонних 1 апреля.
Гровс планировал построить в Клинтоне установки электромагнитного разделения изотопов и установку газовой диффузии; уже в первые месяцы своей работы в проекте он понял, что производство плутония будет происходить в таких масштабах и создавать такое количество потенциально опасных радиоактивных материалов, что для него потребуется собственная отдельная территория. Самым развитым из трех технологических процессов был электромагнитный метод Эрнеста Лоуренса.
Метод электромагнитного разделения изотопов был расширением и усовершенствованием масс-спектрометрии, которую изобрел в 1918 году Фрэнсис Астон. Как объясняется в докладе, подготовленном в 1945 году сотрудниками Лоуренса, метод «основан на том факте, что электрически заряженный атом, пролетающий через магнитное поле, движется по окружности, радиус которой определяется его массой»[2108] – на этом же принципе был основан и циклотрон Лоуренса. Чем легче атом, тем меньше окружность, которую он описывает. Если взять ионы какого-либо соединения урана в газообразной фазе и привести их в движение в одном конце вакуумной камеры, помещенной в сильное магнитное поле, то эти ионы, двигаясь по криволинейным траекториям, разделяются на два пучка. Более легкие атомы 235U летят по более узкой дуге, чем более тяжелые атомы 238U; на полутораметровой дуге величина расхождения пучков может составлять около семи с половиной миллиметров. Если поставить накопитель в точку попадания пучка ионов 235U, в нем можно будет собрать эти ионы. «Когда ионы соударяются с дном накопителя… они теряют свой заряд и остаются там в виде металлических хлопьев»[2109][2110]. Схема такой установки со щелями в ускоряющих ионы электродах может выглядеть так, как показано ниже.
В конце 1941 года Лоуренс установил 180-градусный масс-спектрометр на месте дуантов метрового циклотрона в Беркли. За месяц непрерывной работы установки его группа получила 100 микрограммов частично очищенного 235U[2111]. Это было в несколько сотен миллионов раз меньше, чем 100 килограммов, которые Роберт Оппенгеймер первоначально считал необходимыми для изготовления бомбы. Эта демонстрация доказала правильность основополагающего принципа электромагнитного разделения и в то же время ярко проиллюстрировала гигантскую неэкономичность этого метода: Лоуренс собирался разделять уран, перебирая каждый атом.
Очевидными средствами повышения пропускной способности и производительности метода были укрупнение оборудования, повышение ускоряющего напряжения и увеличение числа источников и накопителей, устанавливаемых друг рядом с другом между полюсами одного и того же магнита. Раньше Лоуренс пожертвовал ради победы в войне своим временем; теперь он пожертвовал своим великолепным, новым 4,5-метровым циклотроном. Вместо дуантов циклотрона он установил между полюсами 4500-тонного магнита D-образные камеры масс-спектрометра. В течение весны и лета 1942 года новую установку привели в рабочее состояние, что было связано с решением чрезвычайно сложных инженерных задач. В процессе наладки у нее появилось собственное имя: калютрон, еще один «-трон», родившийся в Калифорнийском университете.
По оценке Лоуренса, сделанной осенью 1942 года, для выделения 100 граммов 235U в сутки требовалось около 2000 полутораметровых калютронных камер, установленных в магнитах, весящих многие тысячи тонн. Если для бомбы достаточной эффективности нужно было иметь 30 килограммов 235U, как только что рассчитали участники летних исследований в Беркли, то 2000 таких калютронов могли обогащать достаточное для одной бомбы количество активного материала за 300 суток. Все это в предположении, что система будет работать без сбоев, чего пока что нельзя было сказать о ее лабораторных прототипах. Однако в 1942 году электромагнитное разделение изотопов все еще казалось Джеймсу Брайанту Конанту настолько более перспективным, чем применение плутония или барьерная газовая диффузия, что он предложил обсудить возможность дальнейшего развития только этого метода. Лоуренс был уверен в своих силах, но не до безрассудства; он настоял на том, чтобы две темные лошадки продолжали участвовать в соревновании вместе с фаворитом.
Магнитное поле направлено перпендикулярно плоскости чертежа
Гровс был не так впечатлен этими результатами. Того же мнения придерживалась и первая комиссия Льюиса, посетившая Чикаго и Беркли зимой 1942 года, когда Ферми собирал реактор СР-1. Комиссия Льюиса сочла самым лучшим методом газовую диффузию, потому что она была ближе всего к известным технологиям – явление диффузии было хорошо знакомо инженерам-нефтяникам, а установка газовой диффузии должна была, по сути дела, представлять собой огромную систему связанных между собою труб и насосов. Электромагнитное же разделение было пакетным технологическим процессом, еще не опробованным в таком гигантском масштабе; в Беркли планировали собрать систему из полутораметровых камер, установленных вертикально между полюсами больших квадратных электромагнитов, по две камеры на зазор и по 96 камер на установку. Чтобы уменьшить количество железа, необходимого для сердечников магнитов, эту конструкцию делали не прямоугольной, а овальной, наподобие дорожки ипподрома:
Дорожкой ее и называли, хотя официально эта установка называлась «Альфа». В Беркли могли пообещать производство всего лишь 5 граммов обогащенного урана в сутки на каждой из установок, но Гровс считал, что сооружение 2000 камер выходит далеко за пределы возможностей Stone & Webster. Он уменьшил их число до 500, рассуждая, как вспоминал потом Лоуренс, «что техника и наука этого процесса будут развиваться, и к тому времени, когда завод будет построен, будет обеспечена гораздо более высокая производительность»[2112]. Производство пяти граммов в сутки на каждой из пяти установок соответствовало производству 30-килограммовой бомбы за 1200 суток, и это при условии, что калютроны «Альфа» производили бы почти чистый 235U, в то время как на самом деле они не могли добиться уровня его содержания свыше приблизительно 15 %. Гровс рассчитывал на будущие усовершенствования и готовился к ним.
Он вынужден был начинать строительство, еще не зная, что именно нужно будет построить. Он шел от общего к частному, от контуров к деталям. За целых шесть месяцев до того, как он принял решение о числе сооружаемых калютронов, его предшественники, полковник Джеймс Маршалл и подполковник Кеннет Николс, занялись решением одной важной снабженческой задачи. В Соединенных Штатах был острый дефицит меди, которая была лучшим из распространенных материалов для обмоток электромагнитов. Казначейство предложило предоставить во временное пользование серебро в слитках, которое можно было использовать вместо меди. Манхэттенский округ решил попытаться воспользоваться этим предложением. Николс вел переговоры о займе серебра с заместителем министра финансов Дэниэлом Беллом. «Где-то в ходе переговоров, – пишет Гровс, – Николс… сказал, что им потребуется от пяти до десяти тысяч тонн серебра. На это ему ответили ледяным тоном: “Господин полковник, в Казначействе серебро меряют не тоннами, а тройскими унциями”»[2113]. В конце концов из хранилища в Вест-Пойнте было выдано 395 миллионов тройских унций – 13 540 американских тонн[2114] – серебра, которое отлили в цилиндрические болванки, раскатали в 12-метровые ленты и намотали на железные сердечники на заводе компании Allis-Chalmers в Милуоки. Вытянутый овал каждого «ипподрома» был увенчан сплошной серебряной шиной поперечным сечением около одной десятой квадратного метра. Серебро стоило более 300 миллионов долларов. Гровс учитывал каждую его унцию почти так же тщательно, как он учитывал делящиеся изотопы, которые это серебро помогало выделять.
18 февраля 1943 года, когда подрядчики Stone & Webster начали строительство первого здания для «Альфы», в их распоряжении были только чертежи фундамента. Исходно Гровс выдал разрешение на строительство трех корпусов для пяти установок[2115]. В марте он утвердил вторую модель калютрона половинного размера, «Бета», с семьюдесятью двумя камерами на двух прямоугольных «дорожках». Эта установка должна была обеспечивать дополнительное обогащение изотопов, получаемых на «Альфе», доводя содержание 235U до 95 %. В конце концов одни только корпуса установок «Альфа» и «Бета» заняли в долине между грядами Пайн-Ридж и Честнат-Ридж[2116] площадь больше двадцати футбольных полей[2117]. Сами установки стояли на втором этаже корпусов; на первом были установлены огромные насосы для откачки калютронов до высокого вакуума. Общий объем вакуумных камер был больше совокупного объема, который откачивали в это время во всем остальном мире. Всего в составе комплекса Y-12 в его окончательном виде было 268 постоянных зданий, больших и маленьких, – калютронные корпуса, построенные из стали, кирпича и черепицы, химические лаборатории, завод по производству дистиллированной воды, станции очистки стоков, насосные станции, магазин, бензоколонка, склады, столовые, проходные, бытовки и раздевалки, бухгалтерия, литейный цех, генераторная станция, восемь электрических подстанций, девятнадцать градирен – и все это ради производства в лучшем случае нескольких граммов продукции в сутки. Это поразило даже Эрнеста Лоуренса, приехавшего с инспекцией в мае 1943 года.
К августу район заполонили двадцать тысяч строителей[2118]. Экспериментальная установка «Альфа» успешно заработала. Тогда Лоуренс стал убеждать Гровса удвоить количество «Альф». По его оценкам, при наличии не пяти, а десяти таких установок можно было получать за сутки по полкилограмма 235U с 85-процентным обогащением. В менее восторженном отчете военного инженера[2119], написанном через шесть дней после записки Лоуренса, предсказывается производство 900 граммов в месяц на имеющихся установках «Альфа» и «Бета» начиная с ноября 1943 года и получение в общей сложности 22 килограммов пригодного для бомб 235U в течение первого года их эксплуатации. С учетом новых оценок, полученных тем летом в Лос-Аламосе, – по ним выходило, что для эффективной урановой пушки, вероятно, потребуется 40 килограммов более редкого изотопа урана[2120], – Гровс согласился с предложением Лоуренса. Удвоение предполагало добавление четырех новых 96-камерных установок усовершенствованной конструкции под названием «Альфа-II» и пропорционального количества установок «Бета», общей стоимостью 150 миллионов долларов, в дополнение к более чем 100 миллионам, выделенным ранее. Обосновывая свое предложение перед Комитетом по военной политике, Гровс утверждал, что в случае успешного запуска Y-12 в эксплуатацию приблизительно к началу 1945 года можно будет получить 40 килограммов активного материала для бомбы.
Военные поручили эксплуатацию установок по электромагнитному разделению изотопов компании Tennessee Eastman, производственному филиалу Eastman Kodak. К октябрю 1943 года, когда сотрудники Stone & Webster закончили установку первой «Альфы», эта компания собрала 4800 работников обоего пола. Они должны были обеспечить круглосуточную и ежедневную работу калютронов и их обслуживание – не зная, зачем они это делают.
Большие квадратные магниты установки, окруженные серебряной обмоткой, были заключены в сваренные из стали кожухи. Внутри кожухов циркулировало машинное масло, которое должно было обеспечить изоляцию обмоток и отвод тепла. В первых магнитах, испытанных в конце октября, обнаружились утечки электричества. Если влага, содержащаяся в масле, вызывала короткие замыкания обмоток, то в нормальном рабочем режиме эту проблему должно было устранить испарение воды за счет нагревания катушек. Компания Tennessee Eastman продолжила работу. В камерах установки возникали многочисленные и труднообнаружимые утечки вакуума – один из бригадиров вспоминает, что искал одну течь большую часть месяца[2121]. Неопытным операторам было трудно получать и поддерживать стабильный ионный пучок. Как вспоминает Гровс, мощные магниты неожиданно «сдвигали с места расположенные между ними камеры, каждая из которых весила около четырнадцати тонн, на расстояние до семи с половиной сантиметров… Эту проблему устранили, надежно приварив камеры тяжелыми стальными скобами. После этого камеры оставались там, где нужно»[2122].
Магниты высыхали, но короткие замыкания не исчезали. В системе была какая-то серьезная неисправность. В начале декабря компания Tennessee Eastman остановила 96-камерную установку. Инженерам компании пришлось открыть одну из обмоток и исследовать ее. Задержка была серьезной: оборудование пришлось вернуть для повторной сборки на завод Allis-Chalmers.
При осмотре обнаружилась настоящая катастрофа – две крупные проблемы. «Первая была заложена в конструкцию, – пишет Гровс, – по которой тяжелые серебряные токовые шины были расположены слишком близко друг к другу. Вторая проблема заключалась в чрезмерном количестве ржавчины и других загрязнений в циркулирующем масле. Эти частицы перекрывали слишком узкие зазоры между серебряными шинами, что и вызывало короткие замыкания»[2123]. 15 декабря кипящий от ярости Гровс приехал из Вашингтона, чтобы лично осмотреть остатки установки. Из-за недостатков конструкции генералу пришлось распорядиться вернуть все сорок восемь магнитов в Милуоки для чистки и повторной сборки. Вторая установка «Альфа» не могла быть введена в строй раньше середины января 1944 года. Был потерян целый месяц производства.
4800 сотрудников Tennessee Eastman исправно являлись на работу в мрачные, приведенные в полный беспорядок цеха. Чтобы хоть чем-то их занять, компания организовывала для них учебные курсы, конференции, лекции, киносеансы и игры. Серьезные мужчины в двубортных костюмах собирали по всему штату наборы шахмат и шашек. В конце 1943 года работа комплекса Y-12, созданного ценой гигантских расходов, застопорилась, не дав почти ни грамма 235U.
Исследования газовой диффузии продолжались в Колумбийском университете с ноября 1941 года, когда Джон Даннинг и Юджин Бут впервые продемонстрировали выделение измеримого количества 235U. К весне 1942 года Гарольд Юри мог отметить в отчете о ходе работ, что «три метода разделения изотопов урана уже вышли на этап инженерного проектирования. Речь идет об английском и американском диффузионных методах и методе центрифугирования»[2124]. В начале 1943 года группа Даннинга, в которой было тогда около 90 человек, получила разрешение на строительство полномасштабной устанвки, и ее численность возросла до 225[2125]. Метод диффузии Франца Симона работал при низком давлении газа с использованием последовательных десятимодульных ступеней, но требовал чрезвычайно больших насосов; в Колумбийском университете разработали систему высокого давления на более стандартных насосах – непрерывный каскад приблизительно из четырех тысяч взаимосвязанных ступеней. В послевоенных воспоминаниях Гровса описывается эта конструкция, простая и надежная и в то же время дорогостоящая и трудоемкая:
Метод этот был совершенно новым. Он был основан на том теоретическом предположении, что при прокачке уранового газа через пористый барьер более легкие молекулы газа, содержащие 235U, должны проходить через него быстрее, чем более тяжелые молекулы с 238U. Поэтому центральным элементом процесса был барьер, тонкий пористый металлический лист или мембрана с миллионами ультрамикроскопических отверстий на квадратный дюйм. Эти листы сворачивали в трубки, которые были заключены в герметичной емкости, рассеивателе. При пропускании газа, гексафторида урана, через длинную последовательность, или каскад, таких трубок происходило его разделение: обогащенный газ поднимался вверх по каскаду, а обедненный опускался вниз. Однако массы гексафторида 238U и 235U отличаются настолько мало, что получить высокий уровень разделения за одну операцию диффузии было невозможно. Поэтому необходимо было использовать несколько тысяч последовательных ступеней[2126].
Схема такой ступени в разрезе выглядела так:
«Необходимо дальнейшее усовершенствование барьеров, – писал Юри в заключение своего отчета о ходе работ, – но теперь мы уверены, что эта задача может быть решена»[2127]. Однако она еще не была решена, когда Гровс запланировал создание установки газовой диффузии для Манхэттенского проекта стоимостью 100 миллионов долларов; пригодного к использованию барьера еще не было. Американский метод требовал более тонкопористого материала, чем британский; при этом материал этот должен был быть достаточно устойчивым, чтобы выдерживать высокое давление плотного и едкого газа.
В Колумбийском университете экспериментировали с барьерами из меди, но потом, в 1942 году, перешли от нее к никелю, единственному распространенному металлу, устойчивому к коррозионному воздействию гексафторида. Барьеры из спрессованного никелевого порошка получались достаточно прочными, но недостаточно тонкопористыми; сетка, изготовленная методом гальванического осаждения никеля, была достаточно тонкопористой, но недостаточно прочной. Гальванически осажденную сетку разработал англо-американский оформитель-самоучка Эдвард Норрис: исходно она предназначалась для изобретенного им краскопульта нового типа. В 1941 году он присоединился к проекту Колумбийского университета и вместе с химиком Эдвардом Адлером, молодым учеником Юри, приспособил свое изобретение к газовой диффузии. В январе 1943 года казалось, что созданный ими барьер Норриса – Адлера в никелевом варианте можно довести до уровня, пригодного для промышленного применения; тогда в подвале Шермерхорнской лаборатории Колумбийского университета начали сборку пилотной установки, а Гровс дал добро на полномасштабное производство барьеров. 1 апреля, в тот же день, когда в Ок-Ридже начали закрывать ворота, заказ на их производство приняла корпорация Houdaille-Hershey, собиравшаяся построить для этой цели новый завод в Декейтере, штат Иллинойс.
Подходящий материал для барьеров был главной, но не единственной проблемой исследований Колумбийского университета и инженерных разработок Гровса. Гексафторид агрессивно разъедает органические материалы: нельзя было допустить, чтобы на протяжении многих километров труб, насосов и барьеров в газ попала даже одна крупинка жира. Поэтому прокладки насосов необходимо было сделать одновременно непроницаемыми для газов и не использующими смазки; эта задача, которую до тех пор никто никогда не решал, требовала разработки новых типов пластмасс. Материал, из которого в конце концов были изготовлены прокладки, использовавшиеся в Ок-Ридже, получил после войны широкое распространение под фирменным названием тефлона. Одной-единственной, малейшей течи в любой точке многокилометровой системы труб было бы достаточно, чтобы вывести из строя всю установку; Альфред О. Нир разработал портативные масс-спектрометры, которые можно было использовать в качестве высокочувствительных течеискателей. Поскольку на никелевые трубы ушли бы все запасы этого ценного металла, производимого в США, Гровс нашел компанию, готовую обеспечить никелирование внутренней поверхности труб. Для этого использовался сложный новаторский технологический процесс: трубы заполняли электролитом и вращали, пока электрический ток производил осаждение никеля.
Установка, состоящая из нескольких тысяч диффузионных баков, объем самых крупных из которых достигал 3785 литров, не могла не быть громадной: это было четырехэтажной высоты сооружение U-образной формы, почти 800 метров в длину и 320 – в ширину. Площадь крытых помещений составляла более 170 тысяч квадратных метров, более чем в два раза больше, чем суммарная площадь участков всех корпусов «Альфа» и «Бета» комплекса Y-12. Комплекс газовой диффузии, получивший обозначение К-25, не мог поместиться в узкой долине между двумя грядами холмов. Компании Kellex и Union Carbide, взявшие подряд на его строительство и эксплуатацию, нашли сравнительно ровную площадку у реки Клинч, в юго-западном конце территории. Первые геодезические съемки для угольной электростанции, необходимой для установки, начались 31 мая 1943 года.
Вместо проектирования и установки тысяч разных свай для поддержки конструкции строители разровняли и уплотнили весь участок фундамента К-25, для чего им пришлось вскопать, высушить и переместить почти 100 000 кубометров красной глины. Эта работа заняла несколько месяцев; первый бетон – 200 000 кубометров – был залит только 21 октября. К этому времени неудачи в разработке материала, подходящего для изготовления барьеров, привели Гровса к решению отказаться от верхних ступеней еще не построенной установки и ограничить уровень обогащения в ней менее чем до 50 % 235U – при использовании полного набора диффузионных ступеней установка смогла бы обеспечивать переработку природного урана в чистый 235U. Частично обогащенный материал предполагалось затем очищать на калютронах «Бета» комплекса Y-12.
Осенью 1943 года компании Kellex удалось разработать перспективный новый материал для барьеров, который объединял в себе лучшие свойства барьеров Норриса – Адлера и барьеров из прессованного порошкового никеля. Тут стало непонятно, что делать со строившимся в Декейтере заводе Houdaille-Hershey, который должен был производить барьеры Норриса – Адлера. Следует ли его разобрать и переоборудовать для производства новых барьеров ценой некоторой задержки начала работы К-25? Или же поручить всем группам разработки барьеров предпринять последнее объединенное усилие по повышению качества барьеров Норриса – Адлера до пригодного для производства уровня? Гровс и Гарольд Юри яростно спорили по этим вопросам.
Компания Kellex хотела переоборудовать завод Houdaille-Hershey, считая, что лучше задержать начало производства, чем рисковать его полным провалом. Юри считал, что отказ от барьера Норриса – Адлера будет означать, что производство 235U методом газовой диффузии не успеет приблизить окончание войны. В этом случае он не видел смысла продолжать строительство К-25; его высокий приоритет, утверждал он, даже помешал бы другому военному производству, более полезному в близкой перспективе.
Гровс решил передать этот спор на рассмотрение весьма необычной комиссии – специалистов, работавших в области газовой диффузии в Англии. Этой осенью, с возобновлением связей между британской и американской атомными программами, британцы организовали отправку на работу в Америку своих представителей. В эту группу, которую возглавлял Уоллес Акерс из ICI, входили Франц Симон и Рудольф Пайерлс. 22 декабря они встретились с обеими сторонами – представителями Kellex и Колумбийского университета – и взялись за изучение достижений американцев.
Следующее совещание состоялось в начале января 1944 года. Новый барьер, заключили британцы, вероятно, будет лучше, чем барьер Норриса – Адлера, но наличие многомесячных исследований последнего можно считать решающим аргументом в его пользу, если производство важно начать быстро. Новый барьер до этого момента делали только вручную, малыми партиями, а для заполнения им запланированных 2892 ступеней каскада диффузионной установки К-25 его требовались целые гектары[2128].
Тогда компания Kellex пошла на хитрость: она предложила изготавливать новый барьер вручную, поштучно: задействовать несколько тысяч рабочих, каждый из которых будет повторять разработанную в Kellex простую лабораторную процедуру. Компания утверждала, что, работая таким образом, она сможет даже опередить график производства барьеров Норриса – Адлера. Когда британцы оправились от изумления перед столь новаторским предложением, они дали понять, что предпочитают новый барьер, и согласились, что, если его производство возможно, его и следует выбрать. Их одобрение захлопнуло западню; заручившись неявной поддержкой британцев, американские инженеры уточнили, что производство нового барьера будет возможно, только если забрать все оборудование с завода Houdaille-Hershey и полностью отказаться от производства барьеров Норриса – Адлера.
Как бы то ни было, Гровс принял решение о переходе на новый барьер еще за день до январского совещания; вердикт британцев лишь подкрепил его решение. То, что он предпочел не отказаться от газовой диффузии, а сменить тип барьера, было подтверждением факта, которого многие из ученых, работавших в Манхэттенском проекте, еще не осознали: что стремление Соединенных Штатов разработать ядерное оружие вышло за пределы казавшейся насущной, но узкой цели получения бомбы раньше, чем она появится у Германии. Строительство установки газовой диффузии, которое должно было помешать производству обычных вооружений и обойтись в конечном счете в полмиллиарда долларов, но почти несомненно не могло внести существенного вклада в приближение конца войны, означало, что ядерное оружие отныне следует считать постоянным дополнением к арсеналу США. Юри осознал это обстоятельство и отошел от этой работы; «начиная с этого момента, – пишут коллеги в его биографии, – он направлял свои усилия только на контроль атомной энергии, а не на ее приложения»[2129].
Через двенадцать дней после того, как Энрико Ферми получил 2 декабря 1942 года в Чикаго первую цепную реакцию, Гровс составил список критериев площадки для производства плутония и окончательно и бесповоротно исключил возможность ее создания в Теннесси. «Клинтонская площадка… находилась недалеко от Ноксвилла, – поясняет он, – и, хотя мне казалось, что вероятность возникновения серьезной опасности невелика, мы не могли быть абсолютно уверены в этом. Никто не знал, что именно может случиться – и может ли случиться что-нибудь – при попытке запустить цепную реакцию в большом реакторе. Если бы реактор по каким-либо неизвестным и непредвиденным причинам взорвался и выбросил в атмосферу огромное количество высокорадиоактивных веществ, а ветер дул в это время в направлении Ноксвилла, число погибших и пострадавших в этом районе было бы катастрофическим». Такая авария могла бы «уничтожить всякое подобие безопасности проекта», предполагал Гровс; кроме того, она могла бы «вывести из строя»[2130] установки электромагнитного и диффузионного разделения изотопов. Лучше было разместить производство плутония где-нибудь подальше.
Производственным реакторам требовались мощные источники электроэнергии и воды для нагнетания и охлаждения гелия, который предполагалось использовать для их охлаждения. По соображениям безопасности им требовалось много свободного места. Этим критериям удовлетворяли большие речные системы Дальнего Запада, в частности бассейн реки Колумбии. Гровс отправил на разведку офицера, который должен был руководить плутониевым комплексом, вместе с гражданским инженером компании Du Pont, ответственным за строительные работы. Он хотел, чтобы эти двое не только выбрали место, но и привыкли к работе друг с другом. Так и вышло: им обоим понравилась выглядевшая перспективной площадка на юге центральной части штата Вашингтон, и накануне Нового года они вернулись в кабинет к Гровсу со своим отчетом. 21 января 1943 года генерал получил оценку стоимости земельного участка[2131]. К этому времени он уже побывал на нем лично.
К востоку от Каскадных гор, в 30 километрах по прямой к востоку от города Якимы, синяя, холодная, быстрая река Колумбия поворачивает на восток, затем на северо-восток, потом резко изгибается на 90° на юго-восток и, наконец, устремляется на юг через засушливую, поросшую кустарником равнину. Завершив это последнее отклонение вглубь континента, после города Паско река описывает широкую дугу и дальше, на протяжении 400 километров, остающихся до океана, течет прямо на запад. Даже на таком расстоянии от моря река остается широкой и глубокой, и в сезон в ней бывает множество лосося, но окружающая ее песчаная равнина получает от нее мало воды, а из-за барьера Каскадных гор в этих местах выпадает не более 152 миллиметров осадков в год.
Участок, который обнаружили представители Гровса, а сам Гровс выкупил в конце января приблизительно за 5,1 миллиона долларов, находился внутри восточного изгиба Колумбии. Его площадь составляла около 200 000 гектаров (2000 квадратных километров); эта земля использовалась в основном под овечьи пастбища, но на ней изредка встречались орошаемые сады и виноградники, а также несколько ферм, процветавших во время войны благодаря орошаемым полям, на которых выращивали перечную мяту. Лето в этих местах бывало долгим и сухим, с максимальной температурой +46 °C; редко случающаяся минимальная зимняя температура достигала –33 °C. На приблизительно круглом пятидесятикилометровом участке было мало дорог. В одном конце его пересекала железнодорожная линия компании Union Pacific; через северо-западный сектор проходила сдвоенная линия электропередачи напряжением 230 киловольт, соединяющая плотину Гранд-Кули с плотиной Бонневилль. В нескольких милях к юго-западу от 90-градусного поворота реки над осадочной равниной возвышалась на 150 метров одинокая базальтовая гора Гейбл, разделяющая приречную территорию излучины изнутри. В середине участка, рядом с паромной переправой через Колумбию, находился полузаброшенный прибрежный поселок с населением около сотни человек. Его постройки стали первыми зданиями комплекса, который назвали по его имени Хэнфордским инженерным предприятием[2132].
Гровс не мог строить Хэнфорд, не имея более точной информации о том предприятии, которое там будет размещено. Было ясно, что потребуется огромное количество бетона для изоляции производственных реакторов и установок химической переработки; отправленный в Хэнфорд инженер искал пригодные к разработке залежи гравия и щебня. В случае аварии в воздух могли быть выпущены радиоактивные материалы; в связи с этим необходимо было провести тщательное метеорологическое исследование площадки. Требовалось проанализировать речную воду; также необходимо было изучить и водящегося в ней ценного лосося, чтобы установить, как повлияют на рыбу слабые дозы радиации, которые будут возникать временно в реке из-за стоков реакторов. Нужно было построить дороги, подключиться к источникам электроэнергии, построить бараки для десятков тысяч строителей.
В начале 1943 года возобновилось обсуждение вопроса о методах охлаждения производящих плутоний ядерных котлов – к этому времени инженеры компании Du Pont начали называть их реакторами. Руководитель производства плутония в этой компании Кроуфорд Гринуолт по-прежнему планировал использовать гелиевое охлаждение, так как этот благородный газ не имеет вообще никакого сечения поглощения нейтронов. Но его нужно было прокачивать через реакторы под высоким давлением; для этого требовались большие и мощные компрессоры, и Гринуолт совершенно не был уверен, что их удастся построить вовремя. Для хранения газа нужны были огромные стальные резервуары, которые обеспечивали бы подачу в реакторы, не теряя при этом герметичности. Их создание было сложной задачей не только для конструкторов, но и для сварщиков.
На помощь проекту пришел Юджин Вигнер. Ферми обнаружил в реакторе СР-1 более высокое, чем он ожидал, значение k. Реактор на стадионе Стэгг-Филд был собран в основном из оксида урана. Графит, который в нем использовали, был разного качества, причем оно повышалось по ходу работы. Производственный реактор из чистого металлического урана и высококачественного графита должен был дать еще более высокое значение k – достаточно высокое, как рассчитал Вигнер, чтобы в нем можно было использовать водяное охлаждение.
Группа Вигнера спроектировала реактор в форме лежащего на боку графитового цилиндра размерами 8,5 на 11 метров[2133], через который проходили в продольном направлении более тысячи алюминиевых трубок. Эти трубки заполняются урановыми стержнями размером со стопку монет по четверть доллара, суммарная масса которых составляла 200 тонн. Цепная реакция урана, окруженного 1200 тоннами графита, вырабатывает 250 000 киловатт тепла. Охлаждающая вода, протекающая под давлением через алюминиевые трубки вокруг урановых стержней со скоростью 284 000 литров в минуту, рассеивает это тепло. Стержни не находятся в потоке неприкрытыми; по замыслу Вигнера каждый из них должен был быть заключен в отдельную алюминиевую оболочку. По истечении достаточно долгого – стодневного – периода работы, за который приблизительно один атом из каждых 4000 превращается в плутоний[2134], облученные стержни можно вытолкнуть через заднюю сторону реактора, просто загрузив с его передней стороны новую партию стержней. Горячие стержни падают в глубокий резервуар с чистой водой, которая надежно удерживает в себе интенсивное, но короткоживущее излучение продуктов распада. Через 60 суток их можно вынуть из воды и отправить на химическую обработку.
Конструкция Вигнера отличалась изящной простотой. У Гринуолта оставались вопросы инженерного плана – в частности, было неясно, не закупорит ли коррозия алюминиевых труб каналы, в которых течет охлаждающая вода, – и до середины февраля он допускал возможность использования и водяной, и гелиевой систем. Исследования коррозии дали многообещающие результаты. «Данные показывали, что при высокой чистоте воды, – пишет Артур Комптон, – в этой области не должно возникнуть серьезных трудностей»[2135]. Гринуолт выбрал водяное охлаждение. Вигнер, бывший, по словам Лео Сциларда, «совестью Проекта с самого начала до самого конца»[2136], постоянно тревожился о развитии германской программы и сердито спрашивал, почему компании Du Pont понадобилось целых три месяца на то, чтобы осознать ценность системы, которую он и его группа признали наилучшей еще летом 1942 года.
После принятия этого основополагающего решения в Хэнфорде можно было начинать строительство. Три производственных реактора должны были расположиться вдоль реки Колумбии с интервалами в десять километров, два выше и один ниже по течению от 90-градусного поворота реки. В 16 километрах к югу, на участке, прикрытом горой Гейбл, компания Du Pont должна была построить четыре установки химического выделения плутония, распределенные парами по двум площадкам. Бывший городок Хэнфорд становился центральным лагерем строителей, работавших на всех пяти стройплощадках.
Работа шла медленно, с постоянными задержками и затруднениями. Во время войны страна достигла полной занятости и перешла в состояние острой нехватки рабочей силы, и найти людей, готовых жить в походных условиях, посреди забытой богом пустоши вдалеке от крупных городов, было непросто. Бичом этой местности были частые пыльные бури, пишет Леона Вудс, которая вышла к тому времени замуж за Джона Маршалла, коллегу-физика из группы Ферми, и стала Леоной Маршалл. «Местные бури, возникавшие из-за того, что при прокладке дорог снимался верхний слой пустынного грунта, душили стройплощадки. Песок, принесенный ветром, покрывал лица, волосы и руки, забивался в глаза и в рот… После каждой такой бури число уволившихся вырастало, может быть, вдвое против среднего. Во время особо сильных бурь автобусы и другой транспорт останавливались до тех пор, пока сквозь серо-черные облака пыли можно было снова разглядеть дорогу»[2137]. Те стоики, которые все же оставались на объекте, называли пыль «убийственным порошком».
«Важнее всего привезти с собой висячий замок, – зловеще предупреждала брошюра, рекламирующая работу в этом проекте. – Также важно иметь полотенца, вешалки для одежды и термос. Не берите с собой фотоаппаратов и огнестрельного оружия»[2138]. Хэнфорд, говорит Маршалл, «был городом суровым. После работы не было никаких развлечений, кроме драк, так что наутро в мусорных баках иногда находили трупы»[2139]. Компания Du Pont построила несколько салунов с окнами на специальных шарнирах – чтобы было удобнее забрасывать внутрь гранаты со слезоточивым газом. В конечном счете в пыли пустыни трудились приблизительно 5000 строителей, для размещения которых компания Du Pont возвела более 200 бараков. Ограничения на выдачу мяса на территории комплекса не действовали; в огромных столовых Хэнфорда не было никаких «постных вторников», что сильно помогало вербовке рабочих. В свою очередь, водящиеся в этих местах серые койоты отъелись на кроликах, убитых легковыми машинами и грузовиками на дорогах нового комплекса.
К августу 1943 года начались работы по строительству водоочистных станций для трех реакторов. Их мощности хватило бы на снабжение города с миллионным населением. 4 октября компания Du Pont утвердила в Уилмингтоне, штат Делавэр, сборочные чертежи реактора, а 10 октября ее инженеры разметили у реки Колумбии фундамент первого реактора, 100-В. Когда котлован был вырыт, сообщает официальная хроника работ, «строительные бригады начали укладку 390 тонн конструкционной стали, 13 300 кубометров бетона, 50 000 бетонных блоков и 71 000 бетонных кирпичей, из которых состояли здания реакторов. Начав с фундамента реактора и расположенных за ним глубоких водяных резервуаров для сбора облученных элементов после вывода из реактора, уже к концу года строители значительно превысили нулевой уровень»[2140]. Однако тот двенадцатиметровый[2141], лишенный окон бетонный монолит, который они возводили, был пустым: установка реактора В началась только в феврале 1944 года.
«Переход от чикагского реактора к хэнфордскому был существенным изменением масштаба, – отмечает Лаура Ферми. – Как сказал бы Ферми, это были разные звери»[2142]. То же можно было сказать и о чудовищных размерах масс-спектрометров Эрнеста Лоуренса и установки газовой диффузии Джона Даннинга с ее 5 миллионами барьерных трубок. Гигантские масштабы предприятий в Клинтоне и Хэнфорде дают понять, насколько отчаянно Соединенные Штаты стремились защитить себя от самой серьезной в истории потенциальной угрозы своему суверенитету – хотя эта угроза, угроза германской атомной бомбы, оказалась на поверку лишь отражением в затемненном зеркале. В 1939 году Нильс Бор утверждал, что отделение 235U от 238U невозможно без превращения всей страны в огромную фабрику. «Несколько лет спустя, – пишет Эдвард Теллер, – когда Бор приехал в Лос-Аламос, я собирался сказать ему: “Вот видите…” Но не успел я раскрыть рот, как он сказал: “Вот видите, я же вам говорил, что этого нельзя добиться, не превратив всю страну в фабрику. Именно это вы и сделали”»[2143].
Эти гигантские масштабы демонстрируют и другое отчаянное стремление: то честолюбие, с которым Америка спешила заполучить эту добычу. А также не допустить до нее никого другого, даже британцев, – до тех пор, пока в августе 1944 года Уинстон Черчилль не переубедил Франклина Рузвельта на квебекской конференции, на которой были разработаны планы операции «Оверлорд», вторжения в Европу через пляжи Нормандии, намеченного на 1944 год. Перед этим, в июне, Гровс продемонстрировал это последнее стремление во всем его высокомерии: он сообщил Комитету по военной политике, что, по его мнению, Соединенным Штатам следует попытаться взять все известные мировые запасы урановой руды под свой полный контроль. Когда компания Union Minire отказалась заново открыть свой затопленный ранее рудник Шинколобве в Бельгийском Конго, Гровсу пришлось искать помощи у британцев, которым принадлежала большая миноритарная доля финансов бельгийской фирмы. После Квебека это сотрудничество приняло форму заключенного между двумя странами соглашения о поисках мировых запасов, известного под названием Треста объединенных разработок (Combined Development Trust). Гровс не мог знать, что уран распространен в земной коре и его запасы исчисляются миллионами тонн. В 1943 году, когда считалось, что в полезных концентрациях этот элемент встречается редко, генерал, действуя в интересах страны, которой он был абсолютно предан, делал все возможное, чтобы она получила в свое исключительное пользование весь уран до последнего фунта. С тем же успехом он мог пытаться прибрать к рукам океан.
В СССР работа над атомной бомбой началась в 1939 году. Именно тогда тридцатишестилетний физик-ядерщик Игорь Курчатов, ставший руководителем крупной лаборатории, когда ему не было еще и тридцати, сообщил своему правительству о возможном военном значении ядерного деления. Курчатов предполагал, что в нацистской Германии уже могут идти исследования деления. В 1940 году, когда имена выдающихся американских физиков, химиков, металлургов и математиков исчезли из международных журналов, советские физики поняли, что такая программа может существовать и в Соединенных Штатах: секрет выдавала сама секретность[2144].
Едва начатое дело временно закончилось в июне 1941 года, с германским вторжением в СССР. «Наступление врага заставило всех посвятить все свои мысли и действия одному делу, – пишет академик Игорь Головин, коллега и биограф Курчатова, – остановке вторжения. Лаборатории опустели. Оборудование, приборы и книги были упакованы, ценные данные отправляли на восток, где они должны были быть в безопасности»[2145]. Война сделала более приоритетными другие исследовательские задачи. На первое место вышла разработка радаров, на второе – обнаружение морских мин; атомные бомбы стали задачей третьестепенной. Курчатов перебрался на 650 километров к востоку от Москвы, за Горький, в Казань, и занялся разработкой средств противоминной защиты кораблей.
В конце 1941 года с Курчатовым, бывшим в Казани, связался Георгий Флеров, один из двух молодых физиков из его московской лаборатории, открывших в 1940 году спонтанное деление урана и сообщивших о своем открытии телеграммой в Physical Review[2146]. В октябре Флеров был в Москве на международном научном совещании и слышал, как Петр Капица, ученик Резерфорда, которого спросили, чем ученые могут помочь обороне страны, ответил, в частности, следующее:
В последние годы была открыта новая возможность – ядерная энергия. Теоретические расчеты показывают, что если современная бомба может разрушить, например, целый городской квартал, то атомная бомба, даже небольшого размера, если ее удастся создать, легко сможет разрушить большой столичный город с населением несколько миллионов человек[2147].
Получив такое напоминание о своих предыдущих работах, Флеров призвал Курчатова – как он уже призывал в сходном письме Государственный Комитет Обороны – «не теряя времени, приступить к созданию урановой бомбы»[2148]. Прежде всего, писал он, следовало заняться исследованиями быстрых нейтронов. Это происходило в тот момент, когда в Соединенных Штатах отчет комитета MAUD только что указал на необходимость таких исследований.
Курчатов был против. Исследования, направленные на создание уранового оружия, казались слишком далекими от насущных военных задач. Тем временем, однако, советское правительство созвало экспертный совет, в который вошли Капица и учитель Курчатова, маститый академик Абрам Иоффе. Комитет поддержал идею разработки атомной бомбы и рекомендовал Курчатова на пост руководителя этой программы. Он принял это назначение, хотя и с некоторой неохотой.
«Таким образом, в начале 1943 года, – пишет его коллега А. П. Александров, – работа над этой непростой задачей возобновилась в Москве под руководством Игоря Курчатова. Физиков-ядерщиков отзывали с фронта, с промышленных предприятий, из научно-исследовательских институтов, эвакуированных в тыл. Во многих местах начались вспомогательные работы»[2149]. В число вспомогательных работ входило строительство циклотрона. Летом 1943 года Курчатов перебазировал свой институт из советской столицы на заброшенную ферму у Москвы-реки. Расположенный рядом с ней артиллерийский полигон можно было использовать для испытаний с использованием взрывчатых веществ; «Лаборатория № 2» должна была стать советским Лос-Аламосом. К январю 1944 года Курчатов собрал под своим началом всего лишь около двадцати ученых и тридцати работников вспомогательных служб. «Тем не менее, – пишет Герберт Йорк, – они ставили эксперименты и выполняли теоретические расчеты, связанные с реакциями, используемыми как в ядерном оружии, так и в ядерных реакторах, они начали работу, которая должна была обеспечить производство урана и графита достаточной чистоты, и изучали возможные варианты разделения изотопов урана»[2150]. Но пробуждение советского медведя еще не было полным.
«Любой работодатель уволил бы такого человека за смутьянство». Так Лесли Гровс описывал Лео Сциларда в не предназначенном для печати послевоенном интервью – как будто это генерал первым пришел к идее разработки ядерного деления, а Сцилард был всего лишь наемным работником. Судя по всему, причиной дерзости Сциларда Гровс считал его еврейское происхождение[2151]. Сцилард показался ему опасным почти сразу же после того, как Гровс был назначен в Манхэттенский проект. С тех пор между ними постоянно возникали глубокие разногласия.
Камнем преткновения была информационная изоляция. Вот как описывает подоплеку этого конфликта автор истории ученых-атомщиков Элис Кимбалл Смит, муж которой Сирил был в Лос-Аламосе заместителем директора Металлургического отдела:
Если бы для развития Проекта требовались только идеи, говорит Вигнер, в нем могло не быть никого, кроме Сциларда. Более уравновешенным ученым-коллегам Сциларда было трудно приспособиться к его непредсказуемым переходам от одного решения к другому; он приводил в ужас своих военных сотрудников и, хуже того, безбоязненно предавался своему, по его же словам, любимому занятию – дразнению начальства. В частности, генерала Гровса приводило в ярость откровенное высказывавшееся Сцилардом мнение, что на установленные военными правила информационной изоляции, запрещавшие обсуждение направлений исследований, не имевших непосредственного отношения друг к другу, не следует обращать внимания, если это в интересах создания бомбы[2152].
Важнеевсего для Сциларда было то, что открытость информации внутри проекта способствует успеху его работы. «Невозможно предсказать заранее, – писал он в рамках обсуждения этого вопроса в 1944 году, – кто именно сможет открыть или изобрести новый метод, который вытеснит из употребления старые»[2153]. Для Гровса же, наоборот, важнее всего была безопасность.
Сначала Сцилард нарушал правила, а Гровс угрожал ему. В конце октября 1942 года, когда Ферми подходил к созданию реактора СР-1, Сцилард, по-видимому, докучал своими придирками инженерам компании Du Pont, приехавшим в Чикаго, чтобы взять на себя проектирование реактора. Артур Комптон полагал, что его действия мешают работе, но не считал их безусловно подрывными; 26 октября он писал Гровсу в телеграмме, что дал Сциларду два дня на «перенос работы в нью-йорк. мера вызвана соображениями эффективности работы организации, а не сомнениями в надежности. ожидаю вероятной отставки». Комптон не понимал, с кем имеет дело. Сцилард ни за что не подал бы в отставку по той простой причине, что считал свою помощь необходимой для создания бомбы с опережением Германии. Комптон предложил установить за ним наблюдение: «рекомендую армии следить за его действиями, но пока не принимать жестких мер»[2154]. Два дня спустя Комптон поспешно отправил Гровсу еще одну телеграмму, отменяющую предыдущие инструкции: «ситуация со сцилардом стабилизирована. он остается в чикаго без доступа к инженерам. рекомендую вам не принимать никаких мер без дальнейших консультаций со мной и конантом»[2155].
Тем временем Гровс уже подготовил действительно жесткие меры. Он написал на бланке Управления командующего инженерными войсками, предназначенном на подпись министру обороны, письмо, адресованное генеральному прокурору США, в котором Сцилард назывался «враждебным иностранцем», которого следует «интернировать вплоть до окончания войны»[2156]. Телеграмма Комптона предотвратила его арест: письмо так и не было ни подписано, ни отослано.
Однако этот инцидент поставил под вопрос лояльность Сциларда и внушил Гровсу непреодолимую неприязнь к нему. Ответные действия Сциларда были решительными; он собрал большой набор документов 1939–1940 годов, демонстрирующих его роль в донесении информации о ядерном делении до Франклина Рузвельта и в особенности его усилия по убеждению физиков Соединенных Штатов, Британии и Франции в необходимости добровольного соблюдения секретности. В середине ноября Комптон нерешительно переслал эти документы Гровсу[2157], тем самым неявно встав на сторону Сциларда. Таким образом, первое столкновение между Гровсом и Сцилардом закончилось патом. Сцилард увидел, какой большой властью обладает Гровс. Гровс узнал, как давно и тесно Сцилард связан с развитием исследований атомной энергии, и, возможно, понял, что люди, которых он считал жизненно важными участниками проекта, – Ферми, Теллер, Вигнер – являются давними коллегами Сциларда, мнение которых также придется учитывать.
Затем Сцилард начал осторожную кампанию, похожую на тактику политических диссидентов в Советском Союзе, – он пытался добиться перемен, скрупулезно настаивая на соблюдении своих юридических прав. Первый залп этого сражения он дал 4 декабря, через два дня после того, как Ферми успешно продемонстрировал цепную реакцию. Он отправил Артуру Комптону выдержанную в спокойном тоне памятную записку, в которой сообщал, что чиновник, ответственный за работу с патентами НКОИ, затребовал патентные заявки «по изобретениям, связанным с цепной реакцией». В связи с этим, писал Сцилард, возникает вопрос о том, что делать с изобретениями, «созданными и зарегистрированными до того, как мы смогли воспользоваться финансовой поддержкой государства». Они с Ферми будут рады подать совместную заявку, но только если им будет гарантировано сохранение их прав на предыдущие, созданные по отдельности, изобретения. Записка продолжалась в этом простодушном стиле вплоть до последнего абзаца, в котором и содержался настоящий вызов:
Моя нынешняя просьба явно свидетельствует об изменении [моего] отношения к патентам на связанные с ураном разработки, и я буду признателен за предоставление мне возможности объяснить причины, вызвавшие такое изменение, Вам, а также государственным службам, имеющим отношение к этому вопросу[2158].
Раньше Сцилард считал, что ему будет предоставлен равный с другими голос по вопросам развития технологий деления. Поскольку теперь он оказался в информационной изоляции, его свобода слова была ограничена, а его лояльность была поставлена под вопрос, он был готов использовать единственное имевшееся у него средство давления – юридические права на свои изобретения.
Комптон переслал просьбу Сциларда Лайману Бриггсу[2159], в обязанности которого в УНИР входили и патентные дела; Бриггс решил, что этим вопросом должна заняться армия. Сцилард подождал до конца декабря и, не получив никаких известий, сделал следующий шаг. Во второй записке он сообщал Комптону, что хочет подать заявку на «базовые изобретения, на которых основана наша работа по цепным реакциям в неразделенном уране… созданные до начала государственной поддержки этих исследований». Этот патент мог быть зарегистрирован только на его имя или совместно с Ферми; он выражал готовность «в любой момент передать патент государству за такое финансовое вознаграждение, которое будет признано справедливым и соразмерным». Никакие конкретные суммы в этой записке не упоминаются; по данным дел армейской службы безопасности, Сцилард запросил 750 000 долларов[2160]. Но дело было не в вознаграждении, а в представительстве:
Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы напомнить, что вопрос о патентах обсуждался заинтересованными лицами в 1939 и 1940 годах. В то время ученые предложили создать государственную корпорацию, которая следила бы за новыми разработками в этой области… и приобретала бы соответствующие патенты. Предполагалось, что ученые получат в этой государственной корпорации должное представительство…
В отсутствие такой государственной корпорации, в которой ученые могли бы влиять на использование фондов, я не могу предложить передать государству патенты, охватывающие основополагающие изобретения, без соразмерного вознаграждения[2161].
В то время как компания Du Pont забирала под свой контроль производство плутония, а армия вела беспрецедентные строительные работы, перемещая сотни тысяч кубометров земли, Лео Сцилард, скованный режимом безопасности Манхэттенского проекта, в одиночку пытался освободить процесс принятия решений от ограничений, наложенных на него государством, и вернуть его в руки ученых-атомщиков.
Комптон сознавал масштабы проблемы. Он переслал обе записки Сциларда непосредственно Конанту, секретариат которого получил их 11 января 1943 года. «Случай Сциларда, вероятно, уникален, – писал Комптон председателю НКОИ, – тем, что он в течение нескольких лет в первую очередь занимался развитием этого проекта… Он, вне всяких сомнений, принадлежит к числу тех немногих, среди кого правительство Соединенных Штатов может найти обладателей основных прав на изобретение. Таким образом, этот вопрос имеет большое значение для нашего правительства»[2162].
Еще до того, как из Вашингтона успели ответить, Сциларду пришлось отражать одну неприятную атаку с фланга. Она только укрепила его решимость. Он выяснил, что французский патент, первоначально зарегистрированный группой Фредерика Жолио, был опубликован в Австралии и они с Ферми пропустили сроки опротестования. Некоторые из пунктов их изобретения пересекались с французским патентом. «Это, я боюсь, невосстановимая потеря», – сказал он Комптону. Теперь, по его словам, он начал записывать свои изобретения и надеялся в ближайшем будущем зарегистрировать несколько патентов. До этого он хотел бы перестать официально числиться сотрудником Чикагского университета во избежание юридических осложнений. Он по-прежнему будет продолжать свою работу в качестве добровольца, не получающего зарплаты: «В мои намерения не входит прерывать или замедлять ту работу, которой я занимаюсь сейчас в лаборатории»[2163].
Конант переслал письмо Комптона Бушу, который ответил на него лично и точно, со свойственной янки осмотрительностью. Все изобретения, созданные учеными после присоединения к проекту, принадлежат проекту, сообщил Буш Комптону; если только Сцилард не сообщил о своих предыдущих изобретениях Чикагскому университету, когда его принимали туда на работу, основания его позиции были весьма шаткими, если вообще существовали. Затем директор УНИР великодушно обрисовал принятую юридическую процедуру регистрации секретных патентов, после чего выбил из-под притязаний Сциларда последние остававшиеся основания: «Насколько я понимаю, в случае д-ра Сциларда никакие из этих шагов не были предприняты». Буш то ли не понял, то ли сделал вид, что не понял идеи Сциларда о руководстве развитием атомной энергии автономной организацией ученых: «Мне кажется, что д-р Сцилард особенно заботится о том, чтобы результаты, возникающие из его ранней изобретательской деятельности в этой области, если таковые будут получены, могли каким-то образом быть использованы для развития научных исследований»[2164]. Он находил такое намерение достойным восхищения, но считал также, что правительство не имеет к этому вопросу никакого отношения. И полагал, что так и должно быть.
К тому времени, когда Комптон получил письмо Буша, у директора Металлургической лаборатории уже произошло еще одно столкновение со Сцилардом. Сцилард попросил прибавки к жалованью, которая соответствовала бы ценности его изобретения для проекта. Комптон считал, что Сцилард передал все права на свои изобретения государству на все то время, в течение которого он находится на государственной службе. Сцилард отказывался подписать продление своего трудового договора на этих условиях. Пытаясь удержать его, Комптон предложил поднять его зарплату с 550 до 1000 долларов в месяц, аргументируя это тем, что более высокая цифра «сравнима с жалованьем других основателей проекта, гг. Ферми и Вигнера»[2165]. Такой вариант мог быть приемлемым для Сциларда, поскольку он подразумевал особую ценность вклада трех физиков, предположительно с учетом их предыдущих изобретений, но Комптону нужно было заручиться согласием Конанта. До окончательного утверждения этого решения и подписания договора Сцилард должен был оставаться за штатом.
В конце марта Комптон сообщил Сциларду об ответе Буша. Ситуация не менялась до конца мая, когда Сцилард со сдержанным ожесточением заявил, что приступает к подаче патентных заявок. Он попросил Гровса назначить ему юридического консультанта. Военные придали ему флотского капитана Роберта А. Лавендера, работавшего с УНИР в Вашингтоне. Весной и в начале лета Сцилард часто встречался с Лавендером для обсуждения заявок.
Где-то в это время Гровс установил наблюдение за Сцилардом. Бригадный генерал все еще не избавился от той невероятной идеи, что Сцилард может быть германским агентом. В середине июня, когда эта слежка велась уже в течение нескольких месяцев, служба безопасности Манхэттенского округа предложила ее прекратить. Гровс, не раздумывая, отверг это предложение: «Расследование деятельности Сциларда должно быть продолжено, несмотря на отсутствие результатов. Одного письма или телефонного звонка в три месяца может быть вполне достаточно для передачи жизненно важной информации, и мы не можем полностью снять подозрения с этого человека, пока не будем знать наверняка, что он на 100 % заслуживает доверия»[2166]. Судя по всему, Гровс считал несогласие признаком неблагонадежности и полагал, что эти качества прямо пропорциональны друг другу: всякий, кто создавал ему такое количество проблем, как Лео Сцилард, не мог не быть шпионом. Следовательно, за ним нужно было следить.
Слежка за человеком, ни в чем не виноватым, но эксцентричным, быстро превращается в глупую комедию из жизни сыщиков. 20 июня 1943 года Сцилард ехал в Вашингтон; в рамках подготовки к его поездке агент военной контрразведки подготовил сводку его досье:
Согласно отчетам о наблюдении, Объект имеет еврейское происхождение, любит деликатесы и часто совершает покупки в магазинах кулинарии, обычно завтракает в аптеках[2167], а обедает и ужинает в ресторанах, много ходит пешком, когда не может поймать такси, обычно бреется в парикмахерской, иногда разговаривает на иностранном языке и общается в основном с людьми еврейского происхождения. Склонен к забывчивости и эксцентричности, иногда выходит из двери, разворачивается и возвращается, выходит на улицу без пальто и шляпы, часто оглядывается в разные стороны, как будто кого-то ищет или не уверен, куда хочет пойти[2168].
Вооруженный этими глубокомысленными выводами, вашингтонский агент наблюдал, как Объект прибыл в 8:30 вечера 20 июня в гостиницу «Уордмен-Парк», и составил его описание на этот момент:
Возраст – 35 или 40 лет; рост – 168 см; вес – 75 кг; телосложение среднее; цвет лица красный; волосы густые, каштановые, зачесанные прямо назад, слегка вьющиеся; легкая хромота на правую ногу, вызывающая опускание правого плеча; лоб покатый. Одет в коричневый костюм, коричневые ботинки, белую рубашку и красный галстук, без шляпы[2169].
На следующее утро Сцилард работал в Институте Карнеги с капитаном Лавендером. На одну ночь в «Уордмен-Парке» поселился Вигнер («Г-ну Вигнеру около 40 лет, телосложение среднее, лыс, еврейские черты лица, одет консервативно»), и два венгра, размышляя, вероятно, о справедливости, поехали на экскурсию в здание Верховного суда (таксист «сообщил, что они не говорили на иностранных языках и ничто в их разговоре не привлекло его внимания… По его словам, у него более или менее создалось впечатление, что они “развлекаются”»). Вечером они сели «на скамейке у теннисных кортов [гостиницы], причем оба сняли пальто, закатали рукава и некоторое время разговаривали на иностранном языке».
Вигнер выехал из гостиницы рано утром; Сцилард поехал на такси в Штаб-квартиру ВМФ на углу 17-й улицы и Конститьюшн-авеню, «вошел в приемную… и сказал одной из сотрудниц, что хочет встретиться с капитаном Льюисом Штраусом по личному вопросу. Он утверждал, что записан на прием… Он также сказал сотруднице, что лично знаком с капитаном Штраусом и хотел бы поступить на службу во флот»[2170]. Научно-исследовательская лаборатория ВМФ продолжала работать независимо от Манхэттенского проекта над применением ядерной энергии в двигателях подводных лодок: возможно, именно в это учреждение и думал поступить Сцилард. Или же он пытался скрыть свои истинные намерения. Штраус отвел его на обед в клуб «Метрополитен» и, по-видимому, отговорил менять место работы; вернувшись в гостиницу, он телеграфировал Гертруде Вайс, что должен приехать в «Кингс-Краун» к 8:30 вечера, и в тот же день уехал в Нью-Йорк.
Поскольку Лавендер работал под началом Вэнивара Буша, его вряд ли можно было считать незаинтересованным консультантом. При следующей встрече со Сцилардом, 14 июля, он сообщил физику, что его документы «не дают описания пригодного для практической эксплуатации реактора»[2171], то есть, по его мнению, Сцилард не мог получить патент на это изобретение. (Через десять лет после войны Сцилард и Ферми получили совместный патент на изобретение ядерного реактора.) Тогда, если не раньше, Сцилард понял, что ему нужен свой собственный адвокат, и попросил предоставить допуск юристу, который мог бы представлять его интересы.
Исход битвы был почти решен. Сцилард отступил в Нью-Йорк. Теперь он вел переговоры не только с Лавендером, но и с подполковником Джоном Лансдейлом – младшим, начальником службы безопасности Гровса. В письме к Сциларду от 9 октября Гровс подводит итоги откровенного торга, в котором участвовали эти трое: «Вы получили [от Лавендера и Лансдейла] заверения в том, что, как только Вы получите возможность передать все права [на любые изобретения, созданные до поступления на государственную службу], будут начаты переговоры с целью приобретения правительством всех имеющихся у Вас прав и повторного принятия вас на контрактную государственную службу… Я вновь подтверждаю эти заверения»[2172]. То есть Сциларду предлагалось уступить свои патентные права, если таковые у него обнаружатся, в обмен на возможность работать над созданием бомбы с опережением Германии.
Встретившись в Чикаго 3 декабря[2173], Гровс и Сцилард заключили временное перемирие, которое генерал, возможно, считал капитуляцией. Армия согласилась выплатить Сциларду 15 416 долларов и 60 центов в качестве возмещения за двадцать месяцев неоплаченной работы в Колумбийском университете и на покрытие гонораров адвокатов.
Генерал несколько раз пытался заставить Сциларда подписать обязательство «не передавать какой бы то ни было информации, имеющей отношение к проекту, каким бы то ни было лицам, не имеющим допуска к ней»[2174]. Сцилард неизменно выражал устное согласие с этими ограничениями и столь же неизменно, из принципа, не соглашался ничего подписывать. Он намеревался продолжить свои протесты и начал новую кампанию 14 января 1944 года, написав Вэнивару Бушу письмо на трех страницах. Он знает пятнадцать человек, писал он Бушу, «которые в то или иное время были настолько недовольны [политикой информационной изоляции], что собирались обратиться прямо к президенту». Как обычно, главным оставался вопрос свободы научного слова: «Тем, кто обладает достаточной компетентностью, часто бывает ясно видно уже в момент принятия решений, что эти решения ошибочны, но… не существует механизма, который обеспечивал бы возможность выражения коллективного мнения или его официальной регистрации».
В этом письме Сцилард впервые выделил цель, выходящую за рамки задачи создания бомбы раньше Германии: он говорил о возможности применения бомбы и распространения зловещего знания о ней:
Если мир будет достигнут до того, как в общественном сознании появится понимание реальности потенциальных возможностей атомных бомб, заключение мира, основанного на реальности, будет невозможным… Допуская некоторые предположения относительно дальнейшего развития атомной бомбы в ближайшие годы… это оружие будет настолько мощным, что мир будет невозможен, если оно одновременно окажется в распоряжении любых двух держав, не связанных неразрушимым политическим союзом… Вряд ли можно будет добиться политических действий в этом направлении, если высокоэффективные атомные бомбы не будут применены на практике в этой войне, и понимание их разрушительной силы не укоренится в общественном сознании.
Именно этим Сцилард объяснял теперь свои нападки на армию и компанию Du Pont: «Для меня лично это, вероятно, является главной причиной недовольства тем, что происходит на моих глазах»[2175].
Буш отвечал, что беспокоиться не о чем. «Мне кажется, что, когда эта работа будет завершена, – писал он Сциларду, – из ее материалов будет ясно видно, что во всем этом проекте никогда не было никаких препятствий уместному выражению мнений ученых и специалистов в рамках соответствующих областей их деятельности»[2176]. Однако он был готов встретиться со Сцилардом, если тот этого желал. В феврале, готовясь к этой встрече, Сцилард подготовил сорок две страницы заметок. Многие из этих заметок касаются конкретных вопросов; тут и там среди них встречаются и фундаментальные положения.
Поскольку изобретения непредсказуемы, пишет Сцилард, «единственное, что можно сделать, чтобы наверняка добиться успеха, – это вовлечь достаточно большую группу ученых в размышления в нужном направлении, предоставив им все основные факты, необходимые для их привлечения к такой деятельности. Этого не делалось [в Манхэттенском проекте] раньше и не делается сейчас»[2177]. Он проследил результаты государственной политики ограничений:
Отношение к ученым иностранного происхождения, существовавшее на ранних стадиях этой работы, имело далеко идущие последствия, затрагивающие позицию ученых-американцев. Как только принцип возложения полномочий и ответственности на тех, кто обладает наибольшими знаниями и наилучшим суждением, оказывается нарушен из-за дискриминации ученых иностранного происхождения, соблюдение этого принципа в отношении американских ученых также оказывается невозможным. Если полномочия не предоставляются лучшему специалисту в соответствующей области, то, как кажется, нет никаких убедительных причин предоставлять их тому, кто занимает второе место: вполне можно выбрать человека третьего, четвертого или пятого уровня, смотря по тому, кто из них лучше всего соответствует неким совершенно субъективным критериям.
То, что Вигнер утратил энтузиазм еще в начале работы, было, по мнению Сциларда, «неоценимой потерей»; то, что Ферми был отставлен от работ по созданию центрифуги в Колумбийском университете, «заметно задело» его, «и с этого времени он явно выказывал постоянную готовность выполнять распоряжения, но не считал своим долгом проявлять инициативу»[2178].
Наконец, Сцилард заявил, что Металлургическая лаборатория находится при смерти – ее услуги отвергаются, ее дух сломлен, – и провозгласил эпитафию этой организации:
Ученые раздражены, мрачны и не способны справиться с той ответственностью, которую возложил на них этот неожиданный поворот в развитии физики. В результате этого их моральное состояние ухудшилось почти до уровня безнадежности. Ученые пожимают плечами и механически исполняют свои формальные обязанности. Они больше не считают, что ответственны за общий успех этой работы. Состояние духа ученых, занятых в чикагском проекте, можно было бы почти точно измерять по числу окон Экхарт-холла, освещенных после ужина. Сейчас все окна погасли[2179].
Однако по крайней мере сам Лео Сцилард еще не кончил протестовать.
По меньшей мере один раз в течение войны Энрико Ферми проявил инициативу. Возможно, вдохновившись тем энтузиазмом в отношении производства оружия, который он обнаружил в Лос-Аламосе, во время апрельской конференции 1943 года он предложил – по-видимому, в частном разговоре с Робертом Оппенгеймером – использовать радиоактивные продукты деления, производимые в цепной реакции, для отравления продуктовых запасов Германии[2180].
О возможности применения радиоактивных материалов, произведенных в ядерном реакторе, в качестве оружия, комитет Национальной академии наук под руководством Артура Комптона упоминал еще в 1941 году. В конце 1942 года возможность создания такого оружия в Германии беспокоила ученых Металлургической лаборатории[2181], так как предполагалось, что Германия может опережать Соединенные Штаты в области разработки реактора на год или даже больше. Если реактор СР-1 достиг критического состояния в декабре 1942 года, рассуждали они, то в Германии такой реактор мог к этому времени проработать достаточно долго, чтобы создать чрезвычайно радиоактивные изотопы, из смеси которых с пылью или жидкостью можно изготавливать радиоактивные (но не содержащие делящихся материалов) бомбы. Тогда логично предположить, что Германия может попытаться нанести превентивный удар, если не по американским городам, то по самой Металлургической лаборатории. Руководителям Манхэттенского проекта казалось, что для противодействия разработке в Германии средств ведения радиоактивной войны – еще одному отражению в затемненном зеркале – необходимо изучить возможность аналогичных разработок в США. Комитет S-1 организовал для этого особый подкомитет, председателем которого стал Джеймс Брайант Конант, а членами – Артур Комптон и Гарольд Юри. Этот подкомитет начал работу где-то до мая 1943 года, а по всей вероятности – еще до февраля[2182].
Ферми наверняка знал о таких разговорах в Металлургической лаборатории. Однако предложение, которое он высказал Оппенгеймеру на апрельской конференции, отличалось от тех, по существу, оборонных соображений, своим явно наступательным характером. Вполне возможно, что одним из мотивов Ферми была научная осторожность: возможно, он задался вопросом о том, какие средства останутся в распоряжении Соединенных Штатов, если атомная бомба – которую нельзя было испытать экспериментально еще по меньшей мере в течение двух лет – окажется неосуществимой, и нашел ответ на него в мощном потоке нейтронов реактора СР-1 и его предполагаемых плодах. Оппенгеймер взял с Ферми слово хранить это дело в строжайшей тайне, даже большей, чем общая секретность Манхэттенского проекта. Вернувшись в Чикаго, итальянский лауреат потихоньку взялся за дело.
В мае Оппенгеймер приехал в Вашингтон. Среди прочих дел он рассказал об идеях Ферми Гровсу и узнал о существовании подкомитета Конанта. Вернувшись 25 мая в Лос-Аламос, он написал Ферми теплое письмо, в котором сообщил о том, что узнал. Он утверждал, что подкомитет был создан по требованию начальника Генерального штаба армии Джорджа Маршалла, хотя казалось гораздо более вероятным, что это направление исследований зародилось внутри Манхэттенского проекта. «В связи с этим я, с ведома и одобрения Гровса, обсудил с [Конантом] приложение [т. е. отравление германских продуктовых запасов], показавшееся нам столь многообещающим».
Оппенгеймер также обсудил идею Ферми с Эдвардом Теллером. Они пришли к выводу, что из имеющихся изотопов «наиболее перспективным кажется» стронций, вероятно стронций-90, который поглощается человеческим организмом вместо кальция и образует вредные для здоровья отложения в костях, откуда его невозможно извлечь. Теллер считал, что отделение стронция от других продуктов, образующихся в реакторе, «не представляет большой трудности». Оппенгеймер хотел отложить работу до «более позднего и безопасного времени», чтобы, как он сказал также Ферми, у них была «гораздо лучшая возможность сохранения Вашего плана в секрете». Он даже не хотел включать в ближайшие обсуждения Комптона. Подводя итоги, он писал, в частности:
Я рекомендовал бы по возможности отложить это дело. В связи с этим я думаю, что нам не следует пытаться осуществить такой план, если мы не сможем отравить такое количество продуктов, которого было бы достаточно для смерти полумиллиона человек, так как реальное число жертв с учетом неравномерности распределения, несомненно, будет гораздо меньше[2183].
Ничто из сохранившихся документальных свидетельств не иллюстрирует нараставшую кровожадность Второй мировой войны ярче, чем то, что Роберт Оппенгеймер, неоднократно объявлявший себя приверженцем ахимсы («это санскритское слово обозначает непричинение вреда или боли»[2184], – объяснял он сам), мог с таким энтузиазмом писать о подготовке к массовому отравлению целых пятисот тысяч человеческих существ.
Во всяком случае, середина 1943 года была временем сильного беспокойства среди ученых-атомщиков, которые видели, что нацистская Германия начинает проигрывать войну, и чувствовали ее отчаяние. Предполагалось, что Манхэттенский проект произведет атомные бомбы к началу 1945 года; если бы Германия начала исследования деления аналогичного масштаба в 1939-м, можно было бы предположить, что ее бомбы уже почти готовы. 21 августа Ханс Бете и Эдвард Теллер писали в памятной записке:
Недавние сообщения, как появившиеся в газетах, так и полученные от секретной службы, дают понять, что Германия может обладать мощным новым оружием, которое, как ожидается, будет готово к применению между ноябрем и декабрем. По-видимому, такое оружие со значительной вероятностью может быть трубным сплавом [т. е. ураном]. Нет необходимости описывать вероятные последствия этой ситуации, если она окажется реальной.
Существует возможность, что к концу этого года у немцев будет накоплено достаточное количество материала для изготовления большого числа устройств, которые они используют одновременно против Англии, России и нашей страны. В таком случае надежда на какие-либо ответные меры была бы невелика. Однако также возможно, что они будут производить, скажем, по два устройства в месяц. Это поставило бы, в частности, Британию в чрезвычайно серьезное положение, но позволяло бы надеяться на ответные меры с нашей стороны до поражения в войне при условии резкого ускорения нашей собственной программы по трубным сплавам в течение ближайших нескольких недель.
Дальше в меморандуме критикуется производство, осуществляемое «полностью крупными компаниями»[2185], – та же траурная песнь венгров, которую исполняли и Сцилард с Вигнером, – и предлагается внедрить срочную программу строительства реакторов на тяжелой воде под руководством Юри и Ферми. По-видимому, предложение Бете и Теллера не имело никаких практических последствий – секретное оружие Гитлера оказалось ракетами «Фау-1» и «Фау-2», которые разрабатывались тогда в Пенемюнде; первые такие ракеты были выпущены по Англии 13 июня 1944 года, – но оно отражает настроения, царившие в середине войны.
Распыление радиоактивных веществ вызывало меньшую тревогу. Подкомитет Конанта рассмотрел возможность его применения и счел ее «сравнительно отдаленной». Конант подчеркнул, что считает «чрезвычайно маловероятной возможность применения радиоактивного оружия против Соединенных Штатов и маловероятным применение такого оружия вообще»[2186]. В конце концов Гровс предложил Джорджу Маршаллу обучить нескольких офицеров использованию счетчиков Гейгера и отправить их в Англию в качестве наблюдателей. Маршалл, занимавшийся в это время подготовкой к высадке в Нормандии, согласился.
Американцам, защищенным широким «рвом» Атлантического океана, было легче сбросить со счетов возможность радиоактивной атаки, чем британцам. В августе 1943 года канцлер британского Казначейства сэр Джордж Андерсон, химик, отвечавший в правительстве Черчилля за Программу трубных сплавов, обсуждал этот вопрос с Конантом за обедом в вашингтонском клубе «Космос»[2187]. Его особенно беспокоило германское производство тяжелой воды, так как британские ученые считали, что нашли способ отделения легкой воды от тяжелой в пять раз более эффективный, чем существовавшие до этого методы; они опасались, что их коллеги в Германии могли сделать такое же открытие. Тяжелую воду, несомненно, можно было использовать в качестве замедлителя в котле с цепной реакцией. А из такой установки можно было получить радиоактивные изотопы для распыления над Лондоном.
Поэтому британцы начали еще более пристально наблюдать за установкой повышения концентрации в норвежском Веморке. Ее повреждения не были неустранимы. Напротив, летом этого года разведка сообщила, что в апреле установка снова заработала: немецкие ученые прислали из запасов германских лабораторий тяжелую воду для заполнения ячеек и ускорения восстановления каскада.
Когда Нильс Бор бежал из Стокгольма в Шотландию 6 октября 1943 года, он привез с собой чертеж экспериментального реактора на тяжелой воде, выполненный Вернером Гейзенбергом. Той осенью Бор неоднократно встречался в Лондоне с сэром Джоном Андерсоном; Андерсон сопоставил информацию, предоставленную Бором, с данными изучения радиоактивного оружия подкомитетом Конанта и полученными от норвежского подполья сообщениями о возобновлении производства в Веморке и пришел к выводу о срочной необходимости повторного нападения на этот завод. Нацисты значительно усилили охрану Веморка, что делало невозможным новый десантный рейд. Британские и американские представители обсудили эту проблему в Вашингтоне, и Джордж Маршалл дал разрешение на точечную бомбардировку.
Перед рассветом 16 ноября бомбардировщики Б-17 8-й воздушной армии ВВС США поднялись со своих баз в Британии и полетели на северо-восток. Чтобы минимизировать число жертв среди норвежцев, бомбежка была назначена на время обеденного перерыва на предприятии Norsk Hydro, между 11:30 утра и полуднем. С аэродромов ПВО на западе Норвегии не взлетело ни одного германского истребителя, и самолеты кружили над Северным морем, ожидая времени, назначенного для проникновения на территорию Скандинавского полуострова. Этим они привлекли внимание германской зенитной артиллерии, которой удалось подбить небольшое число бомбардировщиков, когда они пересекали береговую линию. До Веморка долетели сто сорок самолетов, сбросивших более семисот 230-килограммовых бомб. Ни одна из них не попала точно в цель, но четыре бомбы разрушили электростанцию, а еще две повредили станцию электролиза, снабжавшую водородом установку повышения концентрации, что практически вывело последнюю из строя.
Тогда Абрахам Эзау из Имперского совета по научным исследованиям решил заново построить установку в Германии. Для ускорения ее строительства совет планировал разобрать установку в Веморке и перевезти ее на территорию рейха. Норвежские подпольщики сообщили об этом решении в Лондон. Андерсона беспокоила не столько сама установка – Германия могла выделить на обеспечение ее работы лишь ограниченное количество электроэнергии, производимой на гидроэлектростанциях, – сколько тяжелая вода, остававшаяся в ее каскаде. Британская разведка просила норвежцев продолжать наблюдение.
9 февраля 1944 года подпольная коротковолновая радиостанция передала из окрестностей Рьюкана, что через неделю или две тяжелая вода будет отправлена в Германию под охраной: времени оставалось слишком мало, чтобы подготовить и высадить диверсионную группу. Кнут Хаукелид, проведший последний год на местности за подготовкой будущих военных операций, был единственным обученным десантником в этом районе, если не считать радиста. Ему предстояло уничтожить запасы тяжелой воды в одиночку, с помощью тех непрофессионалов, которых ему удалось бы привлечь к этому делу[2188].
Ночью Хаукелид пробрался в Рьюкан и тайно встретился там с главным инженером Веморка Альфом Ларсеном. Ларсен согласился ему помочь, и они обсудили возможные варианты операции. Тяжелую воду, степень обогащения которой составляла от 1,1 до 97,6 %[2189], должны были перевозить в тридцати девяти бочках с маркировкой «Калийный щелок». «Нападение на Веморк в одиночку, – пишет Хаукелид, – я считал невозможным… Поэтому единственной осуществимой возможностью было попытаться тем или иным образом атаковать во время перевозки»[2190]. Они с Ларсеном и присоединившимся к ним позже транспортным инженером из Веморка рассмотрели различные этапы транспортировки. Бочки с водой должны были перевезти по железной дороге из Рьюкана до верхнего конца озера Тинншё. Там вагоны предполагалось закатить на железнодорожный паром, который перевезет их по озеру; после этого они должны были отправиться, снова по железной дороге, в порт для погрузки на судно и отправки в Германию. Взрывать поезд было бы делом трудным и кровопролитным, так как он должен был быть битком набит норвежскими пассажирами. В конце концов Хаукелид решил попытаться потопить паром, на котором тоже должны были быть пассажиры, в озере 400-метровой глубины. Транспортный инженер согласился назначить отправку тяжелой воды на утро воскресенья, когда на пароме обычно бывало меньше народу.
Нападение на корабль почти наверняка означало гибель некоторых из германских охранников груза, что вызвало бы жестокое возмездие в отношении норвежского населения окрестностей озера Тинншё. Хаукелид обратился по радио в Лондон за разрешением на операцию, подчеркнув, что местные инженеры не уверены, стоит ли ее результат таких репрессий:
В это время мы уже открыто говорили о том, что немцы используют тяжелую воду в атомных экспериментах и что может существовать возможность получения атомного взрыва. В Рьюкане очень сильно сомневались, что немцы близки к решению этой задачи. Кроме того, там сомневались, что взрыв такого рода вообще возможен[2191].
Британцы придерживались другого мнения.
В тот же день из Лондона пришел ответ:
«Вопрос рассмотрен. Уничтожение тяжелой воды чрезвычайно важно. Надеемся, что оно может быть обеспечено без чрезмерно тяжелых последствий. Передаем искренние пожелания успеха в работе. Приветствуем»[2192].
Тогда Кнут Хаукелид начал планировать свою операцию. Он переоделся рабочим, спрятал свой автомат «стен» в футляр для скрипки, узнал, какой именно паром выйдет в рейс в назначенный день, воскресенье 20 февраля 1944 года, и совершил на нем пробную поездку, внимательно следя за временем. Паром «Гидро» был похож на плоскую баржу с двумя дымовыми трубами, расположенными с двух сторон похожей на ящик надстройки. Он достиг самой глубокой части озера приблизительно через тридцать минут после выхода из порта, а еще через двадцать минут дошел до мелководья. «Поэтому в нашем распоряжении было двадцать минут, в течение которых должен был произойти взрыв»[2193]. Даже при наличии такого щедрого запаса времени Хаукелиду нужно было нечто лучшее, чем простой часовой механизм: ему нужны были электрические детонаторы и часы. Ночью он пришел к владельцу магазина строительных товаров в Рьюкане, но тот отнесся к нему подозрительно и детонаторов не дал. Одному из местных жителей повезло в этом смысле больше. Вышедший на пенсию ремонтник завода Norsk Hydro пожертвовал один будильник; Альф Ларсен предоставил еще один, запасной. Хаукелид переделал будильники так, чтобы их молоточки ударяли не по чашке звонка, а по контактной пластине, замыкая электрический контур с питанием от батареи, в результате чего должны были сработать детонаторы.
За несколько месяцев до этого британцы сбросили норвежским десантникам партию припасов, в которой были и шашки пластиковой взрывчатки. Хаукелид связал эти короткие и толстые шашки в кольцо, чтобы прорезать в дне парома отверстие. «Поскольку Тинншё – озеро узкое, нужно было, чтобы паром затонул менее чем за пять минут, иначе его можно было бы выбросить на берег. Я… потратил много часов на расчеты размеров отверстия, которое обеспечило бы достаточно быстрое затопление парома»[2194]. После долгой ночной работы, чтобы проверить работу часового механизма, он подключил в своей хижине в горах над Рьюканом несколько лишних детонаторов, установил будильник на вечер и лег спать. Детонаторы сработали в назначенное время; Хаукелид в панике вскочил с кровати, схватил ближайшее оружие и рефлекторно навел его на дверь. «По-видимому, часовое устройство работало правильно»[2195].
В субботу Хаукелид и один из местных жителей, Рольф Сёрли, пробрались в Рьюкан. Там было полно германских солдат и полицейских СС. За час до полуночи «мы с Рольфом перешли мост через реку Ману и посмотрели на нашу цель». Товарные вагоны «проезжали под какими-то фонарями, на них была охраа… Поезд должен был отправиться в восемь часов следующего утра, а паром отходил… в десять»[2196].
Уйдя с моста, они зашли в переулок, где встретились со своим шофером на машине, которую Хаукелид украл именем короля с согласия ее владельца и должен был вернуть в воскресенье утром. Владелец машины переделал ее под метановое топливо, и они потратили целый час на то, чтобы ее завести. Они забрали Ларсена, который собирался бежать из Норвегии после операции, чтобы избежать ареста. Он явился с чемоданом ценных вещей, прямо с банкета, на котором он слышал, как выступавший с концертом скрипач говорил, что собирается уехать утренним паромом. Ларсен безуспешно пытался убедить музыканта остаться еще на день ради превосходных лыжных трасс этих мест. К ним присоединился еще один человек из Рьюкана. Далеко за полночь они подъехали к озеру.
Вооружившись автоматами «стен», пистолетами и ручными гранатами, мы прокрались… к парому. Ночь была морозной, и все скрипело и хрустело; лед, которым была покрыта дорога, ломался под нашими ногами с громким треском. Когда мы вышли на мост у паромного причала, шуму был столько, как будто там маршировала целая рота.
Рольфу и другому человеку из Рьюкана было поручено прикрывать меня, пока я ходил на разведку на паром. Там все было тихо. Неужели немцы не позаботились об охране самого слабого звена всей своей транспортной цепочки?
Услышав голоса, раздающиеся из жилых отсеков на носу, я прокрался по трапу и стал слушать. Судя по всему, там шла вечеринка и игра в покер. Два моих спутника присоединились ко мне на палубе парома. Мы спустились к каютам третьего класса и нашли люк, ведущий в трюм. Но прежде, чем мы успели открыть люк, мы услышали шаги и спрятались за первым попавшимся столом или стулом. В дверях стоял вахтенный матрос парома.
Хаукелид быстро нашелся. «Положение было неловким, но не опасным». Он сказал вахтенному, что они скрываются от гестапо и ищут, где бы спрятаться.
Вахтенный тут же показал нам люк в палубе и сказал, что они не раз перевозили в своих рейсах всякую контрабанду.
Человек из Рьюкана оказался неоценимо полезным. Он все говорил и говорил с вахтенным, пока мы с Рольфом забросили свои мешки под палубу и приступили к работе.
Работа была нервной и заняла много времени[2197].
Хаукелид и Сёрли стояли на днище корабля, по колено в холодной воде. Им нужно было примотать два часовых механизма к стальным балкам, скрепляющим корпус парома, подключить к ним четыре электрических детонатора, присоединить к кольцам пластиковой взрывчатки скоростные запалы, разложить взрывчатку по плитам обшивки днища и только потом, чрезвычайно осторожно, подсоединить батареи к детонаторам и детонаторы к запалам.
«Заряд был положен в воду и замаскирован. Он состоял из восьми с половиной килограммов бризантной взрывчатки, разложенной в форме кольца колбасы. Мы установили его на носу, чтобы, когда в трюм начнет поступать вода, руль и гребной винт поднялись над поверхностью [и корабль нельзя было отвести в более мелкое место]… При взрыве заряда из борта корабля должно было вырвать кусок площадью около квадратного метра»[2198]. Длина окружности кольца составляла около трех с половиной метров.
Сёрли поднялся на палубу. Хаукелид установил будильники на 10:45 утра. «Последнее соединение было самым опасным; будильник – прибор ненадежный, и зазор между молоточком и чашкой звонка был не больше сантиметра. То есть от катастрофы нас отделял всего сантиметр»[2199]. Однако все получилось, и к четырем утра он закончил свою работу.
К тому времени человек из Рьюкана убедил вахтенного, что беженцам, которых он укрывает, нужно вернуться в Рьюкан за своими пожитками. Хаукелид подумал, не следует ли предупредить их благодетеля, но решил, что это было бы опасно для успеха операции, и только поблагодарил его и пожал ему руку.
В десяти минутах езды от паромной станции Хаукелид и Ларсен вышли из машины, встали на лыжи и отправились за 60 километров вокруг озера в Конгсберг, где они должны были сесть на поезд, бывший первым этапом их бегства в Швецию. Сёрли доставил на подпольную радиостанцию отчет для передачи в Лондон. Шофер вернул украденную машину, после чего они с человеком из Рьюкана разошлись по домам. По совету Хаукелида транспортный инженер Norsk Hydro обеспечил себе неоспоримое алиби: в эти выходные врачи местной больницы, не задавая лишних вопросов, удалили ему аппендикс.
Паром «Гидро» отошел по расписанию; на его борту было 53 человека, в том числе и скрипач. Через 45 минут хода пластиковая взрывчатка Хаукелида пробила дыру в корпусе судна. Капитан не столько услышал, сколько почувствовал взрыв; хотя озеро Тинншё не имеет выхода к морю, он подумал, что в паром попала торпеда. Как и рассчитывал Хаукелид, первым под воду ушел нос; пока пассажиры и команда пытались спустить на воду спасательные шлюпки, товарные вагоны с тридцатью девятью бочками – в них было 613 литров тяжелой воды в смеси с 3000 литрами шлака – разорвали свои крепления, выкатились за борт и камнем пошли на дно. 26 человек из числа пассажиров и команды утонули. Скрипач благополучно сел в спасательную шлюпку; когда мимо проплывал футляр с его скрипкой, какая-то добрая душа выловила его из воды и вернула владельцу.
В своем послевоенном интервью Курт Дибнер из Управления вооружений сухопутных сил вермахта описывал суммарное воздействие бомбардировки Веморка и затопления «Гидро» на немецкие исследования в области деления ядер следующим образом:
Если учесть, что до самого конца войны, наступившего в 1945 году, в Германии не происходило практически никакого увеличения наших запасов тяжелой воды… станет ясно, что главной причиной того, что за время войны мы так и не сумели получить самоподдерживающегося атомного реактора, было уничтожение германского производства тяжелой воды в Норвегии[2200].
Состязание за первенство в обладании бомбой, таким образом, закончилось для Германии холодным воскресным утром в феврале 1944 года на горном озере в Норвегии.
Несмотря на Перл-Харбор и последующий стремительный захват Японией миллионов квадратных километров Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана, в первые годы войны Тихоокеанский театр военных действий привлекал к себе в Соединенных Штатах меньшее внимание, чем война в Европе. «Европа была любимицей Вашингтона, – напишет потом в своих воспоминаниях адмирал Тихоокеанского флота Уильям Ф. Холси, – а южная часть Тихого океана оставалась на положении пасынка»[2201]. Но кроме того, американцам поначалу было трудно воспринимать всерьез низкорослых азиатских островитян, культура которых столь резко отличалась от американской. В конце 1942 года корреспондент агентства Time-Life Джон Херси писал с Соломоновых островов, расположенных к востоку от Новой Гвинеи, что средний американский морской пехотинец «очень беспокоится о том непонимании тихоокеанской войны, которое, как ему кажется, царит в Вашингтоне. Конечно, говорит он, Гитлера надо разбить, но это не значит, что мы можем и дальше считать японцев забавными обезьянками с полосатыми хвостами»[2202]. Уроженец Бостона Джозеф К. Грю, бывший американским послом в Японии по время нападения на Перл-Харбор, столкнулся с аналогичным скептическим отношением, когда вернулся из японского лагеря для интернированных. Он стал бороться с ним, разъезжая по всей стране со своими лекциями:
На днях один мой друг, умный американец, сказал мне: «Разумеется, в войне всегда бывают успехи и неудачи; нельзя ожидать ежедневных побед. Но поражение Гитлера перед лицом устойчиво растущей мощи объединенных воздушных, морских и наземных сил [союзников] – только вопрос времени, а потом мы сметем япошек». Пожалуйста, обратите внимание на эти слова. «А потом мы сметем япошек»[2203].
Грю считал такую браваду неосмотрительной. «Японцы знают, что мы о них думаем, – говорил он своим слушателям, – что мы считаем их физически мелкими, склонными к подражательству, не играющими важной роли в мире людей и народов»[2204]. На самом же деле, говорил Грю, они «едины», «расчетливы», «фанатичны» и «деспотичны»[2205].
В этот самый момент японцы считают, что по человеческим качествам каждый из них превосходит вас, меня, любого представителя наших народов. Они восхищаются нашей техникой, они, возможно, мучительно опасаются конечного превосходства наших ресурсов, но слишком многие из них презирают наши личности… Руководители Японии действительно думают, что могут победить и победят. Они рассчитывают на нашу беспечность, на нашу явную разрозненность до – и даже во время – войны, на нашу неготовность к жертвам, к лишениям и к боям[2206].
До этого места лекция Грю была, возможно, всего лишь обычным увещеванием. Но дальше он заговорил о явлении, с которым американцы, сражавшиеся на Тихом океане, только начинали сталкиваться. «Для этих солдат “Победа или смерть” – не просто лозунг, – отмечал Грю. – Это точное, прозаическое описание военной политики, управляющей их силами, от самых высокопоставленных генералов до самых последних новобранцев. Солдат, позволивший взять себя в плен, навлекает позор на себя и на свою страну»[2207].
Именно это генерал-майор морской пехоты Александер А. Вандергрифт осознавал в это же самое время, в конце 1942 года, на острове Гуадалканал в архипелаге Соломоновых островов. «Господин генерал, – писал он в Вашингтон командующему морской пехотой, – я никогда не слышал и не читал о войне такого рода. Эти люди отказываются сдаваться. Раненый ждет, пока к нему подойдет кто-нибудь, чтобы его осмотреть… и взрывает ручную гранату, убивая себя и окружающих»[2208].
Это пугало. Это требовало соответствующего усиления яростности сражений. Джон Херси считал необходимым объяснить такое усиление:
Если верить легендам, этот молодой человек [т. е. американский морской пехотинец] – убийца; он не берет пленных и никого не щадит. Это отчасти справедливо, но причиной этому не жестокость, не одно лишь стремление отомстить за Перл-Харбор. Он убивает, потому что в джунглях он должен убивать, а иначе убьют его. Враг выслеживает его, а он выслеживает врага, как охотник выслеживает бинтуронга[2209]. Часто можно услышать, как морские пехотинцы говорят: «Хотел бы я воевать против немцев. Они такие же люди, как мы. Война с ними, должно быть, похожа на спортивное состязание – соревнование в мастерстве с заведомо сильным противником. Немцы заблуждаются, но, по крайней мере, ведут себя как люди. А японцы похожи на зверей. Чтобы сражаться с ними, приходится научиться совершенно новым физическим реакциям. Нужно приспособиться к их звериному упрямству и упорству. В джунглях они чувствуют себя как дома, и их, как некоторых животных, не увидишь, пока не убьешь»[2210].
Объяснение непривычного поведения уподоблением животным было удобно тем, что с ним убийство грозного противника становилось делом, более легким с эмоциональной точки зрения. Но в то же время такая дегуманизация врага заставляла считать его еще более чуждым и опасным. То же можно сказать и о другом объяснении поведения японцев, возникшем и распространившемся во время войны: японцы – фанатики, верящие, как провозглашал Грю, «в непогрешимую истинность своей национальной идеи»[2211]. Историк Уильям Манчестер, бывший на Гуадалканале в числе морских пехотинцев, рассматривает этот аспект более объективно, в более дальней послевоенной перспективе:
В то время считалось бестактным хоть в чем-то воздавать противнику должное, и целеустремленность японцев, их упорное нежелание сдаваться обычно объясняли «фанатизмом». Задним числом его невозможно отличить от героизма. Нежелание признавать его таковым обесценивает победу, ту доблесть, которая потребовалась американцам, чтобы превозмочь его[2212].
Будь то зверство, фанатизм или героизм, но для успешной войны с упорно отказывавшимися сдаваться японцами требовались новая тактика и отказ от сантиментов. В своей книге «Дневник Гуадалканала» (Guadalcanal Diary), ставшей бестселлером 1943 года, военный корреспондент Ричард Трегаскис рассказывал о применении такой тактики в сражении на Гуадалканале, первой сухопутной битве войны на Тихом океане:
Генерал коротко рассказал о сражении… Труднее всего, сказал он, было зачищать десятки пещер, полных японцев. Каждая пещера, сказал он, была настоящей отдельной крепостью, полной японцев, твердо решивших сопротивляться, пока всех их не убьют. Единственным действенным средством против этих пещер, сказал он, было взять динамитную шашку и забросить ее в узкий вход пещеры. Потом, после взрыва в пещере, можно было зайти внутрь с автоматом и прикончить оставшихся японцев…
«Вы никогда не видели таких пещер и подземелий, – сказал генерал. – В них бывало по тридцать-сорок японцев. И они напрочь отказывались выходить оттуда, за исключением одного-двух отдельных случаев»[2213].
Статистика кампании на Соломоновых островах говорит о том же: из 250 японцев, составлявших гарнизон Гуадалканала на момент первой высадки морской пехоты, только трое позволили взять себя в плен. До окончательного захвата острова на нем погибло более 30 000 присланных в сражение японцев; американские потери составили 4123 человека. Похожая картина наблюдалась повсюду. Соотношение числа пленных японцев к убитым в Северно-Бирманской кампании составило 142 к 17 166, то есть около 1:120, в то время как в странах Запада считалось непреложной истиной, что потеря от четверти до трети сил – соотношение 4:1 – обычно приводит к неизбежной капитуляции. Вместе с ожесточением японского сопротивления росли и потери союзников.
В течение 1943 года, по мере медленного и кровопролитного продвижения через западную часть Тихого океана к Японским островам, поведение японских солдат заставляло задуматься, применимы ли такие стандарты только к военным или же и к гражданскому населению Японии. Грю пытался ответить на этот вопрос в своих лекциях годом раньше:
Я знаю Японию; я прожил там десять лет. Я хорошо знаком с характером японцев. Японцы не сломаются. Они не сломаются ни морально, ни психологически, ни экономически, даже когда окажутся перед лицом неизбежного поражения. Они затянут свои пояса еще на одну дырку, уменьшат норму выдачи риса с одной чашки до половины чашки и будут сражаться до последнего вздоха. Только полное физическое уничтожение или полное истощение их людских и материальных ресурсов может принести победу над ними. В этом состоит разница между немцами и японцами. В этом заключается то, с чем мы сталкиваемся в войне с Японией[2214].
Тем временем Соединенные Штаты производили огнеметы, чтобы выжигать японских солдат из пещер. Журналист-ветеран Генри К. Вульф, ездивший в Японию до войны, призвал в журнале Harper’s сбрасывать на «горючие», «спичечные» японские города зажигательные бомбы. «Разговор о сжигании жилых домов кажется жестоким, – объяснял Вульф. – Но мы участвуем в борьбе не на жизнь, а на смерть, ставка в которой – само выживание страны, и потому имеем право на любые действия, которые спасут жизни американских солдат и матросов. Мы должн как можно сильнее, всеми имеющимися у нас средствами бить туда, где наши удары причинят врагу наибольший ущерб»[2215].
В том же месяце, когда Вульф призывал со страниц Harper’s к воздушной битве, – в январе 1943 года – Франклин Рузвельт встретился в Касабланке с Уинстоном Черчиллем. В ходе этой встречи два руководителя обсуждали условия капитуляции, которых они собирались потребовать в конце войны; выражение «безоговорочная капитуляция» обсуждалось, но не было включено в официальное совместное заявление, которое должно было быть зачитано на заключительной пресс-конференции[2216]. Однако 24 января, к удивлению Черчилля, Рузвельт экспромтом вставил его в свое выступление. «Мир может наступить во всем мире, – зачитал американский президент перед собравшимися журналистами и камерами кинохроники, – только при полном уничтожении военной мощи Германии и Японии… Уничтожение военной мощи Германии, Италии и Японии означает безоговорочную капитуляцию Германии, Италии и Японии». Впоследствии Рузвельт сказал Гарри Гопкинсу, что это неожиданное и судьбоносное добавление было результатом той неразберихи, которой сопровождались его попытки убедить французского генерала Анри Жиро вступить в переговоры с вождем «Свободной Франции» Шарлем де Голлем:
Нам стоило таких трудов свести этих двух французских генералов, что я думал про себя, что это было не легче, чем организовать встречу Гранта с Ли. А потом внезапно пришло время пресс-конференции, нам с Уинстоном некогда было к ней подготовиться, и мне в голову пришла мысль, что у Гранта было прозвище «Безоговорочная Капитуляция» – и, сам того не ожидая, я произнес эту фразу.
Черчилль немедленно поддержал эту идею – «Любые, даже неявные, разногласия между нами в таких обстоятельствах и в такое время были бы вредны и даже опасны для наших военных действий»[2217], – и требование безоговорочной капитуляции стало официальной политикой союзников.
16
Откровения
– Как бы вам понравилось поработать в Америке? – как-то в ноябре спросил в Ливерпуле Джеймс Чедвик Отто Фриша.
– Мне бы очень этого хотелось, – ответил, как он вспоминает, Фриш.
– Но для этого вам придется стать британским гражданином.
– Этого мне хотелось бы еще больше.
В течение недели британские власти утвердили предоставление гражданства австрийскому эмигранту. Следуя инструкциям, согласно которым он должен был «упаковать свое имущество в маленький чемодан и приехать в Лондон ночным поездом»[2218], Фриш вместе с другими учеными-иммигрантами провел напряженный день в беготне по государственным учреждениям – он принес присягу верности королю, забрал свой паспорт, получил визу в американском посольстве – и поспешил обратно в Ливерпуль, где на следующее утро вся делегация должна была взойти на борт переоборудованного под военные нужды роскошного лайнера «Анды». В британскую группу под началом Уоллеса Акерса из ICI входили люди, которых генерал Гровс хотел попросить проверить работы по созданию диффузионных барьеров, а также те, кто ехал в Лос-Аламос, в том числе Фриш, Рудольф Пайерлс, Уильям Дж. Пенни, Георг Плачек, Ф. Б. Мун, Джеймс Л. Так, Эгон Бретчер и Клаус Фукс. С ними также ехали Чедвик и специалист по гидродинамике Джеффри Тейлор.
Акерс обошел нехватку транспорта, доставив их в ливерпульский порт на черных похоронных лимузинах; кортеж замыкал катафалк, в который погрузили багаж[2219]. На борту парохода Фришу досталась в единоличное пользование целая каюта на восемь коек. Не имевшее конвоя судно шло на запад зигзагом. Америка оказалась страной роскоши; по дороге из Ньюпорт-Ньюс поезд Фриша остановился в Ричмонде, штат Виргиния:
Я пошел прогуляться по улицам. Там меня встретило совершенно невероятное зрелище: фруктовые прилавки с пирамидами апельсинов, освещенные яркими ацетиленовыми факелами! Я привык к английским затемнениям, я уже пару лет не видел апельсинов, и от одного этого зрелища меня разобрал истерический смех[2220].
В Вашингтоне Гровс проинструктировал их по мерам безопасности. Сменив несколько поездов, они прибыли – Фриш с одним спутником в декабре, более крупная группа в начале 1944 года – в места с фантастическим пейзажем, и там, на залитой ярким солнцем, окруженной соснами столовой горе, курил свою трубку Роберт Оппенгеймер; его коротко остриженную на военный манер голову прикрывала шляпа «порк-пай»: «Добро пожаловать в Лос-Аламос, а вы, черт побери, кто такие?»[2221]
Они были ударным отрядом Черчилля. Вначале бомба принадлежала им не в меньшей степени, чем кому-либо другому, но их внимания требовали более насущные задачи, и теперь они стали посланцами, которые должны были помочь в ее создании и привезти ее обратно. Америка делилась бомбой с другим суверенным государством. Черчилль договорился о возобновлении сотрудничества в этой области на квебекской встрече в августе:
Мы согласны, что:
во-первых, мы никогда не будем применять это средство друг против друга.
во-вторых, мы не будем применять его против третьих сторон без согласия друг друга.
в-третьих, никто из нас не будет передавать третьим сторонам какой бы то ни было информации о трубных сплавах без обоюдного согласия[2222].
Затем приехали Нильс Бор и его сын Оге, получившие должности, соответственно, консультанта Управления трубных сплавов и младшего научного сотрудника; их жалованье платила британская сторона. Сотрудники службы безопасности Гровса встретили отца с сыном в порту, присвоили им вымышленные имена – Николас и Джеймс Бейкер – и под большим секретом отвезли их в гостиницу, где обнаружилось, что на чемоданах датского лауреата напечатано жирными черными буквами «Нильс Бор»[2223]. В Лос-Аламосе тепло встреченные Николас и Джеймс Бейкеры превратились в дядюшку Ника и Джима.
Первым делом нужно было разобраться с чертежом реактора на тяжелой воде Гейзенберга, с которым Бор уже ознакомил Гровса. В последний день 1943 года Оппенгеймер созвал совещание специалистов, чтобы установить, смогут ли они найти какую-либо новую причину полагать, что реактор можно использовать в качестве оружия. «На чертеже явно был изображен реактор, – вспоминал Бете после войны, – но, увидев его, мы решили, что эти немцы совсем спятили – они что, собираются сбросить реактор на Лондон?»[2224] Гейзенберг не задавался такой целью, но Бор хотел знать наверняка. Бете и Теллер подготовили логически последовательный отчет под названием «Взрыв неоднородного реактора на уране и тяжелой воде» (Explosion of an inhomogeneous uranium-heavy water pile)[2225]. Его вывод гласил, что такой взрыв «приведет к высвобождению энергии, вероятно, меньшей и гарантированно не большей, чем энергия, получаемая при взрыве равной массы ТНТ».