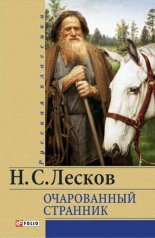Гарвардская площадь Асиман Андре
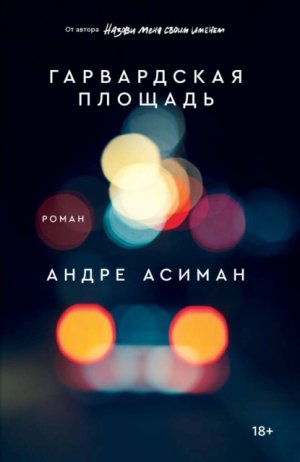
О том, что произошло, я узнал только к концу дня. Он вошел в аудиторию, раздал домашние задания, которые тщательно проверил накануне вечером, рассказал всем студентам, как его обидели на кафедре, и тут же вышел вон, но не прежде, чем выкинул в мусорное ведро свой «Parlons!» и остальные учебники вместе с методическими рекомендациями. Он знал, что тем самым лишается месячной зарплаты, но все равно остался очень доволен. «У меня есть три вещи: машина, зеб и чувство собственного достоинства. Ценностью они обладают только в полном комплекте». Выходя из здания, он встретил не кого иного, как самого профессора Ллойд-Гревиля, который шел куда-то с приезжими преподавателями, и, сделав соответствующий жест, велел Ллойд-Гревилю защищаться. А потом вмазал ему, причем при всех. В ответ Ллойд-Гревиль посулил, что доложит обо всем декану факультета. «Кому?»
Мы над этим посмеялись. Он решил приготовить нам обоим ужин. А потом, будто бы это только что пришло ему в голову: «Пожалуй, и сегодня я тоже здесь переночую».
Я понял, что так оно теперь и пойдет. Сам того не сознавая, я поймал себя на том, что гадаю: сколько же Ллойд-Гревиль пыхтел, прежде чем написать Калажу это письмо. Когда я сообщу Калажу все новости и тем самым докажу в очередной раз, что весь мир состоит из двуличных людей? Я подумал про его жену, про Леони, про его первую жену во Франции, про американское правительство – всем им приходилось справляться с одной и той же загвоздкой: как сообщить бедняге Калажу, что его не любят, не хотят.
Дело дошло до того, что Ллойд-Гревиль, который всегда изображал из себя благорасположенного ментора, особенно после интерлюдии с Чосером, стал меня подчеркнуто избегать. Черту пересек не Калаж, а я. Он бросал мне торопливое приветствие, явно при этом сильно сердясь и одновременно стыдясь дурных мыслей обо мне, которые постоянно лелеял. Кончилось дело тем, что я понял: нужно восстанавливать разрушенное, а то и меня вышибут как какого-нибудь парию.
– Я понятия не имел о том, на что Калаж способен, – сказал я Ллойд-Гревилю, едва войдя в его кабинет. – Я думал, что он – чрезвычайно образованный человек из колоний, который отбился от своих, и теперь его нужно ненавязчиво протолкнуть обратно в мир науки. Однако не так давно я узнал от его жены, что у него есть очень серьезная проблема.
– Какая именно? – осведомился Ллойд-Гревиль, который явно досадовал на мое присутствие и в глаза мне не смотрел: перекладывал с места на место несколько бумажек в попытке изобразить, что занят наведением порядка на столе. Я посмотрел на него и понизил голос.
– Наркотики.
В этот миг должен был прокричать петух.
Ллойд-Гревиль выпалил, что заявит в полицию.
– Нет, он уже лечится, – сказал я. – Просто это продолжительный процесс. И жена его тоже говорит, что все уже гораздо лучше, чем было в начале.
– Я и не знал, что он женат.
– Женат, и у них очаровательный мальчишка.
Петуху прокричать бы во второй, третий и четвертый раз. Полезно было подкрепить впечатление, что я, мол, тоже, как и все прочие, включая его жену, был введен в заблуждение, при этом на самом-то деле он почтенный семьянин с почтенными жизненными ценностями, твердо вставший на путь исправления – пусть пути такие всегда оказываются долгими и скользкими, как это ни прискорбно.
– Бедолага.
– Воистину бедолага.
Потом, подумав.
– Он надо мной насмехался перед студентами.
«Имел полное право», – хотел я вставить.
Ллойд-Гревиль продолжил:
– Даже если он и женат, я подозреваю, что он выходил за определенные границы, если вы понимаете, что я имею в виду.
Ну еще бы!
Я попытался пошире раскрыть рот и изобразить на лице испуг и недоумение.
Чтобы поправить свою пошатнувшуюся репутацию, я предложил взять курс Калажа, пока на кафедре не найдут замены – это будет в начале весеннего семестра. А если не найдут, я согласен вести его и весной. «До меня доходили слухи, что с грамматикой у него хуже, чем я думал», – добавил я в надежде, что сойду за беспристрастного и трезвого наблюдателя, который не позволит дружеским чувствам заслонить преданность родной кафедре.
Пятый и последний крик петуха.
– Вы чрезвычайно нас обяжете, – произнес Ллойд-Гревиль.
– Все равно история грустная.
– Безусловно.
Он спросил, как продвигается моя подготовка к квалификационным экзаменам. «Неплохо». Я сообщил, что как раз дочитал автора XVII века, Даниэля Дайка.
Ллойд-Гревиль поморщился, а потом все же сознался в том, что, кажется, никогда не слышал про этого Даниэля Дайка.
– Оказал некоторое влияние на мадам де Сабле, – пояснил я, как будто речь шла о самом общеизвестном факте. Это заставило его примолкнуть.
Калажу я лгал меньше, чем Ллойд-Гревилю. Сказал, что по мере возможностей объяснил администрации, как он хочет преподавать и дальше и как его любят студенты, однако существует квота на число аспирантов, которым позволено преподавать, и преимущество всегда отдается тем, кто учится в Гарварде, так что ничего личного.
– И кто будет вести мой курс? – осведомился он.
Я надеялся, что он об этом не спросит.
– Все отказались от такого раннего времени, пришлось мне сказать, что возьму я…
Вот в такой уклончивой форме я сообщил ему, что, сам того не желая, только что поднял свои доходы на тридцать три процента.
Через несколько дней вечером я пригласил его в кафе «ешь сколько хочешь» возле Портер-сквер. После того как ему пришло письмо с кафедры, я делал все, чтобы нас не видели на Гарвардской площади вместе. Мы наелись до отвала, а потом пошли пешком ко мне домой. Ввергнув меня в смятение, он поднялся со мной наверх. Судя по всему, с последней подружкой у него не заладилось. Это ввергло его в еще большую мрачность. Я постарался намекнуть, что возобновил отношения с Эллисон и нам нужна квартира. «Я совсем не буду шуметь, обещаю, пришел поздно вечером, на заре принял душ и снова ушел». У меня не хватило духу ему отказать. Однако я попросил не держать у меня свои вещи. Эллисон не нравится, если; Эллисон расстраивается, когда; Эллисон скорее хотелось бы – я все валил на Эллисон. «Чего она вообще о себе воображает, эта ton Allisson[37]? Она кто, твоя невеста или женщина, с которой ты никаешься каждый день?»
Спасли меня слухи о двух квартирных кражах на нашей улице – слухи, которые я сам запустил как предлог, чтобы наконец поставить на дверь квартиры замок: я собирался сделать это с того самого дня, когда сказал, что буду рад, если он у меня поживет. Мы тогда проходили мимо «Сирса и Робака», и я приценился к замкам. У Калажа хватило такта не заострять на этом внимания, хотя я уверен, что его мое намерение задело. Он никогда не говорил мне, где спит, если не спит у меня на диване. А я не спрашивал. Я перестал ходить в кафе «Алжир» и в бары по соседству с Гарвардской площадью.
Увиделись мы несколько недель спустя. По его инициативе. В том же кафе «ешь сколько хочешь» возле Портер-сквер. Эллисон занята – уехала к родителям, сказал я. Засиделись допоздна. Потом он довез меня до дома, и я проследил глазами, как его таксомотор удаляется в сторону реки, исчезает из виду за Брэттл-стрит. Очередной вечер с его музыкой en sourdine, подумал я. Чувствовал себя полной сволочью.
Прошло несколько недель, он ограничился парой телефонных звонков. Отношения наши явно делались прохладными, да может, так оно и лучше, думал я. Пахал я как проклятый, зная, что до рокового дня осталось немногим больше месяца. Развлекался редко. На домашней вечеринке в начале зимы миссис Ллойд-Гревиль отвела меня в «наш потайной уголок» у себя в гостиной, и мы там обменялись игривыми колкостями. Миссис Чербакофф все спрашивала меня о здоровье родителей – и чтобы выяснить, живы ли они, и чтобы узнать, намерен ли я наконец-то сдать экзамены, чтобы папочка с мамочкой еще немножко подышали. Были обычные студенческие предрождественские вечеринки, на которые по обычаю полагалось приносить либо бутылку красного, либо кусок сыра бри.
После третьей предпраздничной вечеринки я проснулся среди ночи от очередного приступа желчекаменной болезни. На сей раз без всякого предупреждения, и боль была куда сильнее, чем в два предыдущих раза. Я с трудом стоял на ногах, меня тошнило, а дотянувшись до лба, понял, что у меня температура. Я набрал последний известный мне номер Калажа, но женщина, которая сняла трубку, не видела его довольно давно и желала ему поскорее сдохнуть.
– Он мой друг, – пояснил я.
– Был и моим тоже, так его и разэтак. Чтоб и ты сдох.
– Меня нужно отвезти в больницу, – объяснил я.
Она приехала за мной через пятнадцать минут и отвезла в тот же медпункт. Брюнетка, с кудрявыми волосами, изготавливает и продает ювелирные изделия, родители живут в Аппер-Ист-Сайд, и – да, дважды в неделю – в ответ на вопрос, ходит ли она к психотерапевту. Больше я ее никогда не видел.
В приемном покое меня ждали знакомые носилки, ласковая медсестра-англичанка, тот же молодой врач – его вызвали специально ради меня, и он все еще выглядел мокровато после душа в четыре утра. Через два дня меня прооперировали, удалив желчный пузырь. Палата моя – к этому все уже привыкли – постоянно была полна народу. Заходили студенты и преподаватели, в том числе Ллойд-Гревили, муж и жена, и Чербакоффы, муж и жена. Фрэнк с Норой вместе пришли и вместе ушли, пришла и Нилуфар – точно на похороны, с одиноким цветком, который впору бросить на могилу усопшего. Явился без всякого предупреждения Молодой Хемингуэй. Кстати, через полгода мы с ним крепко сдружились. А вот Калаж не пришел, хотя явно про все знал, потому что Зейнаб заходила ежедневно, а то и по два раза на день. Я все боялся, что он заявится, хотя часть души хотела, чтобы он пришел и чтобы ушел последним, чтобы можно было перекинуться шуточками по поводу всех этих нектарно-сиропных сердец, исполненных доброты. Я сильно бы порадовался, если бы он как следует поддел жену Ллойд-Гревиля и сообщил ей, – как, по собственным словам, сообщил женщине, пожаловавшейся, что он не довел ее до оргазма, – что лучше пусть бережет память о своем последнем оргазме, поскольку он, надо думать, случился еще до Французской революции. Впрочем, поставить его плечом к плечу с моим экзаменатором было бы безумием, а уж чего бы сам Калаж точно не хотел, так это встречи со своими бывшими студентами. Собственно, я-то вообще не хотел его встречи ни с кем из моих знакомых. Хотелось восстановить все внутренние перегородки.
Эллисон прослышала про операцию, однако не пришла. Вместо этого прислала букет, явно дорогущий. «Нет нужды говорить это вслух – чувства мои не переменились. Выздоравливай. Э.».
Я хотел было сразу же ей позвонить, попросить прийти ко мне незамедлительно, хотя часы посещений уже закончились. Хотелось, чтобы она всю ночь просидела у моей постели, держала мою руку поверх одеяла, пока морфин не одолеет боль и я не засну. Ради меня она была готова на все – и я знал, что готов на все ради нее. Но я не верил в себя, не верил в свою любовь, в свои собственные обещания, а уж тем более в людей, которые этим обещаниям верят. Лишь память о том, как бесцеремонно она вломилась в мою жизнь, улеглась на мой ковер и принялась, не обращая на меня никакого внимания, читать мой дневник, способна была пробудить нечто похожее на любовь. Вот только это была не любовь, а подобие любви. Во мне что-то увяло, и в ней увяло бы довольно скоро. Я по сей день оставался для нее загадкой, но именно эта загадка и стояла между нами. Ее привлекал налет чужеземности во всем, что я делаю, думаю и говорю. Скоро она разглядела бы синяки под этим налетом. Я винил ее в неспособности разглядеть синяки, дабы не винить себя в особо тщательном их сокрытии.
Когда через десять дней меня наконец выпустили, первым делом я отправился в кафе «Алжир». Мне сообщили, что Калаж там не появлялся уже давно. Не оказалось его ни в «Харвесте», ни в «Касабланке», ни в полуподвальном «Цезарионе». Я попросил номер его телефона и в ответ получил свой собственный. Решил отправиться домой. Но когда добрался до дома, мне там стало невмоготу: все напоминало об одиночестве, которое вроде бы удалось отогнать с появлением Калажа, удалось убедить себя: оно в прошлом. Звонить было некому. Я тосковал по Эллисон. По Екатерине. По Нилуфар. Линда – и та пришлась бы сейчас очень кстати. Все будто лишилось души. К вечеру мне даже не хватало стремительного топотка ног дежурных сестер. Я снова отправился в кафе «Алжир» – десять минут пешком. Калаж заметил меня еще до того, как я вообще поглядел в его сторону. «Ты с ума сошел, совсем спятил? – он действительно растерялся. – Тебе же лежать надо!» Зейнаб, которая сидела с бокалом в руке между Калажем и молодым таксистом-марокканцем, которого я до того видел лишь раз, взглянула на меня и объявила, что мне нужно немедленно сесть. «Ты бледный совсем. Сейчас упадешь». Мне принесли стакан газировки, Калаж заставил меня ее выпить, постоянно брызгая мне в лицо капли с кусочка подтаявшего льда. На миг я ощутил себя раненым Виктором Ласло из «Касабланки», который заходит к Рику в кафе, и суровые целеустремленные партизаны делают ему перевязку.
Калажа я не видел много недель. Он явно изменился.
– У тебя все нормально? – спросил он.
– Нормально. А у тебя?
– Так себе.
Типичные нотки сокрытого страдания, жалости к самому себе.
– У меня отобрали права, бессрочно. ФБР. Пришлось продать машину.
– Нужно сходить к твоему адвокату.
– Ты не хуже моего знаешь, что он жулик. В итоге выйдет дороже, чем машина.
– Нельзя так вот просто взять и отдать машину, нужно хоть попытаться что-то сделать.
У хозяина Леони есть приятель-юрист, которого можно бы попросить о помощи. Вот только Леони опасается, что ее бывший любовник так и не простил Калажа и предпочтет попросту убрать его с глаз долой.
– А масоны? – спросил я.
– Масоны… ну насчет масонов поглядим.
Молчание.
– А если все это не сработает – что ж, все, кто вот сейчас сидит в этом баре – это и к тебе, Зейнаб, относится тоже, – смогут потом сказать, что последний таксомотор-«чекер» в Бостоне водил чистокровный бербер, который очень гордился цветом своей кожи и своими друзьями.
Калаж был в отличной форме.
– Была бы у меня машина, я бы тебя прямо сейчас отвез домой.
– Отвезу, если попросит, – предложил молодой таксист-марокканец.
– Сколько раз тебя учить, – произнес Калаж в назидание таксисту, который был скорее моим ровесником, чем его. – Никогда не произноси «если попросит» с этакой медовой эрзац-интонацией в голосе. Говорить надо так: «Я тебя отвезу. Поехали».
– Ну, – пискнул оробевший марокканец, – так поехали?
Все рассмеялись.
– Мне сказали, что, если захочется, можно выпить, – сообщил я.
– А мне сказали, что тебе нужно домой, – с обычным своим покровительственным видом произнес Калаж.
Я знал, что я ему небезразличен. Но знал и то, что он затаил обиду и все мои ухищрения давно видит насквозь. Между нами повис холодок, и, хотя сам я давно этого хотел, противно было наблюдать, с какой легкостью он образовался, как будто занял именно то самое место, на которое давно уже имел все права.
О главном заговорила Зейнаб, как только Калаж сказал, что ему нужно пойти отлить.
Его депортируют, сообщила она. Даже масоны, не говоря уж об Обществе юридической помощи, ничего не смогли поделать. Решающим обстоятельством оказался его грядущий развод. Собственно, это даже и не развод. Брак аннулирован.
– Все равно мы можем попытаться что-то сделать, – сказал я, внутри ощущая, что сама решимость что-то сделать – уже хоть какое, да дело.
– Боюсь, в этой точке что-то делать уже поздно.
– А если он останется на нелегальном положении, сбежит, скажем, в Орегон или в Вайоминг?
– Вряд ли он согласится. Не хочет быть нелегалом.
– А что делать будет?
– Видимо, вернется обратно. Во Францию ему нельзя. Получается, что только обратно в Тунис.
Но ведь это все равно что перечеркнуть последние семнадцать лет его жизни – половину его жизни, подумал я. Вернуться в родительский дом, войти в спальню, где он раньше спал и где ему придется спать снова вместе с братьями, как и в детстве, вернуться туда, где он мечтал о Франции, которой тогда еще не видел, вернуться и осознать, что он не только увидел Францию, он еще и жил там, и женился, и больше, видимо, его не пустят туда никогда.
– Он же свихнется, – сказал я, внезапно представив, как меня возвращают в Александрию, с которой я распростился навеки. – Это все равно что второе рождение в жизнь, из которой тебе всегда не терпелось сбежать.
– Не второе рождение, – поправил меня марокканец. – Скорее вторая смерть.
– Похоже на то, да?
Вся жизнь Калажа состояла из «вторых смертей», как до, так и после Франции. Он был не из тех, кто полагает, что жизненный опыт неизменно идет на пользу, что в жизни ничего не бывает зря, что все наши встречи и все наши перемещения, включая сюда и самые гнусные и низменные места работы, играют некую роль в формировании наших окончательных сущностей. Все это эрзац-болтовня, а Калаж всегда слишком сурово относился к самому себе, чтобы мыслить в этом направлении. В его книге жизни не было прописано вторых шансов; просто запускаешь руку внутрь себя и отдаешь в заклад то немногое, что осталось от предыдущих смертей. Для него существовали только скверные исходы, жестокие причуды и непоправимые ошибки – а рядом с ними не было возвращения назад, искупления, исцеления, перехода на новый этап. Чтобы уживаться с самим собой, приходилось отрезать нанесшую оскорбление руку, отрезать, кромсать, ошкуривать, соскребать, отдирать от себя по клочку, пока не останутся одни лишь голые кости. Кости тебя и выдадут, кости свои не спрячешь и разглядывать их не прекратишь. И хочется одного: чтобы и других вот так же оголили полностью, до худобы, бестелесности, скелета – чтобы от тебя не ждали откровений и от них не требовали откровений, потому что и ты, и они знаете, просто знаете, как знает мать, знает брат, знает возлюбленная – истинная возлюбленная, что ты вычерпал себя досуха. Тем временем его злопамятный личный Бог более не пользовался посохом или скрижалями. Он выбрал себе иное оружие: гнев и «калашников».
Он думал, что я такой же оголившийся до костей легионер, брошенный возле того же колодца в пустыне с тою же пустой фляжкой и тою же неутолимой жаждой не одной лишь чистой воды. Я не оправдал его ожиданий. Он думал, что я, как и он, – человек до мозга костей, одна голая страсть. Только такой, как он, был в состоянии мне напомнить, что при всей своей досаде на новоанглийскую жизнь, при всей своей тоске по Средиземноморью я успел перекинуться на другую сторону.
Я представил его себе в костюме в тот вечер, когда студент пригласил его на ужин. В тот вечер искушал его Сатана эрзацем, и Калаж не устоял. Как не устоял и я. Никому не устоять.
Вернувшись, Калаж сказал, что поедет с нами в машине. Значит, нам выпадет вместе еще несколько минут.
В первый раз я сидел в его машине, а вел ее другой. Сам того не сознавая, я делал мысленные заметки: скручивание сигарет за рулем, ругательства, обращенные к Бостону и его неудобным узким переулкам, голос едва не срывается на гнев и негодование, потому что улицы здесь – дурацкий эрзац, время от времени – короткий свист, когда кто-то заслуживает одобрения, а ему не хватает английских слов, остается только свистеть. В машине он напомнил мне моего отца после того, как все его имущество, включая и автомобиль, было национализировано египетским правительством, так что он вынужден был ездить в чужих машинах и выглядел при этом скованно и неловко, поскольку перед ним не было руля. Калаж развалился на заднем сиденье собственного такси и до самой Конкорд-авеню показывал, куда ехать и как короче.
Когда мы остановились у моего дома, марокканец припарковался во втором ряду, а Калаж выскочил, чтобы помочь мне выйти. Помочь мне подняться по лестнице?
Не надо. Управлюсь. Однако он, как это принято у арабов, не стал садиться обратно в машину, пока я не скрылся на лестнице, ведущей на площадку первого этажа. Потом я услышал – машина отъехала.
Через два дня после того, как я едва не упал в баре в обморок, я повстречался на лестничной клетке с жилицей из Квартиры 43. У нее в руках были продукты, у меня – легкий полиэтиленовый пакет из «Коопа», я предложил помочь ей с ее мешками.
– Больше вечеринок не устраиваете? – спросила она, и в глазах ее поблескивала всегдашняя ирония.
– В последнее время нет. – Тут я вдруг осознал, что никогда не приглашал ни ее, ни ее сожителя на ужины, которые раньше готовил Калаж. Не хотелось даже прикидываться, что в ближайшее время будут еще вечеринки. Переезжаю в Лоуэлл-Хаус, сообщил я. Вид у нее сделался сокрушенный.
– Почему?
– Жилье бесплатное, ближе к Площади и библиотекам – лучше во всех отношениях.
– Зато никакого уединения, – заметила она.
– Верно, никакого уединения.
Мы изъясняемся иносказаниями? Она открыла свою дверь, впустила меня, я вошел в ее квартиру, потом в ее кухню, поставил ее пакет на столешницу. Ее квартира, как и Линдина, была зеркальным отражением моей. Меня этот факт заинтриговал – меня все в ней интриговало. Мы заговорили о квартирах: ее всегда интересовало, как там оно у меня. Хочет взглянуть? Я только что купил квинтет для кларнета Брамса. Сам себе подарил, добавил я в пояснение. На день рождения? Нет, только что выписался из больницы после операции. Желчный пузырь.
– Надо же! – А она напрочь забыла про ту ночь, когда ее друг отвозил меня в медпункт. – Но вы поправляетесь?
– Вроде как, – ответил я.
Ей нужно разложить продукты, а потом она ко мне заглянет.
– Латте хотите? Я как раз хотел себе сделать в неаполитанской кофеварке.
Она впервые слышала, что бывают неаполитанские кофеварки.
– Вот и посмотрите, – сказал я.
– А вам разрешили пить кофе?
– Спиртное разрешили, значит, кофе тоже не повредит.
– Хорошо, – согласилась она.
Выходить через парадную дверь я не стал, мне показалось интереснее выйти через черный ход, а потом войти через свой и оказаться прямо в кухне – как будто мы открыли ранее неизвестный соединявший нас туннель: он там был всегда, мы просто не обращали внимания. Понравилась мне эта мысль: из задней двери в заднюю дверь, все эти тайные проходы, потайные люки для поспешных ретирад и невозбранного доступа, пока друг ее, скажем, в душе или того и гляди позвонит в звонок. Понравилось мне попадать к себе через чужое жилище.
– Дверь я никогда не запираю, – сообщил я.
Она вошла, когда кофе уже почти сварился, сказала, что ей нравится запах, прикрыла сперва свою дверь, потом мою.
– Я вообще люблю, когда вы готовите кофе.
– А я люблю, когда вы по утрам жарите бекон.
Возможно, тем самым мы поделились знанием, что исподтишка наблюдаем друг за другом в надежде, что другой этого не заметит до того момента, когда обоих обуяет неодолимое желание в этом признаться.
– А мы вас никогда не приглашали, – произнесла она как бы извиняясь, и в тоне ее была толика сожаления.
– А я – вас. – Имея в виду, что мы квиты, ущерба не нанесено, никто не обиделся. – Просто вы там живете своей жизнью, не хотелось мне изображать назойливого соседа.
Она подумала.
– Вы не так про нас думаете, – произнесла она.
Когда вода закипела, я ей показал, как переворачивать кофеварку. Несколько растянул весь процесс – пусть посмотрит на то, чего еще никогда не видела.
– Кофе мягче получается, хотя он довольно крепкий, – пояснил я.
Потом мы слушали Брамса. Пили латте.
– У Брамса такая осенняя музыка.
– Да, – согласилась она, – очень осенняя музыка.
Особенно подходящей для нас обоих в этот предвечерний час в преддверии зимы музыку сделал звук кларнета, срывавшийся в причитание, но пытавшийся сохранить безмятежность.
А я все думал: если я ее поцелую, я переступлю черту?
Что-то сказало мне, что переступлю.
А спорить у меня сил не было.
Динамо-машинка моя остановилась. Калаж назвал бы мою собеседницу la quarante-trois[38].
Как я завидовал семейной жизни Квартиры 43.
Через несколько дней я увидел Калажа в «Харвесте». Я был с другой женщиной. Одной из своих студенток из Гарвардской вечерней школы. Она была меня старше и итальянским у меня занималась перед поездкой в Италию следующим летом. Итальянка в третьем поколении, темноволосая, смуглокожая, с красивыми губами, которые красила слишком густо. Однажды вечером после занятий она дождалась, когда все выйдут из аудитории, и спросила, не соглашусь ли я с ней поужинать. «Почему бы нет», – согласился я, тщательно скрыв удивление.
– Когда вам будет удобно? – спросила она.
– Я сегодня свободен, – ответил я, пытаясь развеять ее скованность: я заметил, что ей несколько неловко.
Сегодня у нас было второе свидание.
«А где же Эллисон?» – осведомился Калаж, попросту приподняв одну бровь. Я пожал плечами, отвечая: «Давай не будем об этом. Не сложилось». Он как можно незаметнее дернул плечом, имея в виду: «Ну ты даешь. Вечно все портишь». Я склонил набок голову, как бы признавая: «Ну чего тут поделаешь? C’est la vie[39]». Пока мы обменивались этими репликами, он пытался очаровать мою новую знакомую. «Нет, не из Саудовской Аравии – с моей-то кожей? Нет, и не из Алжира, не из Марокко, а из городка под названием Сиди-Бу-Саид, самого красивого из всех средиземноморских городков, где дома с побелкой, к югу от Пантеллерии…»
Она была очарована. На миг мне представилось, как все мы ужинаем вместе, как следующей весной ездим к Уолден-Понд, воскресными вечерами слушаем Chez Nous бесплатные гитарные концерты Сабатини, а потом смотрим за доллар кино в церкви Гарварда-Эпворта.
– Очень рад, что довелось с вами познакомиться, – сказал он, – потому что мы, скорее всего, больше никогда не увидимся.
Ошарашенный взгляд. Почему?
– Я уезжаю.
– Надолго? – спросила она.
– Навсегда, – ответил он.
Вопросительное движение моих глаз с вопросом: «Когда?»
– Через неделю.
А потом, как всегда, уходя, он отрывисто пожелал нам bonne soire и удалился. Решил, что мне нужно побыть с ней наедине.
Я видел, как, выходя из ресторана, он огибает подковообразный бар, как выходит на улицу, останавливается, складывает ладони у губ, закуривает. С сигаретой во рту он зашагал по Брэттл-стрит, двигаясь медленно, задумчиво, неуверенно, будто бы еще не решив, направится ли он в «Касабланку» или задержится тут еще немного, посмотрит вокруг, ведь не исключено, что это последний раз.
– Странный тип, – заметила она.
– Очень странный.
– Ваш друг?
– Вроде того.
Он снова попался мне на глаза, когда обогнул патио – видимо, шел в «Касабланку», а оттуда, наверное, перекочует обратно в «Алжир». По непонятному наитию я запечатлел в памяти, как он пересекает задний двор на пути в «Касабланку». А потом забыл запечатленное. Я уже думал о совсем других вещах, когда мне вдруг пришло в голову, что, наверное, мне удалось избежать слезливых прощаний, объятий, дурацких шуточек, призванных растворить ком в горле. Как будто даешь умирающему другу огромные дозы морфия, тем самым уклоняясь от его скорбного «прощай» в полном сознании.
Почему я сказал «вроде того», если должен был бы уяснить уже давно, что за все эти годы в Гарварде не было у меня человека роднее?
Он позвонил три дня спустя. Я сидел у себя в кабинете со студенткой, мы обсуждали ее работу. Он знал правила.
– Буду задавать вопросы, отвечай «да» или «нет».
– Да, – откликнулся я.
– Можем увидеться совсем скоро?
– Нет.
– Можем увидеться через час?
– Нет. Я на работе.
– Можно я тебя заберу через пару часов?
Вот уж чего мне совсем не хотелось допускать.
– Нет.
– Ладно, тогда вечером позвоню.
Позвонив вечером, он мне сообщил, что днем ему нужен был переводчик для интервью в Иммиграционной службе. Чего ж он прямо-то не сказал? «Сам не помнишь? Ты не мог говорить». Да оно всяко неважно, потому что Зейнаб поехала с ним в центр и все перевела. Вот только с мужчиной, да еще и гарвардцем, ему бы было спокойнее. То, что он пришел с женщиной и тоже арабкой, могло произвести неверное впечатление, особенно в связи с аннуляцией брака и всем прочим. Визит в любом случае оказался коротким. Его дело закрывают.
– Есть время сегодня вечером быстренько выпить в компании друзей? – спросил он.
Судя по всему, намечалось прощальное сборище.
– Сегодня нет. – Я попытался создать впечатление, что не один. Сделать вид, что упустил ненавязчивый намек на расставание.
– Тогда, возможно, мы больше не увидимся. Меня могут завтра отправить. Но пока неясно.
– Тебе билет на самолет дали?
– Иммиграционная служба не турагентство, – он расхохотался над собственной шуткой.
– Эти суки не могли тебе сказать, когда именно тебя отправляют? – Я пытался сделать вид, что мой едва сдерживаемый гнев обращен против гнусных типов из иммиграции, и я должен разобраться с их скандально непредсказуемым поведением прежде, чем перейти к менее насущному – расставанию с другом навеки. На самом деле я просто громко шумел, чтобы не дать ему возможности повторно пригласить меня выпить с друзьями.
Он все понял. В этом он был куда смекалистее моего.
Мне потребовалось несколько секунд, чтобы осмыслить ужасающий факт: я любыми средствами хочу избежать слез при прощании. Только бы он не плакал. Только бы не заплакать самому. Никаких объятий. Никаких аффектированных обещаний. Никаких выспренних слов, в которых прозвучит больше печали, чем каждый из нас на деле испытывает. Никаких хлюпающих выражений чувств. Полный разрыв. Я оказался закоренелым и безнадежным эрзацем.
– Завтра позвоню, расскажу, что к чему… Bonne soire.
Почти весь следующий день я провел в Библиотеке Уайденера, подальше от телефона. Давно пора было приступить к конспектированию того, что потом придется излагать на экзаменах.
Когда я ближе к вечеру вернулся домой, в почтовый ящик мой был засунут вырванный откуда-то листок бумаги. Я подумал – от Екатерины. «Пытались с тобой связаться. Калаж сказал – наверное, ты в библиотеке. Не хотел тебя там беспокоить. Попросил меня попрощаться от его имени. Зейнаб».
Помню, что в тот момент я почувствовал только укол чего-то не имеющего названия: чего-то среднего между невыносимым стыдом и невыносимым горем. Я это сделал. Не кто-то другой. В жизни мне еще не случалось пасть так низко. Я почувствовал себя человеком, который все откладывает визит к умирающему другу. Каждый раз, как умирающий звонит и просит зайти на минутку, этот самый друг – под предлогом того, что больного необходимо подбодрить, – изображает полную беспечность. Завтра попробую. «Завтра может и не быть», – замечает умирающий. «Ну вот, опять начал. Да ты всех нас переживешь».
И вот еще что: стоило мне почувствовать этот прилив невыносимого стыда, как вслед за ним накатило мгновенное облегчение, изумительное чувство легкости, какого я не испытывал с той ночи, когда ушел от Нилуфар, – свобода, радость, простор, как будто некая мучительная докука, которая меня давила, глодала и обездвиживала много месяцев, внезапно исчезла. Я воспарил, легкий, как воздушный змей, пронзающий облака.
Мне страшно захотелось отыскать его и рассказать про это странное чувство легкости – будто я сделал изумительное открытие касательно общего знакомого или проник в истину касательно человеческой природы, и догадкой этой нужно немедленно поделиться, потому что из всех людей на свете только он достаточно сведущ в скрытых пружинах мудреного механизма души.
Но теперь я мог спокойно отправляться на Гарвардскую площадь и не вздрагивать от мысли, что его встречу. Мог заходить в кафе «Алжир» и не переживать, что он окажется там, заглядывать в «Касабланку» и не готовиться заранее к тому, что придется выслушать очередную тирду, что тебя обязательно перебьют, можно было не репетировать заранее очередную литанию оправданий. Вместо этого я волен был сидеть за столиком и ни с кем не разговаривать, как в то августовское воскресенье, когда читал Монтеня. Просто сидеть, заниматься своими делами, погрузившись в себя, накрепко закрыв ту дверь, которую я случайно распахнул в то знойное августовское воскресенье, когда подошел к незнакомому человеку и обнаружил того, кто за вычетом случайных подробностей мог быть мной, – правда, мной без надежды, без опоры, без будущего.
Ощущения мои напоминали ощущения жителей страны, в которой только что умер тиран-правитель. В первый момент город притихает, все скорбят, отчасти из неверия, отчасти потому, что жить, торговать, дружить, любить, есть и пить вроде как невозможно, если всем этим не руководит тиран. В тот миг, когда привычный мир меняется, в нас неизменно что-то умирает, и горе не бывает неискренним. Но вечером дня смерти тирана машины начинают гудеть, люди почему-то кричат «Ура!», и довольно скоро весь город, который утром еще дрожал и пребывал в ступоре, словно оказывается во власти карнавала. Кто-то залезает на крышу автобуса и размахивает запретным знаменем, его поддерживают громкими криками, все умирают от желания его обнять. На площади полно народу. Всеобщее ликование.
Я страшно ему сочувствовал, страшно за него переживал, все думал, как он наверняка оглянулся в аэропорту, чтобы бросить последний долгий томительный взгляд на Бостон, на поражение и предательство, на те вещи, которые внушали ему непреодолимые страх и ненависть и теперь отравляли ему очередной укол изгнанничества. Сколько раз, наверное, возил он пассажиров в аэропорт и думал при этом: «А ведь придет, придет день, когда на их месте окажусь я».
При этом моя жалость к нему все-таки оставалась вымученной. Знал я – когда собрался в тот вечер выйти из кафе «Алжир», уже ощущая нечто вроде счастливой упругости в походке, – что пусть даже я и стану разыскивать его тень и отдавать ей дань уважения – так люди приходят с покаянием к могиле святого, к убиению которого, возможно, причастны, – я буду одновременно следить за тем, так ли сильно по нему тоскую, как следовало бы. Ответ мне был известен. Но все же хотелось убедиться окончательно. Плюс хотелось своими глазами увидеть, что он действительно отбыл и никогда не вернется. Хотелось заранее заглянуть в жизнь без Калажа. Часть души готова была праздновать, вот только не стану я праздновать, не зная наверняка.
И в тот момент, когда я был готов уже смириться с его отбытием, я поймал себя на мысли, что он ведь запросто может вернуться, объявить, что все оказалось ошибкой, его отвезли в аэропорт, но в самый последний момент из канцелярии губернатора пришла отмена ордера. «Я вернулся, Калаж вернулся», – выпалит он, заключая всех посетителей кафе в крепкие медвежьи объятия.
Я знал, что делаю. Я позволил себе в подробностях представить себе его возвращение, которого так страшился, – не только ради того, чтобы воздать должное своим более благородным инстинктам, но и чтобы насладиться моментом, когда я толчком пробуждаюсь от этой мимолетной фантазии к осознанию, что нет, он уже не вернется, он исчез навеки, бесповоротно. Кембридж показался мне вольготнее, спокойнее, и от этого вечера в конце декабря внезапно повеяло стужей, и это пришлось мне по душе. Да, я чувствовал себя свободным – так мир, видимо, ощутил невообразимую свободу, когда последних титанов на совесть отмутузили и отправили восвояси.
Когда я добрался до кафе, место его действительно пустовало. Никто из знавших Калажа завсегдатаев не хотел там сидеть. Тем самым они молча воздавали ему должное. Здесь раньше восседал король, отсюда он произнес последнее «прощайте». «У меня ком вот тут вот», – заявил Сабатини, указывая на свое горло. У Зейнаб тушь кровью растеклась вокруг глаз. «Хорошо, что ты пришел, – сказала она, обняв меня на кухне, куда я отправился ее искать. – Потому что тебе-то он доверял». Я в ответ – ни слова. «Тебе, в отличие от всех нас, никогда и ничего от него не было нужно».
Я не знал, как к этому отнестись, решил не реагировать. Зато знал, что своим молчанием как бы выражаю безусловное согласие. Зейнаб липкой лентой приклеила к стене набросок его лица, сделанный девицей, нуждавшейся в частых посещениях туалета. На нем остались следы сгибов, ведь Калаж держал его в одном из многочисленных карманов своей камуфляжной куртки. Виден был даже круглый кофейный след мокрого блюдца, и этот след вернул меня обратно в то летнее утро, когда он прыскал яростью в адрес женщины, которая взяла его к себе и обошлась с ним по-доброму.
Из «Алжира» я отправился в «Касабланку». Об отъезде Калажа знали даже бармен и некоторые официанты. Знали и бармены из «Харвеста». Я заказал бокал вина, встал у подковообразного бара в «Харвесте», притворился, что дожидаюсь его, что он вот-вот появится. Но на память приходил лишь тот вечер, когда он на моих глазах вышел из бара, а потом вдруг остановился снаружи закурить сигарету, которую при нас сворачивал. На моих глазах он немного помедлил и наконец вошел через заднюю дверь в «Касабланку», от задней двери, надо думать, двинулся и в сам бар, а из него – к заднему входу в кафе «Алжир». Я вспомнил уклончивое трепетание шутливой улыбки у него на губах, когда он уловил мои бессловесные сигналы, и как разговор наш прервало вечное его отрывистое «Bonne soire», неизменно приправленное дружелюбием, наилучшими пожеланиями, вспышкой задиристого веселья. Отпечатки его пальцев остались по всему Кембриджу.
Второй бокал вина я заказал еще до того, как опустошил первый. Не хотелось, чтобы бармен подумал, будто я собираюсь выпить их залпом, я сделал это ради создания иллюзии, что со мной рядом пьет Калаж. Наверное, все еще хотелось понять, правда ли мне его не хватает. В итоге бокалов я выпил четыре. Вот тут мне стало серьезно его не хватать – однако я отчетливо сознавал, что сам я тут ни при чем, дело в вине.
Перед тем как выйти из «Харвеста», я обернулся и – чтобы проверить, каким вкусом отзовутся эти слова у меня во рту, или чтобы услышать, какое впечатление произведет на меня их звук, пожелал «Bonne soire» метрдотелю-французу, а потом, в подражанье Калажу, стремительно вышел. Те же слова я повторял, шагая по Брэттл-стрит, не перестал и на Беркли-стрит, пока не понял, что делаю: расстаюсь навеки с кафе «Алжир», со всеми, с кем там подружился, с Зейнаб и Сабатини, алжирским и марокканским таксистами, со всеми, с кем перезнакомился через него, с «Харвестом», «Касабланкой» и воскресными вечерами в церкви Гарварда-Эпворта, с набором наших привычных слов, который начал складываться с первого дня, с душевной близостью, которая из этого набора выросла. Я говорил «Bonne soire» бесчисленному множеству новых вещей, которые он принес в мою жизнь: ужинам с друзьями, ужинам наедине друг с другом, «счастливому часу», духу единомыслия, которого всегда не хватало в моей жизни и который помогал нам обрести единую почву под ногами в те часы, когда его тревоги по поводу грин-карты и мои тревоги по поводу научной карьеры ввергали нас обоих во мрак, и развеять его могли только женщины, случайно забредавшие в нашу жизнь и приносившие нам особое счастье потом, когда мы обсуждали их уже после. Я говорил «Bonne soire» нашему крошечному оазису, воображаемому средиземноморскому алькову, уголку Франции, где бары вот-вот закроются на ночь, моему иллюзорному образу самого себя как стоика-одиночки, заброшенного на бескрайнюю холодную безлюдную мглистую равнину, ту, что сделалась моим американским домом. Я стал одним из «них», возможно, был им всегда, был к тому предназначен, вот только сам этого не знал или отказывался это признавать, пока не встретил Калажа и не утратил Калажа.
Рождество я провел в Кембридже, один. За эти три недели прочитал больше, чем с момента встречи с Калажем почти полгода назад. В январе пересдал экзамены. Пересдал успешно, через четыре дня был допущен к устным. И там все прошло хорошо. Первого февраля распрощался с Конкорд-авеню и переехал в Лоуэлл-Хаус.
Некоторое время после отъезда Калажа мне время от времени попадался на улицах его старый тасомотор – за рулем сидел марокканец. При виде его у меня каждый раз екало в груди – отчасти от ужаса, отчасти от радости, затем накатывало чувство вины, завершалось все неизбежным пожатием плечами. Мне случалось столкнуться с марокканцем, поначалу мы здоровались, а потом, когда стало ясно, что сказать нам друг другу нечего, кроме «Не слыхал о нем чего?», за чем следовало торопливое: «И я тоже», мы повадились отворачиваться. По-французски марокканец говорил с другим акцентом, был застенчив и не мог никого задеть, даже если бы и попытался. В кафе «Алжир», где поначалу я видел его довольно часто, он робко, шепотом, точно заговорщик. Я каким-то образом сообразил: алжирец Муму предупредил его, что Калажа наверняка депортируют, и сказал: главное – дождись, когда он вынужден будет продать машину. Меня это злило.
И все же каждый раз, поймав взглядом его таксомотор, я вспоминал то ясное солнечное утро, когда Калаж высунулся из окна – он объезжал Гарвардскую площадь по кругу – и громогласным приветствием вывел меня из ступора и вернул в здесь и сейчас. В тот день меня так воодушевило, что в жизни моей есть такой человек, воодушевило и то, что он застрял в пробке и не сможет ко мне присоединиться. Эти противонаправленные импульсы так и не удалось примирить, они копошились у меня внутри даже после его отъезда: хотелось его поискать, но с надеждой, что не найду. Когда его старый таксомотор ехал по Масс-авеню или стоял на Брэттл-стрит, в душе моей всплывали чувства и вопросы, ломать над которыми голову мне больше не хотелось: стоило им всплыть на поверхность сознания, они тут же отметались – незамеченные и безответные. Я все твердил себе, что надо как-нибудь нанять его машину и прокатиться. Но так и не нанял, отчасти потому, что на такси у меня никогда не было денег, отчасти потому, что я знал – едва открыв дверцу, я обнаружу именно то, что искал: запашок старой растрескавшейся кожаной обивки, которая всегда напоминала мне про обувные магазины; перекошенные откидные сиденья, на которые он не позволил двум мальчикам усесться, остановив машину возле Уолден-Понд; неискоренимый запах сигаретного дыма, который – а ведь тогда я не обращал внимания – как бы окутал его навеки. Нет, нельзя мне было садиться в этот таксомотор: я же никогда не ездил в нем сзади. Когда мы запрыгивали в машину, или он подвозил меня домой, или однажды ночью отвозил в Бруклин, потому что мне страшно хотелось переспать с девушкой, которая там жила, я всегда садился с ним рядом. Я говорил себе, что рано или поздно все-таки остановлю это такси – может, незадолго до отъезда из Кембриджа. Да все забывал. Потом этой машины в городе не стало. Потом не стало и меня.
Эпилог
Когда мы с сыном вышли из приемной комиссии, я предложил прогуляться пешком до моего бывшего дома на Конкорд-авеню, а уж потом вернуться на Площадь. Это рядом с патио и станет последним местом, которое я посещу с сыном вместе. Место это я приберег напоследок.
Парадная дверь была, как всегда, заперта. Но из нее как раз кто-то выходил и с торопливым кивком-приветствием пропустил нас внутрь. Почтовые ящики остались теми же, запах в вестибюле остался тем же, домофон – тем же, лифт так и не установили. Ничего не изменилось.
Я посмотрел на список имен рядом с домофоном. Квартиры 43 уже нет, нет и имени Линды, да и моего имени – казалось бы, чему удивляться, – тоже нет. Мною из Квартиры 45 сделался кто-то другой. Я показал имена сыну, будто все еще пытаясь отыскать собственные следы. Сын, похоже, решил, что я окончательно спятил.
Мне сделалось неловко, будто я донор, который пришел посмотреть, просто посмотреть, продолжает ли орган, когда-то бывший частью его, функционировать в другом теле. Я мог бы позвонить в домофон и подняться наверх, а потом, может, объяснил бы полицейским – когда меня, закованного в наручники, уволокли бы в участок за незаконное вторжение на территорию, на которую я вернулся взглянуть, всего лишь взглянуть, инспектор. Но даже просто взглянуть я был не готов. Трудно сказать, на что я пришел взглянуть, но я это что-то либо уже нашел, либо оно мне не больно и нужно, либо время непоправимо его исковеркало и нет у меня желания смотреть на то, к чему я более нечувствителен.
Совершенно то же самое произошло накануне в кафе «Алжир». Я сперва остановился у входа в «Харвест» и, даже не заходя, увидел, что там все изменилось. Подковообразный бар, где я выпил тот последний бокал в одиночестве и в мыслях о нем, разобрали. Места, где он стоял в тот вечер, когда я делал вид, что его не замечаю, а он все знал, знал – и все, тоже больше не было. Вместо того чтобы зайти, я открыл дверь и попросил у метрдотеля экземпляр сегодняшнего меню. «Voil», – откликнулся он.
– И что ты с ним будешь делать? – осведомился сын, который постоянно пытался придать нашим блужданиям по закоулкам памяти шутливый оттенок.
Я понятия не имел, что я буду с ним делать. Скорее всего, просто оставлю в гостиничном номере. Или выброшу. Вот только я его не бросил. Оно и по сей день висит в рамке у меня на стене.
Мы дошли до кафе «Алжир» и постояли снаружи, как и накануне, посмотрели на знакомую бело-зеленую виньетку на меню.
– Ты у этих тоже меню попросишь? – поинтересовался сын.