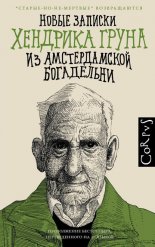Прощай, Гари Купер Гари Ромен

— Мы участвуем в Швейцарском национальном освободительном фронте, первая пуританская дивизия, под к… к… командованием генерала К… Кальвина. Несчастный весь взмок от волнения. Странно, однако, видеть, Гунга Дена, потеющего в центре Женевы.
Джесс пришла в голову гениальная мысль.
— Генерал Кальвин, вы же знаете. Этот знаменитый еврей.
— Еврей? Он сглотнул.
— Я хочу купить у вас эту фотографию.
— Прекрасно. Вы отдаете нам все наличные, которые у вас при себе, и ваши часы. Да, и рубин тоже. Вот вам фотография и негатив, с наилучшими пожеланиями от генерала Кальвина. Так, теперь вы свободны. — Он встал. — А кто это, генерал Кальвин?
— Моисей Кальвин. Наш духовный наставник. Главный муфтий Женевы. Это наш Ганди, вот. Че Гевара, если хотите. Короче, Даян.[20] У вас двадцать четыре часа, чтобы покинуть Женеву, в противном случае вас ждет Тель-Авив. Она вдруг заметила, что Поль уже приложился. Лицо у него было бледное, как у ярого фанатика, нос кверху. В один прекрасный день он точно что-нибудь взорвет: не голова, а пластиковая бомба. Он только об этом и говорил. И все — из-за того, что ненавидел папулю. Однажды он нашел в рисовом пироге, одном из тех fortune cookies,[21] которых навалом в китайских ресторанах, один афоризм, который весьма его позабавил, потому что это доказывало, что даже китайские рестораны были теперь не те, что прежде. В нем говорилось следующее: «Ты не должен убивать отца своего, если только это не будет добрым делом». Она передала Полю клочок бумаги. Несчастный багдадец уже ничего не понимал. Она потянула Поля за руку: он сжимал кулаки. Гунга Ден был здесь совершенно ни при чем. Оставалось признать, что старые добрые отношения между причиной и следствием приказали долго жить. Родителям повезло, у них были Гитлер и Сталин, на которых можно было все свалить, но сегодня уже не было ни Гитлера, ни Сталина, и виноватым оказывался практически каждый первый. Если вы были негром в Соединенных Штатах или парией в Индии, вы хотя бы четко представляли, о чем, собственно, речь, но если вы были молодыми белыми, заваленными дипломами и прекрасно информированными, все значительно усложнялось. Поль говорил, что «перманентная революция» представляла собой нечто вроде воздействия живописи Джексона Поллока[22] и «непосредственных», непрерывное творчество. Да, но что они создавали? Сделать что-либо, чтобы потом это переделать, с тем, чтобы создавать и тут же перевоплотить созданное в нечто новое, таково было эстетическое видение мира современного общества. Может быть, как писал Хо Ши Мин, анархия и искусство двигались по направлению к полному слиянию, но это ставило ребром вопрос о смерти.
Они вышли из кафе и даже помогли подуставшему Гунга Дену сесть в такси.
— Приятный человек, — сказала Джесс. — Я видела напечатанные в «Тан» фотографии детей, которые умирают от голода в его стране.
— Осторожно, Джесс. Не трогай святое. Это был всего лишь студенческий розыгрыш, ничего больше. Никакой общественной цели. Просто игра. Во всех сумасшедших домах игра рассматривается как рекомендуемое средство терапии.
— Вспомни, что они там, в Праге, говорили, реабилитировав Сланского,[23] после его повешения?
— Они говорили: «Что за идиотские игры!» Если так говорить, фашизм никогда не исчезнет. Они всегда найдут что-нибудь еще более отвратительное. Фашистский романтизм, это как соцреализм: обыкновенная демонстрация самой мощной духовной силы всех времен. Идиотизм. Из кафе выбежал официант и уставился на них, как теленок, которого внезапно осенило, и он вдруг с ужасом осознал, что его мать — корова.
— Извините… Вы кое-что забыли… Он держал в руках доллары, часы с платиновым браслетом и рубин. Поль поморщился:
— Ну и что? Бросьте это в помойку. Швейцарец был уничтожен. На лице у него появилось странное выражение, как будто он считал падающие на пол блюдца.
— Что с… с вами? — забеспокоился Жан. — Давно известно, что в других Солнечных системах есть мыслящие существа. А для мусора — мусорные бачки.
— Вы не можете это сделать, — сказал примерный гражданин с сильным водуазским акцентом. — Здесь же целое состояние.
— Он прав, это отдает атеизмом, — согласилась Джесс.
— Мадемуазель, — сказал официант, — я мог бы быть вашим отцом…
— Вот свинья, — возмутилась Джесс. — Вы хотите, чтобы я позвала полицию?
— Вы не можете делать подобные вещи в Швейцарии.
— Отчего же? Это «Моральное перевооружение».[24] «Моральное перевооружение» в Швейцарии. Они сели в «порше» и медленно тронулись к озеру.
— Зато с… сделали что-то п… полезное… — заметил Жан.
— Ну, хватит, — процедил сквозь зубы Поль. — Забавы богатеньких сынков. Расстреливать таких надо. К сожалению, если, скажем, мне позволено было бы выбирать, я не вижу вокруг ни одного человека, которому хотел бы поручить собственный расстрел. Вы не могли не заметить, что все мои речи звучат напыщенно и вычурно до отвращения. По крайней мере, в одном деле марксизм преуспел: мы все обречены кончать в одиночестве. Это то, что называется «абсурдом». Альбер Камю, пророк абсурда, погиб в абсурдной автомобильной аварии, и это, кажется, доказывает, что он ошибался и что в жизни все-таки есть определенная логика. В конце концов, «Смутное отчаяние» в качестве названия — лучше, чем «Нежность камней». Джесс Донахью, лауреат Нобелевской премии за стремление к чему-то. В общем, все это уже было задолго до нас. Раскольников, например, мучившийся «болезнью века», потом Weltschmerz,[25] или «нигилизм», путешествие словаря сквозь века. Даже в сонетах Шекспира не было следа надежды. Правда, они тогда все поголовно болели сифилисом… Глубокая грусть сонетов Шекспира и всей лирической поэзии современной ему эпохи связана с тем, что любовь в то время почти всегда сопровождалась сифилисом. Семеро из десяти разносили эту гнилостную заразу. Вот почему стихи о любви звучат так грустно. От этого теряли разум или зрение, и не было никакого средства его вылечить. Поэтому любовь становилась чем-то ужасно важным: вопросом жизни и смерти, буквально. Сегодня любовь бесследно исчезла из современной литературы. Она потеряла свою важность и трагический характер, когда избавилась от сифилиса. Кстати, это могло послужить неплохим сюжетом для статьи в «Швейцарском ветеринарном журнале», где Джесс вела литературную страничку. Над ней посмеивались, потому что она писала для этого журнала: мужчины не любят интеллектуалок. Еще она умела махнуть на себя рукой, что являлось необходимым условием психологического выживания. Французы не понимали юмора: у них всегда складывалось впечатление, что все шутки метят в де Голля.
— Я не говорю, что де Голль — антисемит. Нет, совсем наоборот. Для него все люди равны. Он не антисемит, но он хочет, чтобы евреи были ему за это благодарны. А это и есть антисемитизм.
Она уже готова была переспать с Полем, тогда, в самом начале, но они вместе принимали участие в «долгом марше» протеста против бомбы, в Англии, в 1962-м, они оба состояли в женевском Комитете по борьбе с расовой дискриминацией, они испробовали полицейских дубинок, выступая бок о бок с Карлом Бёмомх[26] во время операции «Иерихон» против Берлинской стены; все это не могло не отразиться на их личных отношениях, которые тоже стали чисто платоническими. Теперь уже сложно было вот так, вдруг, сбросить с себя одежды и перейти непосредственно к действию. Ко всему прочему примешивалась еще и мужская пропаганда. Они старались сорвать с любви покров таинственности, охаивая ее «буржуазной сентиментальностью», только затем, чтобы снять ее без лишних хлопот. Стоило ополчиться на потребительское общество, когда любой ценой пытаются превратить сексуальное удовлетворение в продукт ширпотреба! Словом, озабоченное поколение.
— И что самое гнусное, так это то, как они стараются замутить воду, — говорил Поль. Дубасят прово[27] в Амстердаме? — прекрасно. Но этот их отеческий тон, когда они толкают тебе фуфло типа: «Нужно понимать молодежь, нужно доверять молодым», это же просто смешно. Они пытаются создать новый класс: «молодежь». С какой целью? Чтобы внести элемент разнообразия в настоящую классовую борьбу, которую одну только и можно считать настоящей. Изобретают себе класс молодежи, внутри которого пролетариат и буржуазия должны, по идее, объединиться в братском союзе. Короче, нейтрализация. С Полем она познакомилась в Университете, а с Жаном — в Саудовской Аравии, где ее отец находился в качестве поверенного в делах Швейцарии. В Саудовской Аравии был один из самых трудных дипломатических постов, которые им с отцом приходилось занимать: мухи, знаете ли, и потом, вас даже не пускают в мечети. У детей дипломатов жизнь была какая-то совершенно нереальная: играли в теннис на посольских кортах и разговаривали о повешенных и голоде так, будто это происходило на другой планете; история жужжала, жужжала вокруг вашего теннисного корта, но входить ей запрещалось; так, закупоренные в экстерриториальной зоне, вы начинаете чувствовать себя внеземным существом. Вам не дают проникнуться несчастьями той страны, где вы находитесь: это было против хорошего тона в дипломатии. Вы пребывали в каком-то состоянии невесомости; вам запрещалось возмущаться, выражать свое мнение; следовало быть вежливым с последней сволочью, которая сегодня захватила власть, нужно было принимать национализм как «необходимую ступень», приветствовать «священное право каждого народа на самоопределение», которое, в сущности, было не чем иным, как правом подставлять свой народ, подтасовывая результаты выборов. Маккарти, помнится, поимел в свое время и красных «коммунистов», и «голубых» Госдепартамента, но даже он не трогал алкоголиков. Странно все-таки… Самыми уязвимыми оказывались те, кто хуже всего переносил неприкосновенность.
Они проводили ее до «триумфа», она села за руль и отправилась в клинику за отцом.
Глава V
Парк был красивый, с тихими деревьями и кустами роз, желтых и белых; овцы спокойно пощипывали себе травку на зеленых лужайках, которые были ничуть не хуже вергилиевских, и, наконец, во всем мире трудно было найти другое такое место, где шизофреника кормили бы лучше. Очевидно, главная и единственная цель состояла в том, чтобы всевозможными военными хитростями вызвать у пациентов интерес к реальности. В прошлый раз, например, ей довелось услышать беседу больного, страдающего маниакальной депрессией, с параноиком, обсуждавших достоинства морского языка в заварном тесте по-королевски и осетра фаршированного а-ля Ватель.[28] Забавно. Администраторша, сухопарый седеющий стручок в костюме от Шанель, уже подготовила счет, лежавший сейчас у нее на столе, но это было такое заведение, где не принято удерживать ваш багаж, даже если вам нечем расплатиться. Слишком респектабельное. Во всяком случае, они принимали дипломатов, даже нищих, это был вопрос престижа. Она уже продала старинный золотой портсигар русской работы, которым ее отец очень дорожил, но у них оставалось еще несколько роскошных ковров. К тому же в Госдепартаменте обещали повысить выплаты на размещение. В любом случае надо было на что-то жить и хорошо выглядеть, мы — Дипломатический корпус или кто?
— Не могли бы вы отправить счет в Консульство? Я не уверена, что у отца чековая книжка сейчас при себе. Как он?
— Очевидное улучшение, мисс Донахью. Честно говоря, хотя мы здесь стараемся избегать подобных утверждений, ко мы считаем, что он совершенно выздоровел.
— В прошлый раз вы говорили то же самое. Мне двадцать один год, и я никогда еще не видела хронического алкоголика, который бы совершенно выздоровел. Все, чего можно добиться в таких случаях, это научиться с этим жить. Улыбку дамочки немного скривило.
— Конечно, следует подождать еще какое-то время, прежде чем вынести заключение. Одно из самых идиотских клише в психиатрии — это утверждение, что алкоголики пьют, потому что не могут приспособиться к реальности. Ведь человек, который умеет приспособиться к реальности, — обыкновенный сукин сын, вот и все. Отец спускался по лестнице: довольно красивый еще мужчина, моложавый, со смеющимся взглядом; при его появлении на вас веяло спокойной силой и уверенностью, исходившими от него, он распространял какую-то внутреннюю дисциплину, абсолютное самообладание; всем своим видом он, казалось, говорил: «Итак, поделитесь с нами, полагаю, я смогу решить все ваши проблемы». Он, как никто другой, заслуживал первого приза в искусстве показывать товар лицом на улице Фобур-Сент-Оноре.[29] Досадно только, что на складе не оказалось достойного товара, который мог бы произвести надлежащий эффект, когда его так мастерски выставляют в витрине. Эта улыбающаяся уверенность помогала ему лишь в методическом саморазрушении. Может, у него были для того какие-то глубоко лежащие причины, коих она не могла постичь, однако Джесс не верила в эти тайные пропасти, в которых психоанализ ищет собственные фантазии. И что вообще это значит — «глубина»? Чрезмерно раздутая банальность гомосексуализма и эдипова комплекса? Это — ваша пропасть? Не удивительно, что подрастающее поколение уже не может слушать о Фрейде без смеха. Ее отец мог бы получить самых богатых невест, самые лучшие дипломатические посты, самых красивых любовниц: к счастью, он был слабым, уязвимым и обожаемым, и у него была только она. Он обнял ее за плечи и поцеловал в щеку:
— Пойдем скорее, Джесс, ужасно хочется пить. Она рассмеялась, но прогресс и в самом деле был: руки его перестали дрожать. Так, в обнимку, они и дошли до машины. Он спешил как ненормальный, и что замечательно, старая лесбиянка ни словом не обмолвилась о выписанном счете. Все-таки, надо признать, учреждение было высокого класса. Мы, пожалуй, опять сюда придем. Он ждал, пока она положит его чемодан на заднее сиденье. Чтобы он позволил ей таскать его чемоданы? Если он даже не попытался помочь ей, значит, физических сил у него просто не было. Нет, не из-за плохого ухода — ему мучительно не хватало алкоголя. Когда-нибудь она еще напишет кое-что по этому поводу.
Они медленно покатили под аркадой старых цветущих каштанов.
— Ну, Джесс, я слушаю. С какой скоростью мы идем ко дну?
— Сейчас пока ничего серьезного. Поставщики невнятно угрожали пожаловаться в Протокольный отдел, но они все время так делают. Швейцарцы терпеть не могут дипломатические привилегии, так что, когда им удается наложить лапу на одного из нас, начинается травля. Нет, правда, эти деньги, они у меня уже вот где… В общем, понимаешь, что я хочу сказать. Он рассмеялся. Она обожала эти морщинки, которые расходились вокруг его глаз, когда он смеялся. Все вокруг говорили, что она влюблена в своего отца. И что он влюблен в свою дочь. Что с них взять — это составляло неотъемлемую часть интеллектуального багажа среднего дебила. Однако они не постигали всей серьезности положения. Она любила его, как любят своего ребенка.
— Знаешь, я иногда жалею, что ты такой, какой ты есть. Он собрался рассердиться.
— Джесс!
— Да, я жалею, что ты — не мерзавец. Нам было бы гораздо спокойнее. И моя мать тебя бы не бросила.
— Может быть, я им когда-нибудь и стану. У меня, ты знаешь, тоже есть свои великие мечты.
— Ну и до чего ты домечтался?
— До полного выздоровления! Иногда я просыпаюсь посреди ночи и ничего не чувствую. Абсолютно ничего. Настоящий триумф. Какое-то волшебное отсутствие всего и вся. Словом, могу сказать, что я тоже познал счастье. Или вот еще, снится мне, что я сижу на берегу озера прекрасной лунной ночью, и — не чувствую ничегошеньки. Да, думаю, я выздоровел.
— Чехов, — сказала она.
— Может быть, и Чехов. Конец чего-то. Но одна ласточка весны не делает. Я хочу сказать: если один споткнулся — это еще не упадничество. Над этим нужно много работать. А ты?
— Всё то же. Приятели потихоньку тупеют. Мне за них просто страшно становится, бедные швейцарцы, они защищены буквально от всего. Они постепенно превратились в огромный дипломатический корпус. Неприкосновенность. Под колпаком, ни щелочки. Колпак — прочный, на все случаи жизни, но они там, внутри, загибаются. Карл Бём приехал из Берлина. Он ищет фондов на их новые оргкомитеты. Клянется, что там, в Германии, студенты уже готовы взорвать всё и вся. Поль Жамме переходит от анархизма к нигилизму, останавливаясь перекусить у Кастеля и в Сен-Тропезе. Он пытается изменить мир и переспать со мной, его так и тянет на неудачи.
— Ничего нового… на этом фронте? Она задумалась на секунду. Он все еще торчал у нее в голове, со своими лыжами, улыбающийся, красивый, какими могут быть американцы, если захотят. Но не станет же она заливать о том, чего нет. С теми пятьюдесятью франками, которые она ему дала, он сейчас, наверное, уже опять умахнул в свои горы.
— Ничего.
— Ну, а кроме этого?
— В одной газете написали, что то, чего нам не хватает — молодежи, я имею в виду, так это войны; собственно, они не сообщили ничего нового о молодых, скорее — о стариках, и порядочно. Твоя дочь становится ужасно утонченной, с изысканными стремлениями, с душевной тканью такого отменного качества и Weltschmerz столь хрупкой и деликатной, что в путеводителе «Мишлен» мне должны были бы навесить три звездочки, не меньше.[30] Вместе с тем французы не сдают своих позиций, они уже не первый век декаденты, так что я не очень переживаю… Как твоя бессонница?
— Я становлюсь более находчивым. Раньше я просто лежал без сна. А теперь я отпускаю веревочку, засыпаю, но тут же спохватываюсь и просыпаюсь. Юмор не скрывает правды. И тем не менее даже если он не убедил Ставрова в том, что «правительство Соединенных Штатов никогда не допустило бы, чтобы сталинский кулак положил конец демократическим устоям», Ставрова бы все равно повесили, как и Трайчо, Костова, Райка и Сланского. Угрызения совести были заложены где-то очень глубоко и так просто, как загар, не сходили. Человек, достойный носить это гордое имя, всегда будет чувствовать себя виноватым, именно по этому признаку и определяется человек, достойный своего имени.
— Как на этот раз прошло твое рабство? Ужасно?
— Меньше чем обычно. Они устроили переходный этап. Уколы гепатизированным алкоголем… Предотвращает галлюцинации. — Он рассмеялся. — Забавно. Первый синдром рабства, когда они вырубают вам живую воду, — это галлюцинации… Первое соприкосновение с реальностью. Это должно о многом говорить, только не знаю, о чем. Я встретил там нескольких друзей. И среди прочих — Арбуа, бывшего посла Швейцарии в Москве. Тридцать лет карьеры. Он все время листает ежегодный телефонный справочник, чтобы наладить контакт с реальностью и живыми людьми. У него уже накопилась приличная подборка этих справочников, со всего мира, в том числе и из Москвы. Он считает, что это — одна из лучших книг, которые когда-либо были написаны, насыщенная правдой и переполненная людьми, которые в самом деле существуют. Он даже прочел мне вслух несколько замечательных страниц из нью-йоркского, и иногда он заказывает телефонные переговоры с Буэнос-Айресом или с Чикаго, пытается убедиться, что книга не обманывает, что всё это — не мифология и эти люди действительно существуют. Что ты хочешь, тридцать лет быть дипломатом… Время от времени, чаще всего посреди ночи, он вызывает к телефону сам себя, чтобы удостовериться, что и он реально существует, что это не самообман. Очень недоверчивый господин. Зеркалам он тоже категорически не доверяет, по его мнению, они совершенно ничего не доказывают: обман зрения. Вот так. Вы видите вокруг слишком жестокую реальность, которая, однако, не может вас коснуться, вы — вне всего, под стеклянным колпаком дипломатической неприкосновенности, а кончается все тем, что посреди ночи вы зовете самого себя к телефону, чтобы убедиться, что вы еще существуете реально, что вы еще здесь. Я думаю подать в отставку. Листая журналы, я тут решил, что мог бы неплохо зарабатывать манекенщиком, кажется, им нужны зрелые респектабельные мужчины, знаешь, в духе «седеющие виски». «Швепс», «Кэмел», «Бурбон» и все такое прочее. Может быть, я просто пытаюсь доказать, что Аллан Донахью все еще способен удивлять. Ты не находишь, что я слишком самоуверен…
— И когда ты перестанешь наконец пытаться избавиться от себя самого, дорогой мой папочка?.. Мне кажется, что юмор, он, как и все остальное: в основном сходит на нет.
— Тем временем я принял важное решение. Я несколько подотстал на профессиональном поприще. В последнее время я не предпринимал решительных действий для достижения целей нашей внешней политики. Так что теперь мы дадим большой коктейль, как обычно в подобных случаях. Если мне не изменяет память, последний коктейль у нас быль в честь Берлинской стены. То есть против, я хочу сказать. Никакого шика, сотни приглашенных будет достаточно. Чтобы совсем уж не забывали. Можем продать наш императорский золотой портсигар. Это помогло бы нам продержаться на плаву еще какое-то время. — Золотой портсигар уже уплыл. — И все же меня весьма интересует, собирается ли американская дипломатия что-либо предпринять, чтобы положить конец этой ужасной Берлинской стене.
— Она не станет приглашать русских на наш коктейль, вот что она собирается предпринять.
— Студенческий кружок увешан фотографиями этого мальчика, которого они послали умирать на то минное поле.
— Дети должны оставаться детьми. Таково мнение русских, насколько я могу судить.
— А потом нужно идти на занятия по литературе и изучать Малларме!
— Да, нужно иметь сильный характер.
— Неужели Америка правда ничего не может сделать?
— Я обещал врачам больше не прикасаться к алкоголю. Это — единственное заявление, которое я готов сделать в данный момент.
Он теребил рекламную брошюрку, которую достал из бардачка. — «Самсон Далила со своими кошечками»… Что это еще такое? Джесс, почему ты плачешь? Если из-за Берлинской стены, то, право же…
— Я продала твой портсигар неделю назад. Бакалейщик серьезно угрожал подать жалобу в протокольный отдел… Но у нас еще остался персидский ковер… Ах, это… это — новая рок-группа, знаешь, как «Черные носки» или «Крафти Дед»… Это такая прорва, такая… Я больше не могу. Одна спасательная операция за другой… невыносимо!
— Самсон Далила со своими «Черными носками»… то есть со своими кошечками… Да! Но кто знает, может быть, они и правы, в конце-то концов. Они стойко принимают вызов, брошенный молодым вселенской нелепостью… Думаю, нам стоит сходить послушать этих кошечек. Кажется, у них в самом деле есть что сказать.
— Полный ноль. Рэй Чарльз приезжает на следующей неделе, и Поль обещал достать билеты. Одни только негры чего-то еще стоят, несмотря на конкуренцию.
— Знаешь, улыбка у них кажется шире, потому что губы у них толще. Мои иллюзии южанина насчет черной расы испарились. Я-то надеялся, что между нами и правда есть какая-то разница, а теперь… даже не знаю.
— Ты никогда не принимаешь меня всерьез, да? В твоих глазах всегда такое веселье, когда ты на меня смотришь. Знаю, на меня смешно смотреть. Да только это — твоя шутка. Это ты так пошутил. И глупо смеяться над собственными шутками. По-французски сказали бы: «Zut!»[31]
— Есть кое-что, Джесс, чего я никак не могу понять. Мы находимся по другую сторону границы, во Франции. Двадцать минут на машине — и ты уже в Женеве. Получается, у нас — две страны, две возможности делать долги, вместо одной, которой обычно располагает дипломат. Идеальная ситуация. Как же тогда получается, что мы так быстро исчерпали наши фонды сразу в двух местах?
— Объединение Швейцарии и Франции, хуже ничего и быть не может. Им нельзя доверять. Их уже не проведешь. Ты можешь щеголять в костюме от Балансиаги, они все равно знают, что ты на мели. Эти два народа самые чувствительные и восприимчивые в мире, если речь идет о деньгах. Очень старая цивилизация, этим все и объясняется.
— Как пожелаю им всем «Самсона Далилы с его кошечками»! Ты выкарабкаешься, Джесс. Я в тебя верю. Что с этого персидского ковра, так он только глаза мозолит. Пусть лучше летит нам на помощь.
Весь путь от Женевы до границы был усыпан розовым снегом цветущих вишен и яблонь, к тому же как раз сейчас наступил сезон бабочек: тысячи и тысячи бело-желтых воздушных созданий кружили в вихре брачного танца; ей было страшно и противно смотреть, как они разбиваются о лобовое стекло, как их маленькие тельца расплющиваются, прилипая с другой стороны, однако не станет же она переживать еще и из-за бабочек, нужно все-таки меру знать. Да, она становилась более черствой. Хватит строить из себя Марию Башкирцеву, размазывать сопли конца века, «ту вазу, где цветок ты сберегала нежный, ударом веера толкнула ты небрежно», все эти телячьи нежности Сюлли-Прюдома, к черту эту чувствительную сумеречную размазню, подайте нам «Крафти Дед» и «Черные носки». Таможенники встретили их обычным приветствием: «Здравствуйте, мадемуазель Донахью, здравствуйте, господин консул», и они проехали без очереди, сопровождаемые яростным взглядом швейцарских автомобилистов, которые совершенно справедливо полагали, что привилегии дипломатов принадлежали к прошедшей эпохе, как и сами дипломаты. Дом находился в глубине сада, в сотне метров от дороги, и запах сирени и роз тянулся за Джесс до самой кухни, куда она пошла отнести корзину с провизией и озерного гольца от Монье, лучшего кулинара в Женеве; так или иначе, все постепенно устраивалось… но когда она вошла в гостиную и увидела его сгорбленные плечи — он стоял к ней спиной, читая письмо в желтом полумраке штор, — сердце ее упало, и она выкрикнула, злобно, с той визгливой, почти истерической ноткой, которая появлялась в ее голосе, когда ей было страшно:
— Что еще, Господи? Что опять случилось? Он медленно обернулся. Однако прочесть что-либо по его лицу было невозможно. Лицо — это единственное, что он еще был в силах контролировать. Ироничное выражение скрывало все: это было одно из тех типично американских лиц, с сильными чертами: люди с такими лицами умеют притворяться до конца, что бы ни случилось… Может, это всего лишь было письмо, в котором сообщалось, что ее мать умерла… Нет: желтая бумага официальных сообщений. Может, их отправляли в Конго или еще что-нибудь в этом роде… Что ж, она станет собирать африканские маски. Она отчаянно пыталась сторговаться с судьбой.
— Ну, что за катастрофа на этот раз?
— Сожалею, Джесс. Меня отзывают. Точнее — досрочная отставка. Они стараются быть вежливыми.
Она опустилась в кресло.
— Боже мой, вечно это мелкое пакостничество… Всего два дня назад я ужинала с Хоббардом, и он ничего мне не сказал.
— Он тактичный человек.
— Да, знаю. Все мерзавцы провоняли этим тактом.
— Справедливости ради надо сказать, что я был не слишком полезен на этом посту.
— Ты еще будешь заступаться за Госдепартамент? Ну знаешь, это уже мазохизм какой-то.
— А почему ты считаешь, что добросовестный американский налогоплательщик должен платить за хронического алкоголика?
— Потому что он — американский налогоплательщик, вот почему. За все остальное он уже заплатил, разве нет?
Он рассмеялся. Слава Богу. Это было единственное, что ей оставалось, — юмор. Она откинулась на спинку кресла, размышляя, откуда ждать следующую шутку. Даже если эта шутка окажется уморительной до коликов, она не расплачется. Сейчас они улыбались друг другу весьма убедительно.
— С этого момента мы более не несем ответственности за американскую внешнюю политику, Джесс. Мир может пойти прахом, нас это больше не касается.
— Свобода! Наконец-то. Это надо отметить. Она отправилась на кухню за бутылкой сидра и заметила записку, оставленную горничной на столе, на самом видном месте: «Мадмазель, я хочу, чтобы мне заплотили или я ухожу». Две ошибки, точка, вот и все. Она вернулась с подносом в гостиную.
— Знаешь, что сказал Наполеон, когда вернулся из похода на Россию, после полного разгрома, уложив там миллион своих солдат, и застал жену в постели с другим?
— Нет, Джесс, не знаю.
— Он сказал: «Ну вот, наконец-то личная проблема, для разнообразия!» Так написано у Таллера. Так что вам остается только изучать жизнь Наполеона, чтобы не допускать тех же ошибок. Cheers![32]
Черт побери, сильных и твердых людей полно. Но они все как ты — добрые, щедрые, не изворотливые, не способные делать больно и, скажем прямо, слабые, это те люди, которые спасают честь. Это герои разбитых горшков. Они расплачиваются. Она собрала стаканы и поставила их на поднос.
— Я возвращаюсь в Женеву. Ты знаешь такого графа фон Альтенберга? С моноклем и замком в Лихтенштейне. Он предложил мне работу, Я сперва отказалась, но, кажется, он вовсе не плейбой, а крупный делец, так что, может быть, это серьезно. Схожу к Хоббарду. Надо сказать ему пару слов.
— Он здесь ни при чем.
— Я знаю. Но мне нужно выплеснуть все, что накопилось. Самая банальная агрессивность, ничего больше.
— Это естественно… для моей дочери. Да, я знаю, конечно, можно смеяться над самим собой, делать вид, что тебе все равно, и в то же время постоянно тянуться к виски, выцеживая по две бутылки за день.
В машине она разрыдалась, а потом, выплакавшись, стала сочинять, что наговорит генеральному консулу; но, остановив машину у входа в консульство, она не стала выходить: к чему это все, он просто-напросто заведет свою шарманку «Консула» Менотти:[33] «очень сожалею, но распоряжение поступило из Вашингтона, меня они даже не спрашивали…»
— Не могут же они просто так уволить человека, после тридцати лет службы, на семнадцати постах…
— Аллена не уволили, а отправили в отставку. Нас всех это ожидает.
— Он должен был работать еще восемь лет и…
— Джесс, вы же знаете причины не хуже меня.
— Хорошо, он пьет. А другие?
— За последние несколько лет Аллену пришлось провести в различных клиниках в общей сложности полгода. Подобные вещи в конце концов начинают бросаться в глаза. В Госдепартаменте были вынуждены переводить его с одного поста на другой…
Сидя за рулем своего «триумфа», она сводила счеты с Хоббардом, с Госдепартаментом, с Карьерой:
— Джим, назовите мне хоть одного посла Соединенных Штатов, у которого не было бы этой drinking problem.[34] Они все пьют. Иначе эта работа была бы просто невыносимой. Хотите имена?
— Джесс, прошу вас. Это смотря как пить…
— Сколько у вас уже было инфарктов, Джим? Два, если не ошибаюсь. Почему ваша жена никогда не сопровождает вас в ваших назначениях? Даже в Карачи? Как же его звали, этого посла США в Токио, — выдающаяся личность, кстати, и имя у него было такое известное — он еще время от времени покушался на самоубийство? Вы прекрасно знаете, что это такое: неприкосновенность. Вы сидите под своим стеклянным колпаком и смотрите, как вокруг поднимается море крови; а иногда вы пересекаете это море в своем «кадиллаке», чтобы нанести официальный визит дуайену дипломатического корпуса или передать убийцам «вербальную ноту», в которой «правительство Соединенных Штатов имеет честь сообщить правительству Ирака, что…». Вы вернулись как раз вовремя, чтобы успеть на прием, который вы даете в честь коммерческой делегации, прибывшей, чтобы делать дела с палачами…
— Знаю, Джесс, я все прекрасно понимаю. Но мы здесь только наблюдатели…
— Зрители…
— Если хотите.
— До свидания, Джим.
— До свидания, Джесс. Надеюсь, вы придете на ужин на следующей неделе.
— Спасибо.
— Если я могу быть вам хоть чем-то полезен, только скажите.
Какой он все-таки подлец. Незачем было даже идти с ним разговаривать. Она отъехала и бесцельно покатила вдоль озера. Единственное, что ей сейчас оставалось, это пойти покормить птиц. Она остановила машину и вышла. Лорд Байрон тут же направился к ней. Рефлекс Павлова, ничего больше. Она взяла его на руки и стала кидать ему в клюз хлебные крошки, по одной. Рано или поздно, все равно придется признать очевидное, моя дорогая. Выражаясь словами Виктора Гюго, «мой отец, этот герой с доброй улыбкой» оставил одну улыбку. За ней уже нет человека.
— Откуда, интересно, в Швейцарии берутся чайки? Она не ожидала встретить его здесь. Была какая-то смутная надежда, скорее даже — любопытство. Придет, не придет? Он подошел и сел на корточки рядом с ней. Эта его белая челка на глазах…
— Я хочу сказать, так далеко от моря? И опять же горы! Они не могут летать так высоко. Во всяком случае, не чайки.
— Сюда, в Швейцарию, всякие странные птицы прилетают.
— Спасибо. Кстати, меня зовут Ленни. Нет, серьезно, я даже видел альбатросов. Альбатросу-то здесь вообще нечего делать. Даже не осмеливается со мной заговорить. В горле пересохло. Лучше бы она все-таки что-нибудь сказала, черт побери, сейчас ее очередь, я уже выложился.
— Кажется, чайки даже спят на воде. Вот настоящая жизнь. Отдаешься на волю волн и на землю — ни ногой…
Что ж, если я не выдерживаю конкуренции даже с какими-то утками, незачем и настаивать. Может, вообще не стоило с ней заговаривать. Помолчали бы вместе. Молчание на двоих. Сразу сближает. К тому же ему жуть как хотелось помолчать вместе с ней. Ему было так хорошо просто быть рядом, смотреть на нее. Красивая девчонка. Жаль, что это я. Она заслуживает лучшего. Не везет. Потом, может быть, я свожу ее покататься на лыжах, так хоть будет чем разбавить, не всухую проиграет со мной. Бывали моменты, когда ему хотелось повеситься.
— Вы что, никогда со своими лыжами не расстаетесь?
— Никогда. Это не шутки. Она улыбнулась:
— Все-таки в вашем возрасте это странно.
— Что вы хотите сказать?
— Я хочу сказать, что в вашем возрасте это странно — повсюду таскать за собой мишку.
— Мишку? Не знаю такого. Что это еще за тип? Но вот насчет лыж я вам кое-что объясню. Когда у вас с собой лыжи, легавые вас не трогают. Далее если вы спите на скамейке или под мостом. Они видят лыжи и понимают, что вас ни в чем нельзя обвинить. Почему? Не могу сказать. Но это так. Это защищает.
— Вы ищете работу?
— Нет. Я так просто не сдаюсь.
— Странный все-таки образ жизни.
— А я говорю себе то же самое, когда вижу, как какой-нибудь парень идет утром на работу и вечером — с работы. Каждый развлекается как умеет.
— И вы не хотите вернуться домой?
— Домой? Куда это?
— Ну, домой, я не знаю. Должен же у вас кто-нибудь быть в Штатах.
— Вы что, газет не читаете? Их там двести миллионов, в этих Штатах. Вот вам и «домой». Лучше повеситься. Здесь, в Европе, у них по крайней мере нет «проблем».
— Как это, нет проблем?
— Вьетнам далеко, негров тоже нет.
— У них полно других проблем.
— Не спорю, но так как они не говорят по-английски, терпеть можно. Я знаю три слова по-французски, так что у них еще есть шанс. Она рассмеялась. У него перехватило дыхание. Когда она смеялась, тебя будто поднимало наверх, сразу на две тысячи метров над уровнем дерьма.
— Значит, вы нашли себе занятие?
— Зимой — да. А летом все начинает разваливаться.
— И тогда вы спускаетесь?
— Нужно что-то есть. Этим они вас и держат. Знаете, в коммунистических странах, кажется, везде висят таблички с надписью: «Кто не работает, тот не ест». Это, вероятно, американское влияние.
— Значит, вы все-таки ищете работу, нет?
— Несколько дней я могу продержаться с ножом у горла, но это отвратительно, заставлять человека…
Он вспомнил об Ангеле: верно, грызет ногти, наблюдая за ними сверху. Он побаивался этого типа: вечно в черном, как если бы он носил траур по своей мамочке, которую только что прирезал.
— Смейтесь, смейтесь. Работать ради куска хлеба — это такая мерзость. Хуже не придумаешь. Вот так они в конце концов и построили свой мир, эти сволочи. Она изумленно смотрела на него. Он и не думал шутить, У него даже немного дрожал голос.
— Посмотрите вокруг. Я уже посмотрел. Все это дала работа. Я хочу сказать, люди, которые работают, чтобы есть и так далее, им ведь наплевать. Они сыты, им больше ничего не надо. Они будут выполнять что угодно, лишь бы и дальше можно было есть вдоволь, а результат — у вас перед глазами. Вот что она делает, работа.
— Ну надо же, настоящий бунтарь.
— Вовсе нет. Чего в самом деле не хочу, так это менять мир. Вы не можете сделать другой мир из этого же мира. Вот я и нашел себе занятие, как вы говорите.
— Лыжи? Однако…
— Отчуждение. Это единственное их изобретение, которое еще выдерживает критику. Кажется, это даже прописано в Декларации Прав Независимости, отчуждение, но до сих пор им пользовались только негры. Я, например, даже не знал, что такое существует. Я имею в виду это слово. У меня со словарным запасом вообще… Словарь — это враг народа номер один: слишком много всевозможных комбинаций, как в шахматах. Они называют это идеАлогией.
— Иде Ологией.
— Спасибо. Один приятель, оттуда, сверху, Буг Моран его зовут, так вот, это он мне объяснил, что то, что я делаю, называется отчуждением. Золотая медаль Зимних олимпийских игр по отчуждению — моя, так думает Буг. Хорошо бы как-нибудь вам с ним познакомиться. Он голубой насквозь, что твой ночной горшок, но со всех других точек зрения он — парень что надо. А так как он извращенец, хочешь не хочешь, надо быть сообразительным — вопрос идеологии. Он здорово во всем этом сечет, говорит, что здесь даже больше всяких позиций, чем в этой книжке, как ее там… Не Библия, другая. — «Камасутра».
— Да, что-то в этом роде. Они внимательно смотрели на Лорда Байрона, оба, но никогда еще селезню не перепадало так мало внимания.
— Вы обращались в Консульство?
— Нет. Мне что-то неловко.
— Почему? Это ведь их работа, помогать американским гражданам, попавшим в затруднительное положение.
— Я не считаю себя гражданином. У меня еще осталось немного самолюбия. Помните, я вам уже говорил, что никогда не забуду этого лозунга, который Кеннеди распихал везде, где только можно: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны…» Я до сих пор еще боюсь обернуться.
— Да не съедят же они вас.
— Съедят. У них там, в Консульстве, кое-что на меня есть.
— Что именно?
— Бумаги. Армия и все такое. Они хотят отобрать мой паспорт. Они всегда стараются что-нибудь забрать у вас или забрать вас самого. Как-то спускаюсь я по склону Кирхен, ничего плохого не ожидаю, и вдруг — на тебе, какой-то тип с секундомером в руках останавливает меня: «Я вас знаю?» Я ему клянусь, что нет, что это не я. «Что ж, следует познакомиться. Вы проехали этот спуск быстрее, чем сам Кид». — «Я не специально, — убеждаю его я, — передайте мои извинения господину Киду». Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Мечтательно так. Ну, вы понимаете. «Вы американец?» — «В общем, да». — «Зайдите ко мне. Ваше место в нашей олимпийской сборной. Вот моя визитка». Это был Майк Джонс, ну, вы знаете, тренер. Я ему сказал: «Послушайте, я против сборных. Я не представляю себя в команде. Нечего мне там делать. При одной мысли об этом мне уже делается дурно». Говорю вам, они всегда стараются прибрать вас к рукам. Они не соблюдают даже швейцарский нейтралитет, пытаясь вас завербовать. Есть такая страна, называется Внешняя Монголия. «Внешняя», вот что мне больше всего нравится. Кажется, это что-то интересное. Нет, ему правда нравилось, как она смеется.
— Ну, и что же вы собираетесь делать?
— Наверное, пойду, сдамся. Год назад меня уже задерживала полиция в Гстаде, и семья полицейского две недели держала меня у себя: кормили, ухаживали. Им ведь в Европе не часто выпадает кормить американца. Это им льстит. А потом, у меня и внешность подходящая. Этакий несчастный ковбой. Вы не поверите, как-то в Дорфе ребятишки прибежали просить у меня автограф. Я спросил, знают ли они, кто я такой. Они сказали, что нет, но что они меня уже видели в кино. Они, в Европе, обожают американцев. А вы, что вы делаете в Женеве?
— Учусь.
— Учитесь на кого?
— Просто учусь. Она не хотела его пугать. И вообще, пошел он к черту. Что, мне здесь целый день торчать с этой дурацкой уткой на руках?
— Курс литературы. Немного социологии.
— Социологии?
— Успокойтесь. Я не сочиняла эти объявления для Кеннеди. Ну вот. Теперь он смотрел на нее с подозрительностью:
— И психология тоже?
— Нет. Он облегченно вздохнул:
— Уф! А то я уже испугался.
— А что вы имеете против психологии?
— Ничего. Я никогда никого не выдавал. Это не по мне. Но когда я вижу, что навстречу идет психология, я перехожу на другую сторону, вот и все. Она отпустила селезня на воду:
— Мне пора. Удачи. Безнадежно. Предложить ему кофе, сандвич? О, черт, и что дальше? Ему негде было жить. Ну что он стоит столбом, сделал бы хоть малейшее усилие, шаг навстречу, я не знаю…
— Вы ведь собираетесь возвращаться, так? Почему бы вам не остановиться у нас на несколько дней, пока все не уладится. Отец будет рад. Он медлил. Он прямо видел, как эта сволочь Ангел умоляюще складывает ладони, готовый броситься на колени, просить Аллаха, чтобы Ленни сказал «да».
— А что за отец? Они обычно выводят меня из себя.
— Этот не из тех. Он совершенно не понимал, отчего он так нервничает. Он ведь даже не обязан был с ней спать. Все могло бы и так прекрасно устроиться. И потом, она быстро оправится. Через пару дней и думать забудет. Сегодня люди за три дня вокруг света объезжают: Индия, Африка, так что…
— Хорошо. Можете не беспокоиться. Я не из тех, кого потом не выгонишь, нигде надолго не задерживаюсь. Стоит только где-нибудь задержаться хоть на день, и уже хлопот не оберешься.
— Что? Каких хлопот?
— Ну, не знаю. Оказываешься загнанным в угол. Знал я одного парня, который зашел как-то в канцтовары, за карандашом, и попался; так там теперь и сидит. Отец семейства. Мы встретились с ним недели две назад, и он плакал. Все эти семейные трагедии, они разбивают сердце. Чему вы смеетесь?
— Вы ничем не рискуете, можете не волноваться. В любом случае, возможно, нас самих в скором времени выставят за дверь. Нам надо до среды внести плату за жилье, а у нас — ни гроша.
— Что, правда, что ли? Как же так? Я думал, вы — важные птицы.
— Как-нибудь потом объясню. Что она хотела сказать этим «как-нибудь потом»? Она строит планы на будущее или что?
— Вы идете? Но нужно было еще захватить чемодан.
— Вы можете подождать меня минут десять? Я оставил свой чемодан в кафе, здесь неподалеку, у причала… Да, если я вернусь, а вы уехали, это ничего, все о'кей. Я понимаю.
— Я жду вас в «триумфе». Она никогда еще не встречала такого недоверчивого человека: он не осмелился даже оставить свои лыжи в машине. А может, он и не собирался возвращаться. Она его напугала. Он, наверное, почувствовал, что она совсем растеряна, что она тонет, схватил свои лыжи и бросился наутек. Она подождет четверть часа, минут двадцать, не больше. Ей было совершенно все равно, вернется он или нет. Она дает ему полчаса и ни секунды больше. Яхта в самом деле была красивая, вся черная, большая, к тому же непонятно, что она вообще забыла на этом озере. Ее как будто пригнали в плен. Оказаться бы на такой, да посреди океана, вот был бы номер! Тогда ничего больше и не нужно, и чтобы никого на борту, ни тебе мотора, ни паруса, чтобы вообще незаметно было, что это лодка. Вот где по-настоящему можно почувствовать себя дома. Он прошел по трапу и спустился в кабину. Дверь была открыта. Ангел, одетый, лежал на койке, даже шляпа на голове. В ногах у него сидела негритянка. Араб, негритянка, американец. Полный компот, эта Женева. Девушка держала на коленях мертвую чайку.
— Она разбилась у нас на причале, — сказала она.
— В следующий раз стучи, прежде чем войти, — сказал Ангел.
— Порядок, — сказал Ленни. — Я остаюсь у них на ночь. Можешь сообщить главному. Кстати, кто он?
— Кто главный, Ленни? Странный вопрос. Нет никакого главного. Только ты да я, вот и всё.
— Она упала прямо мне под ноги.
— Я знаю, что ты ее не убивала, — сказал Ленни. — Не волнуйся.
— В следующий раз стучи, прежде чем войти, — повторил Ангел. — Я сюда прихожу не только любовью заниматься. Может оказаться что-нибудь и поважнее. Негритянка расплакалась.
— Ну же, ну! Это ведь просто чайка, — ободрил ее Ленни.
— Не просто, — не унималась она. — Это было всё. Всё.
— Ну, тогда еще проще, — сказал Ленни. — Если это — всё, то значит всё. И тебе наплевать.
— Даже не знаю, зачем я приехала в Европу, — сказала негритянка. — Странно. Там, в Чикаго, я думала, что все из-за того, что я черная. Но теперь даже не знаю, почему все так. В Штатах было лучше. По крайней мере, знаешь причину: цвет твоей кожи. У вас есть проблема, и вы знаете, что это за проблема. Но здесь… здесь гораздо хуже. Вы даже не можете себе сказать: «Что ж, это потому, что я — черная». Здесь — не то. Здесь что-то более… ну, я не знаю, более общее, что ли. Это не зависит от цвета твоей кожи. И вот, вы уже ничего не понимаете. Нет никакой причины, вы совершенно не знаете, за что. Как будто разом отняли все иллюзии.
— Ты лучше раздевайся, когда это делаешь, — посоветовал Ленни. — Будешь чувствовать себя не так мерзко. Значительнее, что ли. Анжи, в следующий раз, когда вызываешь девушку, дай ей хоть раздеться. Так для них лучше.
— Тебе-то что? Негритянка, всхлипывая, раскачивалась из стороны в сторону, вцепившись в свою чайку.