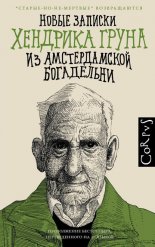Прощай, Гари Купер Гари Ромен

— Может быть. Положим, давно пора изменить идиотский порядок. Если невозможно совершенно не сталкиваться со сволочами, то пусть по крайней мере они будут разными. И все это на фоне «бентли» с пуделем. Он смеялся. Надо признать, последние несколько недель он не притрагивался к спиртному, так что сейчас он пока крепко стоял на ногах.
— Мне приходится учиться быть агрессивным, Джесс. В делах это необходимо. Конкуренция. Что, мне никак нельзя увидеть моего соперника? Вот, я же говорю, конкуренция.
— Только не так рано. Это может убить его. Слово «отец» — для него это что-то варварское, если хочешь.
— Понятно, обычное дело, консерватор. Он будет хорошим мужем. Как бы там ни было, ты выглядишь счастливой.
— Он скоро оставит меня.
— Нет. Как это?
— Он из тех парней, которые не любят нигде задерживаться. Их постоянно дергали, и теперь они боятся остановиться хоть где-нибудь, на веточке, как птицы.
— Что ты хочешь сказать этим «их постоянно дергали»?
— Вы — поколение капающих на мозги. Нам нужно было как-то защищаться. Мы защищались слишком рьяно. Дезинтоксикация не прошла бесследно. Она унесла с собой все. Промывка мозгов. Наголо. Пусто. Пустые поля, занесенные снегом. Все это значит лишь одно: намечается новая идейная «обработка». Говорю тебе, грядет смена сволочей. Он оставит меня, потому что вся эта любовь… Это патриотизм. Национализм. Любовь у нас теперь — де Голль, вот.
— Что ты такое говоришь?
— Я слышала, как он размышляет.
— Кажется, он интересный малый.
— Нам слишком долго лгали. Теперь со слов спала маска. Он задумчиво смотрел на нее. Какая-то непонятная злопамятность?
— Есть кое-что, чего этот молодой человек не учел, Джесс… Ты сильная женщина. Волевая. Очень. Она застыла. Сила в женщине — это всегда было ее слабым местом.
— Знаю, матриархат. Но матриархат создали не женщины. А мужчины… — … Слабые мужчины. Будем называть вещи своими именами. Это останется между нами. — … Да, и не говори, что я похожа на мою мать, потому что это слишком просто и слишком несправедливо.
Ее голос дрожал. Отец растерялся.
— Джесс, дорогая…
— О, прости, пожалуйста. Я ни с кем еще серьезно не встречалась, ты знаешь. Это впервые. И получилось не слишком красиво. Одно маленькое царство «Я», с этим «Я» повсюду, на всех этажах, во всех углах. «Я» хочет быть счастливым, «Я» хочет взять и спрятать, «Я» хочет хранить при себе, «Я» ищет себе железное алиби, какое-нибудь китайское или кубинское, «Я» ставит фотографию Че Гевары на ночной столик, вместо иконы, в подтверждение своей благонамеренности. Ты понимаешь, что стало бы с «Я», если бы оно не нашло утешения в том же Вьетнаме, в неграх и в прочих художествах? Оно бы превратилось в Джесс Донахью в чистом виде, вот что с ним стало бы. Я тебе уже говорила: иногда харакири затягивается до бесконечности.
«Бентли» спокойно дымил своей сигарой, но пудель уже начал беспокоиться. Немного выше, на крышах высотных зданий, светящиеся вывески «Свиссэр» и «Омега» горели тем лихорадочным светом послепраздничного дня, каким обычно тлеет неон по утрам.
— Скоро он уйдет от меня.
— Перелетные птицы, что ж поделаешь…
— Нет, это другое. Прежде, кажется, женщине говорили: «Ты — всё для меня». Так вот, это именно то. Я — «всё» для него, то есть весь мир. Но он уперся, ни в какую, лучше повеситься. Ты не поверишь, но этот циник — монах-траппист. Лыжи, снег, и всё. — Она улыбнулась сквозь слезы. — К счастью, у меня останешься ты.
Он смотрел на нее с грустью. Впервые он даже забыл свой юмор.
— Я люблю тебя, Джесс. Ты — вся моя жизнь, и я не хожу на лыжах. Но ты заслуживаешь гораздо большего.
— Ты же его даже не знаешь.
— О, я не имел в виду этого молодого человека. Я говорил о своей жизни. Да… Ну что ж, хотя бы материальные проблемы решим. Ты можешь оставить мне «триумф»? Мне он понадобится сегодня вечером. К тому же я собираюсь купить новую машину, как только мне заплатят.
Она отдала ему ключи, и он направился к «бентли», держа перчатки в руке: красивая картинка, американец без Америки. Она подумала, что это за пудель, наверное, какой-нибудь «Нестле», в Швейцарии это всегда «Нестле», если не «Сандоз» или не производство часов. Она вернулась на яхту и спустилась в каюту. Он сидел на койке, весь залитый солнцем. Солнца не было, но его золотой чуб в этом и не нуждался. Залитый солнцем. Голый по пояс, загорелый. В джинсах и опять в этих невообразимых красных носках. Лицо такой красоты, что хотелось оберегать ее, иными словами, спрятать где-нибудь подальше от чужих глаз. Именно таким и будет она вспоминать его потом, ночью, в кошмарном сне. Сияющим. Он и не пытался скрывать, что знает, что будет дальше. Пробежавшие затем пустые часы навсегда отпечатались в ее памяти оттиском той вечности, которую трагическое оставляет банальному, когда в банальном остается только трагическое. Она не перестанет вспоминать каждую мелочь с каким-то недоверием, как если бы она никак не могла себя убедить, что повседневность так просто и легко превращается в ужас. Даже когда ей пришлось отвечать полиции, журналистам, она, ощущая нереальность происходящего, колебалась, как будто говорила неправду. Да, и нужно было лгать. Опускать. Изымать. Защищать то, чего уже не было. К одиннадцати часам она пришла в ОЗЖ — было как раз ее дежурство — и весь день занималась исключительно важными случаями: малиновка со сломанным крылом и девчушка лет шести, которая принесла умирающую бабочку и все стояла там и плакала, держа бабочку в ладошке. Ветеринар вышел из себя, как всегда, когда он ничего не мог поделать: бабочка! А еще что? Между прочим, есть еще и собаки, которые умирают от голода, в Индии; но девочке было всего шесть лет, и с этой своей бабочкой в ладошке… словом, на них жалко было смотреть.
Когда она собралась наконец домой, уже стемнело, но тут она вспомнила, что оставила машину отцу, и позвонила Жану, чтобы они за ней приехали. В десять, да, ровно в десять, она заметила, который был час, они все втроем сидели в «порше», но из Женевы они выбрались часам к одиннадцати, потому что Поль устроил ей сцену и поцапался с постовым.
— Ты просто не любишь меня, Джесс, вот и все. Неудивительно, что здесь, в Швейцарии, процент самоубийств самый высокий в мире.
— Не то чтобы я тебя не любила. Но я люблю другого. Это разные вещи. Да, за несколько минут до конца она все еще думала о нем. Поль остановил машину:
— Господин полицейский, не могли бы вы подсказать мне дорогу?
— А куда вам надо?
— Я ищу любовь.
— Что?
— Вы не верите в любовь?
— Это может обернуться для вас десятью сутками тюрьмы.
— Я только вежливо спросил у вас дорогу.
— За оскорбление швейцарской полиции.
— Что, у нас нет больше права говорить о любви с полицией? Им пришлось проторчать три четверти часа в комиссариате и еще дуть в эту их трубку, чтобы доказать, что они не пьяны.
Границу они переехали почти уже в полночь. Стояла одна из тех тихих летних ночей на Женевском озере, когда старые замки и мирные сады в лунном свете напоминают прежние шалости господ с пастушками. Они увидели «триумф» сразу, как только свернули с дороги. Фары горели, вперившись в вишневые деревья, мотор еще работал, отец уже выставил одну ногу из машины, но сам, пьяный в усмерть, не смог подняться и повалился на руль, просунув в окно дверцы руку, висевшую как плеть.
— О, нет, — простонала Джесс.
— Да, это долгий и трудный бой: опять подниматься в гору, — сказал Поль. — По крайней мере, у алкоголиков хоть есть цель в жизни: больше не пить.
— Хорошо, что я не расплатилась в клинике. Пусть ждут дальше. Она даже не остановилась, чтобы помочь ему выйти из машины, и прошла прямо в дом. Она включила свет, к черту, с меня хватит, хватит! Нельзя же жить с тенью, которая потеряла своего человека и напивается от безысходности. Где-то были малиновка со сломанным крылом и бабочка, умирающая в ладошке шестилетней девочки, и у них были настоящие проблемы. Что было совершенно возмутительно, так это момент, который он выбрал, для того чтобы снова скатиться. Она влюбилась в другого, и он наказывал ее, как ребенка. Эдипов комплекс наоборот: он все же слишком хорошо знал своих авторов, чтобы играть в эти фрейдистские игры.
— Д… Д… Джесс. Она даже не обернулась. Пусть себе заикается. Жан, естественно, спешил на защиту самого слабого.
— Д… Д… Джесси. Она обернулась, удивившись: это был не Жан. Это был Поль, который почему-то заикался. Мертвенно-бледный. Даже его очки побледнели. Она испугалась.
— Инфаркт?
— Н… Нет. Он прислонился к стене, лицо у него было какое-то глупое. Он не мог вымолвить ни слова. Тут ворвался Жан и стрелой направился прямо к ней. Спокойный. Уверенный. Он взял ее за руку:
— Тяжелый удар, Джесс. Он хотел помочь ей сесть, но она оттолкнула его. Теперь уже и спрашивать было не о чем. Есть пределы тому, что может выдержать человеческое сердце, особенно когда оно на самом деле человеческое. После она будет говорить им: «Первым делом я, естественно, подумала про себя. Я решила, что я последняя дрянь». Поль хотел что-то сказать, потом махнул рукой и умолк.
— Он мертв, Джесс, — произнес вместо него Жан. Она вдруг стала смеяться. Было так смешно слышать, как Поль заикается, а Жан говорит без запинки. Шоковая терапия.
— Не надо истерик, Джесс. Только не ты. Слишком просто.
— Я смеюсь, потому что не ты теперь заикаешься, а Поль… Сердце?
— Нет. Его убили.
— Кого убили?
— Пуля в спину. Она услышала, как ее собственный голос откуда-то издалека говорил:
— Самсон Далила со своими кошечками.
— Джесс, подожди дурочку валять. Не пытайся увильнуть. Только не ты. Это совсем не для тебя.
— Я сказала: «Самсон Далила со своими кошечками». Я не брежу. Совсем наоборот. Это мир стал бредовым. И потом, они что же, не знали, что у нас дипломатическая неприкосновенность? Нас нельзя трогать.
— Джесс… Она не упала в обморок. Она не спряталась в нервном срыве, тем хуже для хороших манер. Она не получила право на традиционную пару пощечин, которыми обычно вас одаривают, чтобы доказать, что все поверили в вашу небольшую истерику. К черту обычаи. Убили мужчину. Ее мужчину. Раньше наши женщины умели еще и оружие в руках держать. Когда их муж падал, сраженный, рядом с ними, они не посылали за нюхательной солью, они продолжали стрелять.
— Кто? Почему? Жан не ответил. В первый раз у нее появилось ощущение нереальности: он выворачивал ящики, опрокидывал мебель, сломал лампу, разбил окно. Хладнокровно. С размеренным спокойствием. Потом он остановился посреди комнаты и огляделся:
— Так, годится, — сказал он. Ока закричала:
— Что это такое? Да что же это такое, наконец?
— Мы вызовем полицию, так что надо, чтобы все выглядело убедительно.
— Убедительно? Он подошел к ней, засунув руки в карманы. Она никогда его таким не видела: холодная, спокойная ярость. Поль следил за ним оторопевшим взглядом. Можно было подумать, что этот парень всю жизнь только и ждал настоящего тяжелого удара, чтобы проявить себя.
— Джесс, будут большие проблемы. Смотри. Он протянул на ладони золотые монеты.
— Я нашел их в машине. И еще другие. Много. Твой отец занимался контрабандой золота, Джесс. Нам-то плевать. Но полиции лучше ничего не знать об этом. Большую часть они, должно быть, забрали, но несколько штук выпало. Скажем, что твой отец, вернувшись, застал в доме грабителей, и они его убили. Ты меня слушаешь?
— Но я сама хотела сделать это для него, — сказала она.
— Что ты такое говоришь? Она встряхнула головой. Слезы, сейчас. А что остается? Он ее опередил. Она сама собиралась ради него возить золото, но он ее опередил и сделал это для нее. Кто-то, кто знал, что он загибается, пристроился к нему, конечно, эти номера с буквами «КК»… Она застыла. Сердце ее превратилось в ледышку. «Они нашли еще кого-то, Джесс. Кажется, этих табличек «КК», их в Женеве пруд пруди. Да, они говорят, что у них уже кто-то есть». Сияющий. Да, это она могла точно сказать: сияющий. С этой своей улыбкой пофигиста, лишь бы снег был что надо.
— Джесс, ты поняла?
— Поняла.
— Мы скажем полиции, что… Поняла. Они взяли их по отдельности, отца и дочь. С дочкой не все было гладко, но он старался как мог, зато с отцом все было гораздо проще. Всегда проще, когда вам больше нечего терять.
Она вдруг начала понимать, почему злость всегда так привлекала людей: она придавала смелости, небывалые силы, она несла вас. Если бы злость у людей стала иссякать, им в самом деле понадобилось бы мужество.
— Я вызываю полицию.
— Подожди минуту. Давай-ка повторим, что будем врать… Как так получилось, что золото оказалось в машине?
— А его там и не было. Об этом никто и не заикается. Я все собрал.
— Они будут осматривать машину. Поль, пойди проверь… Погоди. Помнится, кто-то хвастался пушкой. Он остановился на пороге, испуганно обернувшись.
— Да. И что?
— Ты мне ее одолжишь.
— Вот еще, ты что, с ума сошла?
— Я знаю, кто это сделал.
— Ну, так сообщи это полиции, и дело с концом, о чем речь!
— Нельзя. Иначе придется все признавать. Контрабанду золота. Всё. Они молча смотрели на нее.
— Всё, Джесс?
— Да, именно это я и говорю. Поль метнул на нее горящий взгляд, ничего не сказал и вышел.
— Это не твой парень, — сказал Жан. Она обернулась, испугавшись звука собственного голоса, в котором истерия переходила уже в грубую резкость, и слышалось еще что-то, более глубокое, что-то, в чем не было уже ничего женственного, это кричала дикая самка:
— Потому что ни один мужчина не способен на такую подлость, так? Невозможно себе представить! Это было бы впервые?
— Джесс, у них целая организация. С тех пор как во Франции ввели контроль за валютой, в игру уже вступили миллиарды, для перевозчиков. Миллиарды — люди серьезные. Они не станут доверяться какому-то двадцатилетнему шизику. Он, наверное, даже не в курсе. Она тупо уставилась на него:
— Что это еще за мужская солидарность? Теперь ты его защищаешь?
— Скорее, я пытаюсь защитить тебя, Джесс. Это было бы слишком, потерять все разом… Это не он. Это организация. Нужно ее разрушить.
— Это все ваше гадское общество нужно разрушить. Он удивленно посмотрел на нее:
— Наше? А ты, Джесс, что будет тогда с тобой?
— Я хочу загнуться, и чем скорее, тем лучше. С этой секунды, выражаясь политическим языком, я за все то, что против меня.
— Да, из-за личных интересов… — Он направился к телефону. — Сейчас не время говорить обо всем этом, но…
— Но? — … Есть еще социальное предназначение.
— Ты мне это уже сто раз повторял. Что именно это значит? Деньги?
— Посмотрим.
Глава XIII
Он прождал весь день, и всю ночь, и следующее утро. Ничего. Она не пришла. Может быть, это не было личное, может, ей просто надоело, любовь эта. Может, это было их дело — ее и любви, и он здесь ни при чем, и нечего было думать, что все кончено между ними двумя, если все было кончено между нею и любовью. Откуда знать? Дикие они здесь какие-то. У всех — мысли, мысли, это же просто невероятно, даже пятилетнему ребенку такое в голову не придет. Он явился в ОЗЖ и битый час проторчал в компании шимпанзе с лапой в гипсе и пекинесом, который не переставая чихал. Там со всех сторон что-то мяукало и гавкало, что ни говори, животные умеют общаться. Когда им больно, они непременно вам об этом сообщат. Наконец и к нему подошла дама с учетной карточкой и спросила: «У вас тоже кто-то заболел?» Он сказал «да» и вышел. Его достала эта девчонка, он уже не мог ни есть, ни спать, так она его достала. Он начинал даже чувствовать, что не может жить без нее, вот уж хохма, да, настоящая! Конечно, они в любом случае расстались бы, но все-таки есть разные способы, незачем было делать из этого трагедию, а она именно это и делала — настоящую трагедию.
В конце концов он почувствовал себя так мерзко, что отправился к негритянке, потому что он всегда чувствовал себя лучше с неграми. У них было огромное преимущество перед белыми: их было всего двадцать миллионов. Многовато, конечно, но все-таки лучше, чем двести. Когда вас всего двадцать миллионов, это значит, что вы еще можете ощущать себя кем-то. Когда же вас двести миллионов, это уже ничего не значит, вы — просто серая масса. Есть только большинство и полиция. Что до большинства, оно должно было бы быть упразднено демократией. Я не занимаюсь политикой, но я за демократию. А что такое демократия, черт возьми? Это — меньшинство. Негры. Мексиканцы. Пуэрториканцы. Неважно кто, главное, чтобы они не были в большинстве. С большинством демократия уже невозможна, остается одно большинство. Раньше в США было одно меньшинство. Им не пришло бы в голову отправиться подыхать в какой-нибудь Вьетнам. Оно же, меньшинство, и построило это хреново государство, а большинство им завладело. Так что, если вы вдруг спросите меня: «Какой ты придерживаешься политики, Ленни?» — я отвечу: «Моя политика — это меньшинство». К тому же сам я оно и есть: я — меньшинство, самое маленькое меньшинство, я им и останусь. Даже если мне придется карабкаться на вершину Шайдегга и там замерзнуть. Знаю, вам, наверное, смешно такое слышать, потому что американцев, их больше нет, а есть только двести миллионов с хвостиком чего-то, непонятно чего. Но сам я себя понимаю, и мне этого достаточно. Надо мной вечно подтрунивали из-за этой фотографии Гари Купера, но Куп, он всегда представлял собой лишь это: меньшинство. Он был настоящий американец, хотя мне она совершенно до лампочки, эта Америка, так, всё, передаем слово демографии и не будем больше об этом. Негры, вот они еще как-то держатся, их всего двадцать миллионов, это и есть последние американцы, негры-то, понятно, почему некоторые их на дух не переносят. Вообще-то плевал я на все это, но в данный момент я готов думать о чем угодно, только не об этой психичке. Нужно и в самом деле быть повернутой, чтобы превращать все в драму, тогда как мы могли бы спокойно расстаться через год или два, или еще позже. Я мог бы даже, ну, жениться на ней, что ли, мне-то плевать на все формальности, что вы хотите, я же, например, дал сделать себе прививку от холеры, от тифа, от желтой лихорадки, от всей этой заразы, которая у них там, в Европе. Я не хочу иметь ребенка, потому что я против жестокости, но если она хочет выйти за меня, если она хочет завести его, тогда ладно, я уже на все согласен, мне все равно.
Ему пришлось ждать под дверью, пока негритянка закончит с очередным клиентом. Потом он вошел и сразу кинулся открывать окно: там все провоняло белым. Не белыми, а белым. Небольшая разница.
— Хочешь что-нибудь перекусить, малыш?
— Ты меня вчера уже кормила, хватит.
— В холодильнике есть жареная курица. Он гадко посмотрел на нее:
— Сколько мужиков ты снимаешь за день?
— Хочешь подсчитать процентное соотношение?
— Почему ты не едешь обратно в Штаты, дурочка?
— А ты почему?
— Я — не негр. Мне нечего там делать.
— То есть если ты — негр, тебе там лучше, так?
— Еще как лучше!
— Как это? Объясни.
— Нечего тут объяснять. Это так, и все. Если бы я был негром, я бы и не подумал никуда дергаться из Штатов. Сегодня быть негром в США — значит быть кем-то. Это еще имеет какое-то значение. Ты знаешь, зачем ты там. Ты мне сама это сказала, когда мы встретились в первый раз. Та чайка… помнишь?
— Я просто устала. Он разглядывал ее необъятный зад и плейбойские буфера, пока она красилась перед зеркалом, совершенно голая. У нее в самом деле были отменные орудия четвертой власти: круглые, сбитые, упругие.
— Ты все по этой девчонке сохнешь?
— Какой девчонке? Она рассмеялась. Ее власти припустили галопом на месте. Он схватил пеньюар и бросил ей.
— Надень. А то мне зябко становится.
— Разве же я что говорю, мальчик? Где мое сердце? Ты не видишь, что я умираю от любви к тебе?
— Оставь это на будущее. Как-нибудь я не скажу тебе «нет». У тебя правда отличные бидоны, это уж точно.
— Она не вернулась?
— Что ж, приходят, уходят… Она как-то странно на него посмотрела:
— Ты видел газету?
— Какую газету? Она взяла со стола «Геральд трибюн».
— Может, тебе это будет интересно. «Дипломат Соединенных Штатов убит в Жен…» О, Боже мой, Боже. Он совсем обмяк, почти потек. К горлу подкатил ком.
— О, Боже, — сказал он.
— Вот тебе и «Боже». И взяли-то всего ничего: запонки да часы. А прочитай-ка это, вот здесь… Они уже прут с электрическими дубинками на «Гражданские права», там, в Миссисипи, чтобы их разгонять. Как стадо баранов. Я из-за этой статьи ее и оставила. Он вырвал газету у нее из рук и кинулся бегом на яхту. Сейчас он чувствовал себя гораздо лучше. Увереннее. Она не пришла, потому что у нее была уважительная причина. Самая уважительная. А теперь она придет, он был в этом уверен. Он читал и перечитывал статью раз сто, не меньше. Пара запонок и часы. Убить человека ради каких-то… Боже мой. Было пять часов утра. Он слышал, как встрепенулись первые чайки над водой, как сначала захлопали крылья, а потом раздались их крики, которые не умолкнут уже во весь день, эти крики отчаяния, будто и не чайки кричат, а вы, нет, следовало бы запретить такие крики в Швейцарии. Он услышал чьи-то шаги по трапу, вскочил с койки и встал как вкопанный: она спускалась ему навстречу.
Он сразу понял, что что-то не так. Не из-за отца, нет, что-то личное. Она смотрела ему прямо в глаза, как будто прицеливаясь, и тем не менее можно было подумать, что она вообще его не видит. Насквозь, ее взгляд проходил насквозь и шел дальше, вокруг света, и не упускал ничего, ничего на этом свете, можете мне поверить. Только свету было все равно. Смотри на него, хоть усмотрись. Свет — это сила. Кремень. Он уже открыл рот, чтобы сказать: «Дж-Джесс, это скверное дело, подлость сукина сына, кому, как не мне, это знать, мой отец тоже прошел через это, только его и правда ни за что, у него даже запонки с часами не взяли». Но его шибануло ее взглядом прямо в рожу, и он понял, что это было что-то личное, что это касалось его лично, а не вообще. Он чуть было не спросил: «Что случилось?», но в данных обстоятельствах это было не в тему. Он заткнулся. С горы Паломар, вот как она на него смотрела. Гора Паломар, знаете, где самый большой телескоп в мире. Как будто он был за миллион световых лет от нее, он даже начал чувствовать себя как нельзя лучше, будто его и вовсе здесь не было, чего же еще было просить? Черт возьми, почему? Что я ей сделал? Она заметила на койке «Трибюн». «Дипломат США, уб…».
— Что, Ленни, впервые о тебе пишут в газете? Ты, должно быть, доволен. Это, конечно, была чушь, но он не собирался ломать себе голову, чтобы понять чушь. Буг Моран говорил, что все усилия науки и философии направлены лишь на одно: понять чушь. Они называют ее «Вселенная». А это ведь было совсем не сложно. Стоило только послушать чаек.
Ну ладно, невозможно все время быть популярным. Даже Ди Маджио больше никого не впечатлял.
— Это скверное дело, Джесс. Настоящая подлость. Они нашли, кто это сделал?
— Нет, можешь не беспокоиться.
— Что это значит?
— Ты ничем не рискуешь, потому что я не стану говорить полиции, что мой отец занимался контрабандой золота и валюты через франко-швейцарскую границу. Скорее сдохну. Репутация, знаешь ли. Это становится самым важным на свете, когда умираешь. Можешь сказать своим дружкам, что им нечего бояться. Это останется между нами. Я не сказала полицейским, что это они его убили. Или ты.
Он так и стоял, ни о чем не думая, год, два… Все, что было у него в голове, это крики чаек. Потом он смутно расслышал свой собственный голос:
— В газете говорят, что… И больше ничего. Он замолчал. У него пропал голос. Да и ни к чему это было.
— Скажи мне, Ленни… можешь говорить откровенно, ты ничем не рискуешь. Честь прежде всего. Полиция совершенно ни о чем не подозревает. Аллан Донахью и его дочь вне всяких подозрений. Итак? Ты был в деле?
Это был самый смачный удар, который когда-либо доставался его физиономии, а доставалось ей столько, что он и счет уже потерял. Его пробрал смех. Такой веселый. Нет, правда. Это было очень смешно.
— Джесс, если бы я убил твоего отца, я бы сразу тебе сказал, без обиняков. Это первое, что я всегда говорю девушке.
Как там было, в этом сукияки великого Зиса, в настоящей библии, в новейшем завете? Я не трогаю отцов. На то есть куча молодцов. Нет, не это. На кой стрелять ее отца, Если овчинка не под песца? Нет, опять не то. А между тем сейчас как раз был нужный момент для настоящего перла восточной мудрости.
Каюк — брату, хана — отцу, Подлецу — все к лицу. Нет, у него в самом деле была плохая память на стихи, чтоб им всем!
— Я не убивал его, Джесс. Я не знаю, как это получилось, но я его не убивал. Должно быть, я думал о чем-то другом.
У нее покраснели глаза. Лицо было маленькое, будто растаяло, но твердое. Все остальное куда-то пропало. Ну и воля у этой девчонки, спорим, она даже чаек не слышит. Они не кричат для нее. Это для меня. Это Хемингуэй написал. По ком они кричат. Не спрашивай, по ком они кричат, они кричат по тебе.
— Джесс, я не смог бы убить человека, даже будь он твоим отцом. Во мне этого нет. Может быть, когда-нибудь, но пока я еще не дошел до этого. Для этого нужна зрелость. Мысли там всякие, идеи. Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спроси, что ты можешь сделать для твоей страны…
Он был так возмущен, что вынужден был улыбаться во весь рот, чтобы скрыть это. Он улыбался так, что штаны трещали по швам. Просто невыносимо, как она на него смотрела! Это был даже не взгляд, а стрихнин какой-то. Ему хотелось кричать: «Джесс, о, Джесс, Джесс!», но чайки опередили его, крича наперебой. О, да, непременно стоит пропадать целыми днями в ОЗЖ, ухаживая за собачками, чтобы потом прийти и смотреть вот так. Жестокое обращение с животными, вот что это такое.
— Я не одарен настолько, чтобы убить человека. Какой я герой?
— Мне все равно. Мне все равно, что ты убил моего отца, Ленни, лишь бы ты любил меня. Ему стало смешно.
— Занятно, твой отец делал это ради тебя, а ты собиралась делать то же самое ради него. Вы что, никогда друг с другом не разговаривали, что ли? Он не хотел этого говорить, просто он не так выразился, и тут ему показалось, что она сейчас упадет: она задрожала всем телом и оперлась о дверь, из глаз покатились слезы, и вот тебе, пожалуйста, — чайки, это было просто невероятно, даже если у него в самом сердце сидела одна и кричала, это все равно был обман зрения, или как там его…
— Джесс…
— Ты настоящая сволочь, Ленни. Он улыбался во всю мочь. Сиял как солнце.
— Что ты пытаешься мне объяснить, Джесс, что между нами все кончено? Что-то в этом роде? Потому что у меня такое впечатление, что жизнь только начинается. И правда: у него было впечатление, что жизнь только начинается, настолько все это было отвратительно.
— Неважно, Ленни. Я не за тем сюда пришла. Ты сейчас пойдешь к своему приятелю и скажешь ему, что я готова.
— Готова?
— Готова перевозить золото и все остальное, неважно что, мне плевать, и когда он захочет. Но пусть поторапливается. Через несколько дней дипномера уплывут. Я полагаю, нужно будет смотаться не один раз?
Он так и застыл с открытым ртом, глупо уставившись на нее. Это не имело ни малейшего намека на смысл, значит, это было серьезно.
— Джесс, — наконец сказал он. — Ты только что сказала, что мы убили твоего отца, и теперь ты хочешь работать на нас? Ты думаешь, что если я скажу это Анжи, он не умрет со смеху? Ты работаешь на полицию или что? Они всех нас перестреляют, ты это знаешь? Она уже готова была улыбнуться.
— А что это, Ленни, у тебя сразу вдруг появилось что-то ценное в жизни?
— Нет. Да, Ты. Ее как ужалило. Мгновение она колебалась, а потом вдруг посмотрела на него как-то иначе, будто им еще оставалось что-то.
— Хорошо, Джесс. Я поговорю с ним. Но не думаю, что он пойдет…
— Пойдет-пойдет. Он ничем не рискует. Абсолютно ничем. Я не хочу, чтобы его арестовали, потому что он скажет полиции, что мой отец занимался контрабандой. Действительно. Она была права. Этот Анжи ничем не рисковал. Золотая гарантия.
— Только это надо сделать сейчас же.
— О'кей. Я пошел. Он взял рубашку и стал ее натягивать через голову. Нырнув в нее, он на секунду остановился с поднятыми руками, уткнувшись носом в материю, и застыл так, выжидая. Как же называется это место в Азии, похоже на Внешнюю Монголию, только еще дальше? Эвтаназия, кажется, так. Он сказал, все так же не вылезая из-под рубашки:
— Я не убивал его. Я не знаю, кто его убил. Я не способен убить даже себя самого, с чего это я буду оказывать такую услугу какому-то типу, которого я даже не знаю? Я не джентльмен.
Она улыбнулась. Он все равно не мог ее видеть, забравшись с головой в свою рубашку. Один лишь клок светлых волос выглядывал из ворота: всё, что осталось от Гекльберри Финна.
— Пошевеливайся. Голос из-под рубашки грустно ответил:
— Эвтаназия, вот куда бы я хотел отправиться. Я не имею ни малейшего представления, где это, но для меня никогда не бывает слишком далеко, Вся эта история, что-то от нее уж слишком несло. Полное дерьмо, короче. Это был Мадагаскар, на этот раз настоящий, или он ничего не смыслил в географии. К тому же Анжи не пойдет.
Но Анжи завелся сразу, и зажигалку свою доставать не стал. Он встретил его там, над ночным клубом, с этим его мистером Джонсом. Ну и рожа была у этого типа, страшна, как греческая судьба, не о чем было и говорить!
— Анжи, я ему не доверяю. Это не по-божески, его проделки. Повторяю тебе еще раз…
— Она сказала, в одиннадцать?
— Да. Неподходящее время.
— Почему это?
— Не знаю, почему, неподходящее, и все, задницей чувствую. — Тот, другой, смотрел на него с усмешкой. — Позвони ей я скажи, что всё — о'кей.
— Все вы повернутые, и арабы, и… И тут он понял. Они слишком много знали, оба. Ленни и девчонка. Он умолк. Анжи надел свою шляпу. Даже этот обычный жест показался Ленни каким-то особенно зловещим.
— Ну что, Ленни, порядок?
— Да.
— Она права: она ничего не может сказать полиции. Из-за отца, ты понимаешь. Такие вещи, это святое. Память. У меня тоже отец погиб, я-то понимаю. Культ предков. У них в Алжире это чтят.
— Это ты его убил?
— Моего отца? Он хотел сказать: «Нет, ее», но это уже было ни к чему. Главное, что его убили. А он сам знал об этом предостаточно.
— К тому же, Ленни, мы предпримем небольшую предосторожность. У меня миллион долларов со страху загибается по ту сторону границы. А миллионы, у них, знаешь, слабое сердце. Нужно переправить его в Швейцарию, чтобы он смог наконец вздохнуть свободно. Я уже на две недели задержался. Это совсем не на пользу моей репутации.
— А потом?
— Что — потом?
— Нам заплатят, ей и мне? Ангел как будто даже удивился.
— Конечно.
— Что, серьезно? Ходячая помойка засомневался. Не нужно думать, что помойка — это что-то совершенное. Такого он не ожидал.
— Ты просто пустишь нас обоих в расход, вот и все.
— Зачем я стану это делать, Ленни?
— Я понял это по тому, как ты надел свою шляпу. Анжи обернулся к греческой судьбе. Какой фиг называться мистером Джонсом, если ты — грек. Кого он хотел обмануть?
— Он понял это по тому, как я надел шляпу. Судьба рассмеялся в ответ. Это было ужасно. Судьба же никогда не смеется. Или нет, она смеется все время, черт, откуда мне знать. Анжи смотрел на него с серьезным видом. Кодекс чести. У гангстеров он есть.
— Ничего не могу обещать тебе, Ленни. Но ты — славный малый. Посмотрим, что можно будет сделать для тебя… после.
Греческая судьба заржал: «Ха-ха-ха-ха», и тут же завоняло дерьмом и гнилью, с каждым его «ха» — все сильнее, не хватало разве что сыночка, который, отправив к праотцам своих родителей, выкалывает себе глаза.
Они точно их прирежут, обоих, вместе, это всегда хорошо кончается, как в кино. Впервые за долгое время что-то действительно складывалось удачно. Вместе. Даже забавно: она вообразила, что может так легко избавиться от него. Посмотрим, как у нее это получится, кинуть его, там, наверху, где нет ничего, кроме, пожалуй, трубы Чарли Паркера. И все же он сказал, пожав плечами:
— Она думает, что это ты убрал ее отца.
— Шутишь? Он, казалось, нисколько не удивился. Что с него взять, с помойки?
— Я не убиваю всех подряд, Ленни. Она что, за Наполеона меня держит? Ленни был поражен, он и не подозревал, что Анжи знает, кто такой Наполеон.
— Ну, если она подставит тебя, потом не говори, что это я виноват.
— Я вам вообще ничего не скажу. Можешь на меня положиться.
— Обещаешь? Анжи смотрел на него почти с любопытством:
— Ты какой-то не такой, как все америкашки. Сложный слишком. Обещаю, Ленни. Иди. Греческая судьба помалкивал. Он был здесь, и этого было уже более чем достаточно. Он вышел оттуда, насвистывая. Наконец-то замаячила Внешняя Монголия, и даже что-то еще дальше.
Он позвонил ей ровно в одиннадцать. Ее позвали в кабинку, да, Джесс, они согласны, сегодня, в два часа пополудни, в шести километрах от французской границы, там есть амбар, да, тот, что с вывеской «Чинзано», ты поняла, где это?
Поняла. Ровно в два. Буду. Она вернулась в бар, заплатила по счету; какой-то друг отца, которого она не знала, со светло-голубыми полинявшими глазами безнадежного алкоголика, подошел к ней выразить свои глубочайшие соболезнования, со стаканом мартини в руке. — … такой выдающийся человек. Я потерял очень дорогого друга. Она взглянула на его мартини:
— Да, понимаю, это как если бы он вернулся к Анонимным алкоголикам. Он, очевидно, оскорбившись, отвалил к своему столику. Одиннадцать десять. Она сгорала от нетерпения. Она чувствовала себя точно как Эйзенхауэр в самый важный день его жизни, разве что дождя не было.
В два часа дня она ждала в своем «триумфе» под вывеской «Чинзано». Стояла прекрасная погода. Развалюха-амбар лежал в руинах в двухстах метрах от дороги. Она поставила «Мессию» Генделя, этот небесный хор как нельзя лучше подходил для того, чтобы приветствовать прибытие огромной кучи денег: небу тоже не была чужда красота. В зеркале заднего вида она заметила зеленый «бьюик», который медленно катил по земле, за рулем был какой-то черный ворон, похожий на детскую игрушку на палочке. Ленни сидел сзади с одним из тех типов, которые выглядят будьте-нате, словом, подходящая упаковка для чего угодно, на выбор — от героина до пулемета. Не то чтобы она боялась, но ей показалось, что в небесном хоре «Мессии» зазвучала паника. Она взяла помаду и стала красить губы, глядя в зеркало заднего вида, пока они перекладывали чемодан в багажник «триумфа». Ленни уселся на сиденье рядом с ней и сунул ей ключи.
Она нажала на газ. «Бьюик» шпарил за ними в двадцати метрах, но она рассчитывала оторваться от них на таможне.